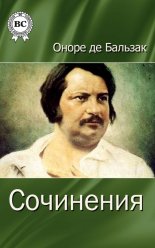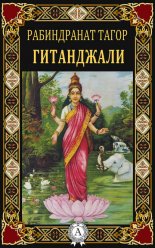Медальон льва и солнца Лесина Екатерина
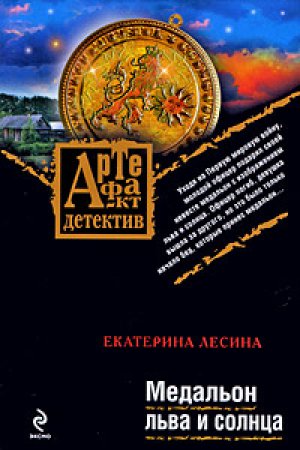
Сегодня? Сегодня он не будет, он ведь слово дал, что больше ни-ни… ну разве что полглотка пива, а то голова гудит, голову таблеткой не обманешь. И стихи напишет. Хорошие. Философские, про жизнь, которая в ладонях белым морским песком, норовит ускользнуть, просочиться сквозь пальцы, уходят лица-песчинки, и люди вместе с ними…
Он давно хотел написать такое, но с рифмой не ладилось. А сегодня выйдет, обязательно выйдет, он чувствует это шкурой, только здоровье чуть поправить надо. Всего полбокальчика, кому от этого будет плохо? Никому.
Я рисую солнце, нужно кувшин, а мне солнце хочется. И небо с тучами-зефиринами. Кисточка роняет в стакан каплю темно-синей гуаши, которая расползается осьминожкой – вчера на биологии нам про осьминогов рассказывали, и мне все думалось, какие они, теперь вот вижу: точь-в-точь как эта капля. Влажный лист норовит свернуться трубочкой, и приходится прижимать его руками, на манжете тотчас же проступает синее пятно краски, теперь Елена Павловна ругаться станет. Обидно. Но ничего, я нарисую ей солнце и подарю, вот просто за так…
Надо подождать, пока небо высохнет. Сидеть и ждать скучно, оглядываюсь – сзади Галька, высунув язык, сосредоточенно вырисовывает кувшин. Горлышко кривоватое вышло, и снизу он совсем не такой, но Галька старается. И спешит. А Людка почти дорисовала уже, она всегда все делает быстро и потому, по словам Елены Павловны, неаккуратно.
Небо досохло, теперь можно поставить солнце, облизываю кисточку – краска сладковатая, с привкусом мела – и, сунув в баночку с ярко-желтой краской, болтаю внутри, чтоб побольше набрать.
– Калягина, чем ты там опять занимаешься? – Зоя Михайловна, отложив журнал в сторону, поправляет очки.
– Рисую, – я осторожно ставлю точку в левом верхнем углу листа. Маленькую желтую точку на синем-синем фоне. Жалко, что белой гуаши нет, я бы облака подрисовала…
– Смотри, Калягина, – Зоя Михайловна грозит пальцем. У нее кольцо красивое, желтое с красным камушком, который то переливается в темный густой багрянец, то, наоборот, светлеет почти до прозрачного светло-розового.
– Смотри, – сердито повторяет Галька, отвлекаясь от рисования. – Схлопочешь пару, всех подведешь.
Подведу. Немного горько, но ведь рисовать небо интереснее, чем глиняный кувшин и желтое, прибитое с одного боку яблоко. Яблоко я бы лучше съела, но тогда точно получу, а тут… желтый круг вышел скучным, и я добавила капельку красного. Вышло похоже на глаз.
А почему и нет? Может, солнце – это тоже глаз? Кто-то сверху смотрит на людей, а они и не догадываются…
– Калягина, Калягина, – со вздохом произнесла Зоя Михайловна. И когда она только подойти успела? Наверное, когда я про солнце задумалась. – Ну что с тобою делать, а?
Не знаю.
Галька тайком показала кулак.
Тетка приехала на выходные. Хорошо, а то я уже соскучилась, на прошлые ведь ее не было, и на позапрошлые тоже, и до этого… давно не было, начинаешь считать дни, и страшно становится, поэтому и не считаю, просто радуюсь.
– Похудела, бедная моя. – Она гладит меня по голове и отчего-то краснеет, отводит глаза. – Плохо кормят?
– Нормально. – Мы сидим на лавочке, у самого забора. Отсюда корпуса не видно, точнее, только большое серое здание и блестки-окна, Галька, наверное, стоит, прижавшись носом к стеклу, смотрит. И Людка тоже, и Машка, и Женька с Юлькой… потом будут шепотом обсуждать и выспрашивать, о чем мы разговаривали.
И не поверят, что ни о чем.
С теткой разговаривать скучно, мы просто сидим.
– На вот, – тетка достала из сумки бидон. – Пюре и котлетки. Домашние. Для тебя жарила.
– Спасибо. – Я не люблю котлеты, но ем. А она смотрит. Смешная. Сегодня платок синий, а платье белое, нарядное, с блестящим пояском и золочеными пуговичками. Руки вот прежние, красные и некрасивые.
– Как учишься? – почему-то она всегда про учебу спрашивает. Разве это важно? Лучше бы про то, когда мне вернуться разрешат, сказала бы. Я очень хочу вернуться туда, на луг, к ромашковому морю, оно мне часто снится, но ведь сон – это не взаправду.
– Ты учись, Баська, учись. – Тетка снова проводит рукой по волосам, поправляет банты и опять вздыхает. – Выучишься – человеком станешь, может, даже медсестрой. Или учителкой вот.
Котлет много, они жирные и сытные, а пюре с подливкой, я и без того сытая, наедаюсь в три минуты, но продолжаю жевать, а тетка, глядя, только головой качает. Жалеет. А зачем жалеть? Пусть лучше приезжает чаще.
Дождавшись, пока я наемся (котлеты комом встают в горле), тетка протягивает коробку.
– На вот тебе.
Внутри будет зефир, она всегда зефир покупает, бело-розовый и нарядный, облаковый. С Галькой поделюсь, и с Людкой, и с остальными, выйдет по чуть-чуть, но зато честно.
В моей стране все-все делят по-честному.
– И вот еще, Берта, – тетка поднялась с лавки, отряхнула подол, и мне опять стало страшно. Она никогда не называла меня Бертой. – Ты уже большая, взрослая, шестой класс…
Коробку с зефиром сжимаю крепко-крепко. Глаза бы еще зажмурить, а не могу, гляжу снизу вверх, отсюда тетка большая, солидная, как памятник в райцентре.
– Больше приезжать я не смогу, Степан ругается. Да и за мамкой евоной пригляд нужен… ты уж пойми, как могли, так посодействовали твоему воспитанию. Но я о другом. Что Любка, сестра моя, померла, ты знаешь?
Знаю. Люба – это моя мама, это для нее я придумала страну, чтобы ей было где ждать, пока я не вырасту и не найду дорогу. А я найду когда-нибудь, обязательно.
– А вот про отца твоего… французик он, Берта, из приезжих. Поначалу с Любкой роману крутил, а потом умотал к себе, ее бросил… вот. И ни весточки, как есть позабыл про Любку.
Не понимаю, но слушаю. Коробка в руках смялась, и теперь зефир прилипнет к крышке, придется сколупывать пальцами, а Елена Павловна будет говорить, что мы безманерные. Глупое какое-то слово.
– Там это, фотокарточка, и медальонка, которую он ей оставил. Степка не велел отдавать. Ты не подумай, нам чужого не надо, но зачем тебе такая анкета, а?
Не знаю. А зачем мне вообще анкета? Спросить? Но тетка совсем-совсем чужая, как такую спрашивать?
– А я вот решила, что раз батька, то пущай будет. Оно ж в жизни по-всякому обернуться может, мало ли…
Она еще что-то говорила, моя-чужая тетка, только я не запомнила. Я ведь невнимательная, это все знают. А в коробке, кроме зефира, лежало две фотографии, желто-коричневых, строгих, с зубчатым краем и подписанных непонятно, и еще тонкая желтая цепочка с овальным медальоном. Если сбоку нажать, он раскрывался, правда, внутри пусто, но я что-нибудь придумаю, а пока и так носить можно. Медальон красивый, со львом, который в лапах солнце держит.
Тетка действительно больше не приезжала.
Семен
– Да ничего я не знаю! Ничегошеньки. – Татьяна Васильевна зло раздавила окурок в пепельнице и закрыла лицо ладонями. Плечи под тонкой белой тканью блузы дрогнули, подались вперед, четче обрисовывая широкие треугольники лопаток. – Господи, когда это кончится-то!
– Что кончится? – вежливо поинтересовался Венька, присаживаясь на пластиковый стул. Семен вот присесть не рискнул, очень уж ненадежною выглядела мебель, еще треснет или, хуже того, разломается, придется потом объяснительные писать. Уж лучше он под яблонькою постоит…
– Все! Все кончится! Когда ж они отстанут! Да я с Людкой сто лет не виделась, понимаете? Я вообще не знала, что она приехала! Она ж теперь крутая стала… – Кривоватая улыбка, асимметричные, резкие черты лица, крашенные в медно-рыжий цвет волосы и такая же, медно-рыжая, сухая, украшенная ранними морщинами кожа. Татьяна Васильевна если и была красавицей, то очень давно.
– Что? Нехороша, да? – Она вдруг обернулась, полоснула злым обжигающим взглядом. – А Людка, значит, хороша? Стерва!
– Татьяна Васильевна, успокойтесь, расскажите обо всем, что случилось… когда вы познакомились с Людмилой?
– Когда? Да в детском саду еще, ее Берта привела. – Петрушова вздохнула, потянулась за пачкой сигарет и, вытащив одну, спросила: – Огоньку не найдется?
– Пожалуйста, – Венька предупредительно щелкнул зажигалкой.
– Вот, Берта, значит… представляете, она такая красивая была. Я до сих пор помню, честно! Белое платье в черный горох, юбка широкая, солнышком, ворот треугольником, пояс красный, блестящий. И туфельки красные…
– У Берты?
– Ага. Я никогда таких, как она, не видела… и еще духи, не «Красная Москва», как у мамки, другие… а Милка, Милка вот обычной была. Никакой. Вечно спала, что в саду, что в школе на уроках, что потом. Нет, тупой не была, наоборот даже, вроде и продремлет все, а начнешь спрашивать – знает, вот хоть слово в слово повторит. И память у нее хорошая… была. А вот характера никакого. Так мне казалось. – Она стряхнула пепел на землю, вздохнула и продолжила: – Мне Милка вообще не нравилась, но Берта… из-за нее я в доме любила бывать. И из-за Сары тоже, они вместе жили… Вы когда-нибудь слушали патефон? Труба желтая, блестящая, как ракушка морская, ручку накручиваешь, стараясь не пережать, чтоб пружина не сломалась, и потом пускаешь, и пластинку наверх кладешь, и лапку с иглой вниз…
На зеленый, опушенный плотным войлоком тонких волосков лист присел шмель, потоптался, разворачиваясь, и с тихим гулом поднялся в воздух.
– У них в доме много всяких вещей было и кроме патефона. Книги вот… или альбомы, фотокарточки старые, коричнево-желтые, с вырезанными краями и надписями непонятными, а там дамы в таких вот, – Татьяна Васильевна прочертила в воздухе неровный круг, – шляпках и платьях до земли. И кавалеры. И коляски, лошади… все такое смешное, будто ненастоящее. Еще у бабы Сары карты были, таро, самые настоящие, она их иногда раскладывала, просто, для себя, но потом мешала и смеялась, говорила, что на себя не гадают, нельзя… вот…
– А Людмила? – тихо уточнил Венька, рукой отгоняя назойливого шмеля, может быть, того самого, который сидел на яблоневом листе.
– А Людмила на мать дулась, всегда причем. Вот вслух вроде ничего не говорит, но иногда… понимаете, у Людки взгляд такой, вот вроде мельком, мимолетом, а точно резанет. – Татьяна Васильевна вздрогнула и поежилась, хотя на улице было жарко, очень жарко. Шея уже не чесалась – пекла, а к вечеру пойдет пузырьками ожогов, придется мазями мазать и терпеть, а Машка еще и ругаться станет. И Венька ее с охотою поддержит, как всегда. Подкаблучник.
– Вы это, давайте в дом пройдете? – Петрушова вскочила, и легкий стул от толчка опрокинулся, но не упал, подпертый зеленым лохматым кустом шиповника. – В доме лучше будет. Не так жарко!
Она говорила громко, и отчего-то Семен сразу понял, что не в жаре дело, точнее, не только в ней, уж больно у Татьяны глаза стали испуганными. Семен обернулся – ничего. За забором пустая улица с желтою в выбоинах и яминах дорогою, с обеих сторон которой щетинилась низкая крапива. Дом напротив старый, но вроде как жилой – дверь открыта, ветер шевелит белую штору, во дворе куры копошатся, и рыжая собачонка, сунув лисью морду между штакетинами, печально смотрит на дорогу.
Ничего и никого. Кого она испугалась?
– В дом, в дом давайте. – Татьяна открыла дверь, откинула зеленую москитную сетку и шмыгнула внутрь, предупредив: – Осторожно, тут порожек!
Семену пришлось пригибаться, уж больно дверь была низкою. В сенях пахло травами, духами и кислым молоком, а в самом доме – хвоей и чем-то еще, резким и тягучим.
– Глянь, – Венька ткнул локтем и кивком указал на окно. В уголке, там, где за гвоздь крепилась толстая нить с натянутым тюлем, торчал сухой веник травы. И с другой стороны окна тоже. И над дверью, тут Семен сам заметил, без Венькиной подсказки. Для запаха она, что ли?
– Полынь это, и багульник, полынь, душица и крапива, – пояснила Татьяна, устало опускаясь на стул. – От наговоров, чтоб перестали, а то сплетничают и сплетничают… вы присаживайтесь, а то говорить долго.
В комнатке было чисто, неестественно чисто, будто бы и не жилая она. На полу лежали две узкие дорожки в сине-желто-зеленую полосу, в центре, прямо на их пересечении, примостился круглый стол на широкой резной ножке, в углу – массивный шкаф с торчащим из двери ключом. А на противоположной окну стене висели иконы. Штук десять, от крохотных, которые и пальцем накрыть можно, до большой, в метр высотой, оклад из желтой латуни, закованный в тяжеленную раму и натертый до блеска.
– Божья матерь да поможет, – Татьяна перекрестилась. – Божья матерь помогла, избавила, спасительница, вывела… Господи, да не думайте вы, я ж понимаю, что плохо так говорить, но мне легче. Мне стало намного легче, когда вы сказали, что она умерла… утонула. Ведьма да воды убоится. Людка с детства боялась, все на речку купаться, а она и к бережку не подойдет.
– Почему? – Венька присел напротив свидетельницы, локти на стол положил, по-хозяйски отодвинул вазочку синего стекла, из которой серо-зеленым веником торчали травы.
– Потому что ведьма она.
– Людмила?
– Людка. Я сумасшедшая, думаете? Нет, не сумасшедшая, у нас все знали, что Людка от Берты научилась, как та от бабы Сары, только баба Сара и Берта добрыми были, а Людка совсем даже наоборот. Но я ж по порядку хотела… Господи, боже ты мой, с чего начать-то? Я про Берту рассказала, да?
– Да, – подтвердил Семен. Сесть он решил на диван, низкий, с желтой в белую крапину обивкой и обшарпанными подлокотниками. Диван затрещал, но выдержал, а иконы поглядели с укоризной.
– Берта, она актрисой была… только не любила говорить об этом, будто боялась чего или просто не сложилось. А потом уже шить начала, вот где талант! К ним с бабой Сарой все бегали, не любили, а бегали, в магазине-то приличного платья не купишь, а они из ничего буквально… А Людка мать швеею за спиной звала. – Татьянины глаза полыхнули злостью, но тут же погасли, подернулись прозрачной пленочкою слез. – Что я говорю, боже, что говорю… нельзя ведь о мертвых, Господи! Я ж правду рассказать хотела, только правду. Берта Людку учила, а та учиться не хотела, я не знаю почему, чем она так на мать обижена была, наверное, тем, что Берта красивая, ее все просто так любили, а Людку терпели, потому как зануда и нытик. А потом Берта умерла.
– От чего?
– От рака, последняя стадия, когда уже все… долго мучилась… врач приезжал, уколы делал и все такое. А в больницу не забрали. Я до сих пор пытаюсь понять, почему ее в больницу не забрали? Должны ведь были, верно?
– Ну… – Венька пожал плечами. – Наверное, должны.
– А ее не забирали, Людка все твердила, что Берта сама отказалась, все равно ничего сделать было невозможно, а умирать там она не хотела. Наши-то, местные, живо сказку придумали, мол, ведьмина душа мучится… нечего было ей мучится, не было за Бертой ничего такого, чтоб так уходить.
– А за дочерью ее? Извините, мне показалось, что у вас есть причины ее недолюбливать…
– Людку? Верно сказали, недолюбливаю. Недолюбливала, – поправилась Татьяна и вытащила из кармана пачку сигарет. Положила на стол, погладила, точно раздумывая, закуривать или нет, потом достала одну и принялась вертеть в пальцах. – Нет, раньше-то, после Бертиной смерти, ее поначалу жалели: сиротка, бедная. Ну, а я с ней еще со школы. Подругой считала, знаете, как бывает, вроде человек не очень и нравится, а ты уже привык к нему.
Венька кивнул. И Семен тоже, просто чтоб хоть как-то в разговоре поучаствовать. В хате было прохладно, отчего зуд в обожженной шее чуть приутих. А еще было скучно. Ведьмы, Берта какая-то… какого фига Венька слушает все эти страсти столетней давности, кому они теперь интересны-то? Про утопленницу спрашивать надо.
– Мы с ней вообще долго были, когда уже и не подруги, но и не враги. А потом… потом она… вы ведь все равно узнаете, расскажут. У нас любят языками чесать, заняться больше нечем. – Татьяна убрала за ухо выбившийся локон, выпрямилась, вдохнула глубоко и заговорила: – Мы с Людкой когда в городе были, знаете, работы нет, точнее, есть, но охота разве подъезды мыть? Или на рынках мерзнуть? Да и то, ведь если б просто торговать, это одно, а тут и торговать, и… от хозяина не больно-то отмахнешься. Вот Людка и предложила. Поработать. Немного.
– В смысле… – Венька оглянулся, ища поддержки. А чего его поддерживать, ясно ж говорит, кем и чем работали, вот номер-то… красивая же. Не эта, свидетельница которая, затурканная, запуганная, поблекшая и постаревшая, неуловимо похожая на все иконы сразу, только не красотой, а запыленностью и заброшенностью. Покойница красивая.
– Без смысла, – резко оборвала Татьяна. – Какой тут смысл. Людка быстро сообразила, что к чему. Поначалу сами работали, а потом под Мариком ходили… Людка его быстро в оборот взяла, дальше пошла, выше. Карьера, мать ее…
Она оглянулась на иконы и, перекрестившись, пробормотала:
– Прости, Господи. Ну а со мной вроде как дружить продолжала, а я с нею, держались друг друга. Потом я уйти захотела, завязать, парня встретила, он не знал ничего, понадеялась – сложится семья, дети, не нужны мне деньги, ничего не нужно, лишь бы в покое оставили. Я бы заплатила отступных. И Марик вроде согласился, а потом… потом ему позвонили и рассказали про меня.
– Марику?
– Да нет, жениху моему несостоявшемуся. – Татьяна смахнула несуществующие слезы. – И ведь Людка, некому больше. Да и не скрывала она. Я спрашиваю – зачем? А она смеется только, говорит, что обо мне ж заботилась, проверяла, вправду ли он меня любит. Если б любил, не бросил бы, несмотря ни на что! И что себе именно такого найдет, чтоб любил, значит, чтоб не бросил, как мамку, и что нельзя фантазиями жить.
– Ну а потом что? – Семен отодвинулся от окна, подальше от вонючих букетов.
– Потом? Женька мой и вправду дерьмом оказался, начал пить и рассказывать, какая я стерва, обмануть его хотела, слухи поползли, хоть опять в город уезжай. А куда уедешь? Снова к Марику? Не-а, с этим все, нагулялась. А что тут обо мне говорят, так пусть хоть заговорятся, плевать. С Людкой вот разошлась, или она со мной. Ну с того разговора больше не показывалась, даже когда в санаторий работать пошла.
– В «Лебедушку», что ли? – поинтересовался Венька.
– «Лебедушкой» он раньше был, теперь по-новому называется, «Колдовские сны» вроде, самое место для Людки. Она там вроде при начальстве… и жила даже, не знаю, здесь редко показывалась, дом этот с детства не любила, и ко мне ни ногой. И я к ней. Хватит, надружились… и вообще…
Татьяна замолчала, скомкала измятую, истрепанную сигарету, смахнула табачные крошки в ладонь и высыпала в глиняную кружку.
– Что вообще?
– Вообще надо было помнить, что у ведьм подружек не бывает, они сами по себе.
«Сегодня свела знакомство с премилым офицером. Он симпатичен мне уже тем, что не пытался читать стихи. Единственно удивляет, что нам не доводилось встречаться прежде, ведь Москва не так и велика. Его зовут (зачеркнуто)… нет, пожалуй, не буду изменять правилу, хватит и одной буквы – Л. Забавно, в алфавите Л. и Н. почти рядышком стоят. Н.Б.».
«Л. забавен, он так глядит на меня, что это просто неприлично, хотя неимоверно приятно. У него красивые глаза, да и форма ему идет. А еще серьезность, с которой он говорит о политике и необходимости реформ, о городах, в которых довелось побывать, – Вена, Лондон, Париж, Венеция… а я-то никуда дальше тетушкиной дачи в Подмосковье и не выезжала. Немного завидую, но все же мне нравятся его рассказы.
И матушка довольна, она полагает его хорошей партией, но я о замужестве пока не думаю. Завтра мы идем в оперетту. Н.Б.».
«Я влюблена, и это замечательно. Я как будто птица или бабочка, свободная и счастливая до того, что сердце порой сжимается в страхе, потому как подобное счастье не может быть долгим.
Вчера Л. поцеловал меня. И боязно, и нет желанья быть одной из тех барышень, которые с любой самой малой вольности готовы лишиться чувств.
Поцелуй – это большая вольность или нет? Матушка уверена, что у Л. – серьезные намерения, это успокаивает. Нет, он – благородный человек, я верю каждому слову, но все же… порой становится страшно. Н.Б.».
Марта
Высокий забор из темно-зеленых узких штакетин, заостренных сверху, и кованая, выкрашенная в солнечно-желтый цвет калитка, на которой висела перекошенная табличка «Колдовские сны». За забором начинались густые заросли кустарника, усыпанного мелкими розовыми цветочками, а дальше, за живой стеной, виднелись деревья и даже вроде бы угол дома.
Странное место.
Стоянка для автомобилей располагалась с другой стороны и была отделена от территории пансионата глухой бетонной стеной, пришлось обходить, благо тропа, выложенная красным выщербленным кирпичом, не позволила заблудиться. Правда, на калитке замок висел.
– Эй, есть тут кто? – Я подергала калитку, просунув руку между прутьев, потрогала замок, увесистый, тяжелый, скользкий. На пальцах остались темно-коричневые масляные пятна. – Эй!
Отдых начинался удачно. Везение продолжалось.
– Э-ге-гей! Откройте!
Положение более чем идиотское, а я ненавижу попадать в идиотские положения. И тут же стало смешно: Господи, что меня волнует? Мне жить осталось всего ничего, а я переживаю по поводу какой-то ерунды. И набрав воздуху в легкие, я заорала:
– Э-ге-ге-гей! Есть кто живой?!
– Чего орешь? – Из-за кустов выглянул дед, в одной руке он сжимал ножницы, в другой – перчатки. – Приезжая, что ль?
– Приезжая.
– Ну так упреждать надо… я им говорю, упреждайте, если кого ждете, а то ж… никогда, вот никогдашеньки никто ни словечка не скажет, а потом навроде тебя заявятся и жалиться начинают, дескать, закрыто… а где ж видано, чтоб открытыми вороты держать-то?
Ножницы и перчатки он сунул за пояс и, достав из кармана ключ, принялся возиться с замком. И ворчать не перестал. Странный человек из странного места. Белая всклокоченная борода, бандана в буро-зеленых разводах, мешковатые джинсы и байковая рубаха в клетку.
Калитка отворилась с тихим скрипом, и старик, махнув рукой куда-то вглубь, велел:
– По дорожке прямо иди, аккурат к администрации и выйдешь.
– Спасибо.
Он не ответил, отвернулся и, надев перчатки, возобновил прерванное занятие. Защелкали садовые ножницы, затрещали перерезаемые ветки, посыпались на землю рваные листья и мелкие розовые цветы, почти лишенные запаха.
Странное место.
– Значит, Викентий Павлович рекомендовал? – Валентина Степановна разглядывала меня с удивлением и некоторым сомнением. Сама она вполне вписывалась в перечень странностей этого места. Красива. Даже очень красивая. Этакая роковая брюнетка в возрасте «вечные слегка за тридцать», знойное очарование женского полдня, расплавленная карамель кожи, дегтярный кофе волос, влажноватые, поблескивающие непролитыми о разбитых сердцах слезами глаза и мягкие, мармеладные губы.
Ненавижу мармелад. И директриса мне не нравится. Директрисам положена монументальная солидность в стиле советского конструктивизма, тяжеловесность форм и строгость линий, костюма ли, прически либо растоптанных туфель на низком каблуке. А тут иное, совершенно иное.
– Порекомендовал.
– Понимаете… – Она поднялась, вышла из-за стола и, одернув белоснежный, накрахмаленный до жесткости халат, на котором редкие складки виделись изломами, заговорила, глядя в глаза: – Видите ли, уважаемая Марта Константиновна, боюсь, что на сей раз Викентий Павлович совершил ошибку…
Тяжелые ресницы, тяжелые веки, радужная пыльца теней и легкие мазки подводки, придающие глазам некоторую восточную раскосость. Милая дамская ложь.
– Боюсь, вам у нас не понравится.
Мне уже не нравилось. Пасторальный пейзаж: цветущие деревья, жужжащие пчелы, поющие птички, пряничные домики с красными крышами и белыми стенами – слишком сладостно, слишком нарочито. Но дело не в этом, дело в Валентине Степановне, которой совершенно не хочется пускать меня в свой псевдосельский рай.
– Понимаете, у нас здесь публика… особая. У нас нет баров, ресторанов, дискотек… мы не задаемся целью развлечь клиентов. Как ни парадоксально звучит, но люди приезжают сюда отдохнуть от развлечений. Встретиться с собой, если хотите, вернуть себя, почувствовать иную жизнь.
– Значит, это то, что нужно. Я тоже хочу почувствовать жизнь.
Мармеладные губы расплылись в улыбке.
– Тогда… тогда придется ознакомить вас с некоторыми правилами. Во-первых, мы очень высоко ценим право клиентов на уединенность. Если кто-то из наших постояльцев начинает досаждать прочим, то, увы, нам приходится с ним распрощаться… деньги, естественно, не возвращаются. Во-вторых, мы не одобряем посторонних визитов – родственники, друзья и прочее, прочее, прочее. Люди обладают поразительной способностью мешать друг другу. В-третьих, мы бы просили избегать шумных развлечений. Из остального – полный пансион, возможно спецменю, столовая работает с семи утра и до одиннадцати вечера, график посещения свободный, любые ваши требования исполняются по согласованию с администрацией. Если условия устраивают, то… – Директриса взяла стопку листов, соединенных розовой скрепкой: – Это контракт на оказание услуг. Все оговоренные мной условия прописаны в нем, поэтому прошу ознакомиться и, если нет возражений, поставить свою подпись.
Ознакомляюсь я долго, исключительно чтобы позлить черноволосую стервь, но она не злилась, сидела себе за столом, подперев ладонью подбородок, разглядывала то ли меня, то ли окно.
А домик мне достался под номером тринадцать. Забавно.
Никита
Ну и захолустье! Хотя даже прикольно, если подумать, давненько он в таких вот совковых кантри-клабах не отдыхал. В последний раз, наверное, в Крыму, когда с мамкой на море по путевке в санаторий поехали. Когда ж это было? Давно, дьявольски давно, а будто бы в детство вернулся. Красная ковровая дорожка с зеленым бордюром, тяжелые шторы, тоже красные, точно из той же дорожки сшитые, массивный стол, кровать полутораспальная и покрывало на ней с кантиком, ну аккурат как в армии.
Хотя нет, от армии бог миловал, Бальчевский, ехидна, постоянно припоминает, дескать, с такой-то фамилией и откосить, ну да ну его, Бальчевского.
А пансионат все равно отстой, за такие бабки могли б чего и поуютнее предложить, а тут телика и того нету… все-таки свинство, какой отдых без телика?
И без бара.
Твою ж мать!
Нет, пить Никита не собирался, не для этого ехал, просто… просто в приличном номере приличного заведения полагается быть бару, упрятанному где-нибудь… вот, к примеру, в ящике стола.
Жуков выдвинул один, потом второй, но единственной добычей стал блокнот и карандашный огрызок. Ничего, тоже пригодятся, стихи писать. В шкафу бара тоже не нашлось, и в комоде, и в стенах, которые Никита простукивал с особой тщательностью, звук везде получался одинаково глухим, зато костяшки заболели, а в одном из углов еще и на гвоздь угораздило напороться.
– Твою ж мать! – повторил Никита вслух, слизывая капельку крови. Стало чуть легче.
В дверь вежливо постучали. Горничная? Своевременно, нечего сказать.
– Войдите! – крикнул Никита и руку поцарапанную за спину спрятал. Потом подумал, что это совсем по-идиотски выглядит, и сунул в карман.
– Добрый день, рады приветствовать вас в пансионате «Колдовские сны», – глубоким грудным голосом промурлыкала горничная. Или не горничная? Нет, не горничная, больно уверенно держится, вон как вошла, руки в карманах халатика, походка модельная, подбородок задран, взгляд скучающий.
А сама ничего, гладенькая, сладенькая, с бесом в глазах. Брюнеточка, смугляночка… чего там еще из рифмы-то? Рифм больше не было, и Никита, привычно огорчившись, буркнул:
– И вам здрасте.
Краля величественно кивнула и, повернувшись на каблуках – теперь стал виден профиль, ничего, не хуже анфаса, хоть садись и рисуй, – продолжила приветственную речь:
– От имени администрации приношу свои извинения по поводу номера. Увы, в заказанном для вас домике, господин Жуков, случился небольшой… пожар.
– Печально.
– Очень, – она говорила, глядя снизу вверх, доверительно и приглашающе, так, что в висках забумкало, застучало. – А единственный номер, оказавшийся свободным, – этот. Вы не волнуйтесь, как только появится возможность, мы вас переселим. И разницу в цене, естественно, возместим.
– Хорошо. Ну, что возместите, хорошо. – Голова неожиданно закружилась. Прилечь надо, тогда все пройдет, он просто устал. Переутомился. И к воздуху чистому он непривычен.
– Значит, могу я считать, что это мелкое недоразумение улажено… полюбовно? – Темные глаза призывно блеснули. Или показалось?
– Улажено. – В конце концов, приходилось жить в номерах и похуже, а тут ничего вроде. Да и на пару дней всего, перетерпит как-нибудь.
– Благодарю вас за понимание, – она шагнула навстречу, оказавшись близко-близко. А халатик-то на двух пуговках только и держится, шпилечка в волосах, вытащи – распадутся, рассыплются тяжелой смоляной волной…
Духи у нее отвратные, липкие какие-то, на туалетную воду, которую Бальчевский использует, похожи, от их запаха тоже мутить начинает. Вот позору будет, если его сейчас на этот накрахмаленный халатик вывернет…
Жуков отступил на шаг и налетел на стол.
– Осторожнее, – мурлыкнула администраторша, но ближе подходить, слава богу, не стала. Господи ты боже, это что с ним такое? Как беременную женщину, от запахов мутит.
Бальчевский сказал бы, что это от водяры, Бальчевский его алкашом считает, но Никита не алкаш, он просто устает. И бар в номере ему совсем не нужен. Вот разве что для порядку.
– А бар тут где?
– Бар? – Ровные дуги бровей приподнялись.
– Ну да, бар, пиво там, винчик, коньячок… я вообще-то непривередливый.
– Ах, бар, – она мило улыбнулась. – Боюсь, господин Жуков, вас неверно проинформировали. На территории санатория нет бара, да и распитие спиртных напитков не приветствуется. Желаю хорошего отдыха! Да и, господин Жуков, если вам что-то понадобится, кроме спиртного, то ресепшен – 101 или 102 по внутреннему.
И ушла.
Строчки, строчки, строчки, на тропинки похожи. Игла пробивает ткань быстро-быстро, значит, не больно, и выстраивает, вытягивает синюю цепочку шва.
– Калягина! – Вера Алексеевна возникла неожиданно, и снова смешно, она такая большая, толстая, неповоротливая, как у нее получается появляться «вдруг»? – Ты посмотри, что ты делаешь, а? Ты б головой своей посмотрела, что делаешь!
Смотрю, правда, не головой, а глазами, и расстраиваюсь. Ну вот, опять: по синей ткани морозными узорами расползаются, переплетаясь друг с другом, швы.
– Дура ты, Калягина! – Вера Алексеевна отвесила подзатыльник. Не больно, совсем-совсем не больно, обидно только – в моей стране никто никогда никого не бьет.
– Сил на тебя никаких нету! – Она прижала руку к груди, вздохнула, стряхнула прилипшие к халату нитки – синие и белые и еще немного желтых, но не ярких, солнечных, а выцветших, бледных, точно состарившихся. – И кем ты, Калягина, будешь? Вот вырастешь, выйдешь отсюда и что, на шею государству сядешь?
Стрекот швейных машинок стих, Галька, поджав губы, покачала головой, у Гальки все строчки правильные, ровные, аккуратные, ее Вера Алексеевна всегда хвалит, а Людке вот за неаккуратность достается, но все равно меньше, чем мне.
– В Советском Союзе тунеядцам места нету! – Вера Алексеевна огляделась – все ли слушают. – Государство вам в руки профессию дает, а Калягина вот не желает на швею учиться. Калягина у нас особенная, ей другого чего подавай!
Когда Вера Алексеевна так говорит, мне становится стыдно. Немного. Но потом я вспоминаю свою страну, ту, где вечером солнце засыпает в львиных лапах и никто не делает то, что ему не нравится.
Мне не нравится шить фартуки. Они одинаковые.
В моей стране каждая вещь особенная.
– Эх, Калягина, Калягина… – Вера Алексеевна качает головой и зачем-то добавляет: – В артистки тебе надо.
Странным образом ее то ли пожелание, то ли предсказание сбылось.
Мы ставим «Гамлета». Шекспир. Елена Павловна произносит эти слова с придыханием и глаза закатывает, словно пытаясь разглядеть на потолке нечто такое, особенное. Я тоже смотрю, но ничего не вижу, потолок как потолок, белый, вернее, выбеленный, но в углах уже потемневший, поплывший сырыми пятнами, которые, когда снова станут белить, будут закрашивать с особой тщательностью. По осени пятна все равно проступят, попортив толстый слой известки.
Но я не о пятнах хотела, а о Шекспире. Елена Павловна говорит, что Шекспир – это классика, а классику нужно понимать правильно, и рассказывает, что это значит. Я слушаю, и Галька, и Людка, которая быстро начинает скучать и позевывать тайком. Но как доходит до распределения ролей, ее сонливость моментально проходит. Людка мечтает сыграть Офелию и, конечно же, получает роль. Елена Павловна считает, что Людка для таких ролей и создана. А я немного завидую, мне тоже хочется быть Офелией, или Гамлетом, как Галька, а вместо этого мне достается королева. Елена Павловна говорит, что кто-то должен играть и отрицательные роли.
Елена Павловна требует показать всю глубину падения Гертруды, предавшей сына и мужа. Елена Павловна недовольна… у Людки получается, у Гальки тоже, а у меня нет. Это потому, что я не понимаю роли. Объясняют, а я все равно не понимаю.
– Калягина, Калягина. – Елена Павловна подымается с кресла, обмахиваясь веером из бело-черных листов. Белая бумага, черные буквы, одна за другой, как давешние строчки на синей ткани. – Калягина, ну подумай, какова твоя героиня, а?
У Елены Павловны строгие глаза и ресницы, слипшиеся друг с другом, подчерненные тушью «Ленинград» и оттого очень выразительные. Мне туши не положено, потому что я – не Офелия, Офелии нужно быть красивой, а у меня – отрицательный персонаж.
Еще от Елены Павловны пахнет «Красной Москвой»: терпкий-терпкий аромат, который отчего-то напоминает о недозревших яблоках в нашем саду. И о зеленых сливах с мягкими белыми косточками.
– Калягина, ты должна показать, что королева – жестокая самолюбивая женщина…
Почему жестокая? Не понимаю, опять не понимаю. Зачем жалеть Офелию, которая сама отказалась от жизни? Почему нельзя жалеть Гертруду? Она ведь просто хотела быть счастливой. Разве это запрещено?
В моей стране не будет несчастных людей.
– Смотри, Калягина, если мы провалим областной смотр… – Елена Павловна выразительно подымает брови, и Галька-Гамлет следует ее примеру. Только получается смешно – светлые и лохматые, Галькины брови уползают под синий бархат берета, а глаза становятся круглыми, выпученными, как у рыбы-телескопа.
– Так, девочки, – Елена Павловна громко хлопает в ладоши, – давайте с самого начала…
Декорации пахнут краской и растворителем, а еще немного деревом. Мне нравится вдыхать эти запахи, и смотреть, и гладить шероховатую, в капельках застывшей краски, поверхность. И представлять, что если бы на самом деле… если бы я на самом деле была Гертрудой, то… то никогда не допустила бы дуэли.
В кубке вода, но горькая, и кажется, будто и вправду яд, от него горло сдавливает и в глазах темнеет, и онемевшие губы теряют слова. Нельзя забывать роль, и я пытаюсь доиграть…
– Молодец, Калягина, ну хоть что-то. – Елена Павловна хлопает, вяло, но от этого звука наваждение исчезает, оставив во рту терпкий привкус яда. Как «Красная Москва», а вот на сливы и яблоки совсем даже не похоже.
Ночью долго не могу заснуть, все думаю о том, что это несправедливо – умирать за кого-то, и что Шекспир был очень злым. И несправедливым.
Никита
– Жорка, ты куда меня отправил? – Жуков старался не сорваться на крик. Пить хотелось, он пил, воду, минералку, сок, газировку, снова сок, квас… горничные уже, наверно, задолбались заказы исполнять, а ему все равно хотелось пить. А еще рвало, от всего, даже от воды. Точнее, особенно от воды. Один глоток – и выворачивает буквально наизнанку.
Страшно. И обидно. И знобит.
– Хорошее место, мне порекомендовали, аккурат для таких, как ты, психов придумано. – Бальчевский на том конце провода что-то смачно жевал, причавкивая и похрустывая. Скотина. – Посидишь пару недель, отдохнешь… заметь, дорогой мой, я мог бы засунуть тебя в клинику, где бы ты торчал не пару недель, а пару месяцев под неусыпным и заботливым присмотром врачей, оплаченных, заметь, твоими же бабками.
Склонившись над ванной – пришлось опереться рукой в стену, – Никита сплюнул, точнее, попытался сплюнуть, но вязкая нить слюны приклеилась к губе и повисла струной.
Струны у гитары, раньше он играл, хорошо играл… и на рояле тоже… но гитару он больше любит, она нежная.
– Тебя бы вывернули наружу, выкачали кровь, промыли б печень и остатки мозгов, а потом собрали бы все это назад. И возможно, конечно, в итоге получился бы человек.
Бальчевский до того увлекся, что даже чавкать перестал. Но какая же он все-таки скотина. Подохнуть бы, вот прямо тут, на коврике в ванной, он мягкий, прорезиненный, темно-синий с оранжевыми морскими звездами. Правда, места мало, но если калачиком свернуться… а накрыться полотенцем. Телефон выскальзывает. На пол его, вернее, на коврик и ухом прижать.
– Но я ж твой друг, Никуша. И как другу мне неприятно подобное насильственное лечение, как друг я понимаю, что ты – не алкоголик. Пока не алкоголик…
Жуков кивнул, и трубка выскользнула, отъехав по гладкой плитке в сторону, пришлось тянуться, а тянуться тяжело, от шевеления живот начинает опасно бурчать. Попытки с третьей трубку удалось вернуть на прежнее место.
– …тебе лишь нужно отдохнуть, побыть наедине с собой, поразмыслить о жизни. Ты талантлив, Никита, ты очень талантлив, так не будь же слабовольной падлой и найди в себе силы измениться!
Жуков снова кивнул. Найдет. Конечно, найдет. Попить бы чего. И поспать. И чтобы голова не болела и не тошнило больше.
– Жуков, ты меня вообще слушаешь? Или уже успел нажраться? Я же просил, чтобы никакой выпивки…
Никакой. Не надо выпивки. И Жорки не надо, ничего не надо, пусть все оставят в покое, дадут полежать на сине-оранжевом прорезиненном коврике. Как будто это море, в трубах за стеной шелестит вода, ванна-раковина на ножках-пирамидках, занавеска от сквозняка в вентиляции шевелится, гладит по щеке и волосам, ластится.
Закрыть телефон. И глаза тоже. И думать… о чем-нибудь приятном.