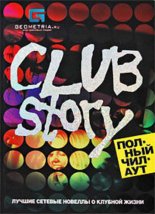Необитаемое сердце Северины Васина Нина

– Мамочки, что же делать?.. Еще целый день, она же обещала подождать!..
Кое-как одевшись, девочка выбежала на улицу. Включила фонарь, который ей приладила тетка Армия как сигнал в случае опасности. Побежала в коровник.
В тусклом свете засиженной мухами лампочки под потолком она увидела лежащую Мурку. Подняв голову, корова издала утробный крик. Северина бросилась к ней и приложила ладони к огромному раздутому животу.
– Нет-нет-нет, – прошептала она, – подожди, маленькая, подожди, солнышко... Рано еще, подожди чуток... – Она легла на горячее брюхо щекой.
Мурка подняла голову и посмотрела на девочку полными боли глазами.
В коровник зашли Солодуха с теткой Армией.
– Я как чувствовала, – мрачно сказала Армия. – Мы с Солодухой у меня ночевничали. В карты играли.
– Я спросила, наточен ли нож, – кивнула Солодуха.
– Где нож? Какой нож? – подняла голову Северина.
– Если не растелится, резать будем, пока корова жива. Чтобы хоть мясо продать можно было, – разъяснила Армия. – Уж больно живот большой. Никогда у Мурки такого огромного пуза не было.
– Она растелится! Она подождет до завтра! – закричала Северина, глотая слезы. – Плевала я на ваше мясо!
Дверь коровника открылась, впуская Бугаева. Он осмотрелся, кивнул женщинам и спросил:
– А что у нас будет завтра?
– Завтра пятница, – объяснила Армия, – хахаль Любавы доставит ее на санях с работы. Севка заказала ветеринара. Обещали привезти.
Бугаев подошел к корове сзади и тщательно ощупал промежное место. Вытер руку о солому.
– Это какой хахаль? – спросил он. – У которого вороной жеребец с завода?
– Ну, – кивнула Армия.
– Мясо кому продавать будете? – спросил Бугаев, усаживаясь на перевернутое ведро.
– Никакого мяса! Мурка подождет ветеринара! – глотая слезы, крикнула Северина.
– Я к тому, что можно его разделать и заморозить. А весной – на рынок. Все дороже, чем на мясокомбинате.
– Убирайтесь немедленно, – приказала ему Северина, – а то я передумаю вам телочку продавать! А она крупная будет, такую телочку еще поискать надо!
– Телочка... бычок. Кто знает, чего там? – пробормотал Бугаев, но ушел.
Северина легла рядом с коровой на левый бок, стараясь как можно дальше просунуть левую ладошку под вспученный живот. Правую она положила сверху на брюхо Мурки.
– Ты это... Того... Не ложилась бы так близко, – предупредила ее Солодуха. – А ну как дернется – встать захочет, придавит насмерть.
Тетка Армия оголила свою правую руку и смазала ее маслом до локтя.
– Ну чего, Севка? Посмотрю, как там телочка идет? Отползай.
– Нет! – уверенно сказала Северина. – Не идет она. Затихла.
– Мало ли – затихла! Мурка уже подтекла.
– Нет! – повторила Северина.
Мурка стала дышать спокойней. Судорожные подергивания задних ног прекратились. Женщины прошлись по коровнику.
– Чего, так и будешь тут лежать? – спросила Солодуха.
Северина осторожно вытащила левую руку, правой поглаживая живот коровы. Встала, вышла из коровника. Женщины переглянулись. Армия пожала плечами. Северина быстро вернулась. Положила возле Мурки побольше сена. На сено – принесенную старую телогрейку. Села на нее и достала из кармана кусок домашнего сыра в белой тряпице. Развернула. Разломила сыр на три куска.
– Угощайтесь.
Армия села рядом на телогрейку. Взяла масляной рукой желтоватый кусок сыра, больше похожий на прессованный творог. Солодуха стала на колени и отломила немного. Положила в рот и начала мять его языком. Тетка Армия откусила много и набила рот, жуя с закрытыми глазами и покачиваясь от удовольствия.
– Ох, и хорош у тебя сыр, – похвалила Солодуха, перестав плямкать. – У матери твоей Варвары, царство ей небесное, всегда был лучший сыр. А у тебя еще лучше!
Армия достала из кармана четвертинку хлеба. Пахнуло так, что Мурка подняла голову, шумно втягивая воздух ноздрями. Женщины замерли. Северина положила ладонь на живот коровы. Мурка простонала завистливо и уронила голову.
– Сев, а Сев, – сказала шепотом Солодуха, – ты заметила, сколько я на коленках стою? И ничего! Давеча так навернулась у колодца, думала – кости уже не соберу или замерзну насмерть, пока кто хватится. И подняться ведь боюсь – все кружится каруселью. А потом стала на четвереньки и потихоньку, потихоньку доползла до дома. Вот какие коленки у меня теперь. А с прежними-то никогда бы не доползла. Спасибо, душа-девица, дай бог тебе мужа уникального, какого ни у кого нет!
– Какого мужа? – прищурилась тетка Армия.
– Уникального... – уже не так уверенно повторила Солодуха.
– Где ты слово-то такое откопала, – покачала головой Армия. – Вот ведь всегда по жизни как скажет что – хоть стой, хоть падай! Уникального! Нет, чтобы пожелать доброго да здорового, чтобы умел и с оружием любым справиться и погладить между ног так, чтобы...
От толчка Солодухи в плечо Армия замолчала и закрыла рот ладонью. Солодуха не удержала равновесия и завалилась набок.
– Солодуха, сколько тебе лет? – спросила Северина.
– Вроде, восемьдесят, – ответила та, оставшись лежать, привалившись к Армии. – Я крестины твои помню, – она опять толкнула Армию кулаком в бок. – Не пискнула, когда тебя в купель сунули! Отец-то ее мальчонку хотел. Сказал тогда, что бой-баба вырастет. Вот уж, прости мою душу грешную, вырослотак выросло. А из меня какая крестная – двадцать лет было...
– Не может такого быть, – категорично заявила Армия.
– Говорю – двадцать!
– Не может быть, чтобы мне уже шестьдесят стукнуло. Поэтому – замнем для ясности. Пробуйте хлеб.
Солодухе Армия выковыряла мякиш и полила его подсолнечным маслом из бутылки. Остаток поделила с Севериной. Теперь Северина набила рот теплым хлебом и покачала головой – как вкусно! Доели сыр.
– А как на ровном береш-шку я пасу коровуш-шку... – тихо, почти шепотом, затянула Солодуха.
– А моя коровушка – девушка-молодушка... – поддержала ее тихонько тетка Армия. – А за ей пришел бычок – неказистый мужичок. Он сердитый и лихой, у ево зуб золотой... Ох, мамушка родная, не отдай за подлова-а-а...
Они затихли, думая о своем.
Северина спит, свернувшись калачиком на телогрейке. Спокойно и мощно дышит корова, ее живот поднимается-опускается, покачивая прислонившуюся Северину. Пахнет коровьим навозом, подсолнечным маслом и совсем чуть-чуть свежим хлебом.
– Замерзаю, однако, – подала голос Солодуха.
* * *
Северина открыла глаза и ничего понять не может – будто в мешке лежит. Кое-как руками разгреблась и увидела над собой Мурку: стоит, смотрит спокойно, без боли в глазах. Сама Северина лежит в козьих шкурах – четыре насчитала. Пошла в дом. Обнаружила спящих за столом тетку Армию и Солодуху: лежат головами к пустой бутылке. Пили из чашек с синим ободком с позолотой – мамин чайный сервиз. Северина чашки вымыла, картошки начистила, поставила вариться. Сама – начеку, все прислушивается. Отнесла Мурке пойло. Корова пить не стала, стоит и слушает себя – что внутри.
Картошка сварилась. Северина полила ее маслом, нарезала мелко лучок с чесноком и посыпала сверху. Поставила на стол. Вкусный запах пошел на весь дом. Зашевелились женщины за столом. Головы подняли, посмотрели на кастрюлю с парком над ней, потом – друг на друга, как первый раз видят, потом – на Северину и быстро очнулись.
– Что? – удивилась Северина.
Ощупала голову, а платок пуховый весь в сене. Было заботы потом выковыривать, когда гости ушли. А ушли они сразу как пристыженные, и бутылку пустую унесли, и еще тетка Армия напоследок сказала, что посадит Солодуху на старости за поганое пойло. Так что Северина одна ела. Часов пять она в доме убирала да бегала к коровнику и обратно. Потом села и затихла. И вдруг представила слонов. Целое стадо. Идут не спеша и важно через их речку, а на берегу пасется корова Мурка, и слоны ее вежливо обходят. Хорошо стало Северине. Спокойно. А там и Любава со своим сожителем прикатили на санях. И ветеринара Колю привезли. Сани знатные – полозья спереди загнуты завитушкой, дерево отполировано, а на сиденье настоящая медвежья шкура лежит. Хозяин саней набросил на своего жеребца одеяло и пошел в дом картошку есть – еще теплая была, потому что Северина кастрюльку хорошенько укрыла. Любава побежала домой к матери Елке, которую не видела с понедельника, и еще баньку протопить – мужикам обещала. А ветеринар отдал Северине тулуп, сам пошел в коровник. Закатал там рукава, надел резиновый фартук, расстелил на лавке сумку-разворотку с инструментом страшным-престрашным и еще шприц заготовил. Мурка стоит как вкопанная – не шелохнется, а дышит часто. Ветеринар Коля послушал ее живот эндоскопом. Он Северине два года назад все инструменты показал, перечислил их названия и для чего нужны, потому что прочил ей по жизни ветеринарное будущее, но Северина запомнила только эндоскоп. Ветеринар Коля эндоскоп убрал, налил себе на руку из большого пузырька масло, как тетка Армия ночью. Потом подмигнул Северине и сказал:
– А завари-ка мне, девочка, чаю покрепче. Пачку моего грузинского на пол-литровую банку. Возьми в чемоданчике.
И Северине сразу стало хорошо и спокойно, как будто слоны прошли.
* * *
Феликс после посещения музея ночью не спал. Только глаза закроет, как тучи бабочек начинают кружиться над головой, засыпая его пыльцой. Тошно становилось и дышать нечем. Феликс стал «отстреливать» их взглядом – бабочки падали одна за другой, Мамонтов-младший уже в дреме представил мозг бабочки – не больше рисового зернышка... Дернулся и очнулся.
На рассвете, совсем измученный, он подошел к балконной двери, потому что голуби прилетели и начали гундеть. Стоял и с гримасой брезгливости на лице смотрел на пару голубей, постоянно гадящих на перила, которые с наступлением тепла приходилось драить металлической щеткой. Присмотрелся к голубю покрупнее. Птицы, вероятно, заметили человека сквозь стекло, затихли и уставились на него – каждая одним глазом. Феликс попытался представить себе мозг голубя, даже вспомнил строение птичьего черепа. Голубь покрупнее покачнулся, его глаз затянулся голубой пленкой, и птица комом свалилась на балкон. Второй голубь сразу улетел. Феликс открыл балконную дверь, с шумом отодрав при этом утеплитель с липучкой, и плохо соображая, уставился на валявшуюся без признаков жизни птицу. Выставил ногу и потрогал голубя шлепанцем. Закрыл балкон, не в состоянии оценить происходящее. Побрел в кухню, зевая и вздрагивая от воспоминания заплывающего пленкой птичьего глаза.
Пришлось позавтракать – в желудке начались странные спазмы, и голова сильно кружилась. Феликс решил, что это от недосыпания. Сделал гренки, порезал сыр, сварил кофе. Потом, удивляясь самому себе, достал еще яйца и вчерашнюю колбасу. Яичницу съел со сковороды, еще и куском булки вытер ее напоследок. Осмотрев стол с грязной посудой, Феликс решительно направился в ванную. Внимательно – сантиметр за сантиметром изучил свое лицо. По утрам он всегда ограничивался только чашкой кофе. Непонятный приступ голода навел его на размышления о переменах в организме. О грядущей полноте – его знакомые одногодки почти все сильно увеличились в объеме. Феликс гордился подтянутой стройной фигурой и как минимум раз в неделю созерцал себя голым в большом зеркале. Зеркало его пока не огорчало.
Пошатываясь, в коридор вышла болонка. Феликс увидел ее из ванной. Болонка прислонилась боком к стене и странно дергала ногой. Феликс вдруг понял, что она ужасно старая, но, как ни напрягался, не мог вспомнить, сколько ей лет. А если она сейчас умрет?.. Болонка, потоптавшись, направилась в спальню, оставив после себя на паркете темно-желтую лужу. Феликс схватил на тумбочке в коридоре газету, накрыл лужу и проследил за собачонкой. Болонка подошла к резной маленькой табуретке и вскарабкалась на нее. С табуретки – на пуфик в ногах кровати, с пуфика – на кровать, на фиолетовый шелк покрывала. Феликс подошел и наклонился, рассматривая болонку. От нее пахло духами и мочой.
Одеваясь, Феликс задержал дыхание и прислушался. Где-то внутри его тела двигалась кровь, пульсируя толчками в висках. Еще шумело в ушах, бурчало в животе, непривычном к утреннему наполнению. Феликс выдохнул и решительно подошел к кровати. Он не услышал дыхания болонки. Сел рядом в отчаянии от предчувствия смерти, и необходимости прикоснуться к собачонке, и вообще что-то делать с ее тушкой.
Зазвонил телефон. Феликс выждал восемь звонков, не двигаясь. Тишина, потом – все заново. Пришлось встать и взять трубку. Огаров, напарник Феликса по бизнесу, заикаясь, пытался объяснить, как их подставил «Уникум», с которым год назад был заключен договор о поставках.
– Мне по барабану, – сказал странно спокойный Феликс, – если ты меня сдал и скинул им информацию по сделкам. И если не сдал – тоже по барабану. Я через полчаса буду, попробуй успокоиться и придумать варианты выхода из ситуации. Для тебя и для меня.
Феликс сделал пару звонков и узнал, что он банкрот. Ничего не надо придумывать. В этот момент его больше всего волновал вопрос, что делать с болонкой. Странно, но ему казалось, что это гораздо важнее всего остального. Он подошел к кровати и убедился, что собачонка мертва. Она не дышала, из посмертного оскала сбоку рта свешивался кончик языка. Феликс взял болонку за лапы и вынес на балкон. Закрыл дверь, задернул занавеску. Уже сев за руль, он подумал, что похоронить болонку можно вместе с голубем, и даже улыбнулся, представив эту парочку на том свете – птица, летящая над семенящей с подскоками собачонкой.
В офисе его ждал уже изрядно выпивший Огаров. Поговорить толком не удалось. Феликс отобрал несколько папок с документами, остальные бумаги заложил в бумагорезку. Потом они с Огаровым выпили по рюмочке, пригласили Светлану – бухгалтера, юриста и секретаря в одном лице – и выпили еще по одной. Пытались объяснить друг другу, как все случилось, но, в общем, просто по-русски бестолково мусолили два основных вопроса. Кто виноват, Феликса совсем не интересовало. Что делать дальше никто из троицы пока определиться не мог. Кооператив был зарегистрирован на группу товарищей из пяти человек – двое подставных. У присутствующей троицы потери были приблизительно одинаковы. Феликс присмотрелся к напарникам и не нашел в себе никакой обиды на их бестолковость, если все сорвалось из-за их глупости. Не нашел он и злости, если это было подстроено, и желания раскопать все и выяснить, как так получилось, тоже не было.
Зато было сильное желание позвонить отцу и узнать, сколько раз они переезжали. Огаров со Светкой ударились в воспоминания «как все начиналось», Феликс набрал номер отца.
Ему ответил тихий женский голос. Отец в больнице – адрес, номер отделения. Феликс заторопился. Попросил Огарова закрыть аренду помещения, он берет на себя склад. Огаров пьяно предлагал дружбу и сотрудничество, чтобы завертеть еще чего-нибудь. Светлана на прощание молча обслюнявила его щеку. Феликс автоматически отметил, что одной рюмки не хватило, чтобы окружавший его мир совсем обесцветился. Местами все посерело до состояния старой кинопленки, но кое-где просвечивали краски: цвет помады на его щеке в зеркале автомобиля был свекольный.
* * *
В больнице он с удивлением осмотрелся в огромной дурно пахнущей палате. Насчитал двенадцать коек, потом увидел отца и пошел к нему. Странно, но его организм затаился, как недавно возле мертвой собачонки – никаких эмоций. Отец заметил его и слегка растянул рот в вынужденной улыбке, показывая на стул у кровати. Феликс сел и взял отца за руку.
– Что случилось?
– Сердце, – пожал тот плечами. – Печень, почки, суставы, сосуды... Одним словом, старость.
– А что врачи говорят?
– Пока ничего. Изучают анализы.
– Тебя сюда по «Скорой» привезли?
– Нет, я сам... Меня Феофания привезла на такси. И фамилия здесь у меня Скворцов, не удивляйся. У меня по жизни всегда было несколько паспортов.
– Можно тебя перевезти в нормальную больницу?
– Нельзя, – категорично ответил Мамонтов-старший. – Здесь у Феофании знакомая работает, она все сделает правильно. Сиди, не дергайся! – отец цепко захватил руку Феликса, не давая ему встать. – Куда собрался? С доктором беседовать? Что он тебе скажет? Если честный попадется, скажет, что мое тело больше не хочет жить. Если умный и голодный, назначит сумму, за которую меня перетащат в отдельную палату и прицепят к капельнице. Тебе, конечно... удобней изобразить заботу, деньги давать... А мне главное – умереть незаметно. Чтобы не попасть на разделочный стол для последующего изучения. Не дергайся. Завтра похоронишь меня по-тихому, Феофания все подготовит. Она тебе и место на кладбище покажет. Главное, чтобы девять дней мое тело не трогали. Потом все равно, потом – можно, потом – памятник, мое имя на нем... Да! Никаких поминок, я этого не люблю.
Феликс отнял свою руку, откинулся на спинку стула и уставился на отца с любопытством. Ему стало интересно, каким способом тот собирается уйти из жизни.
– Что смотришь? Умру естественной смертью в пятнадцать тридцать, – раздраженно подгадал его мысли отец.
– Почему не позвонил? – помимо воли улыбнулся Феликс.
– Феофания должна была тебе позвонить, как только...
– А попрощаться? – удивился Феликс. – Последнее слово... Напутствие какое-нибудь.
– Вчера в музее попрощались. Ты не заметил?
– Нет, – еще больше удивился Феликс. – Я как раз утром тебе позвонил, чтобы узнать, сколько раз мы переезжали.
– Три, – сразу же ответил Мамонтов-старший. – Ты что, не помнишь?
– Я помню, что переезжали. Я хотел узнать, это из-за меня или... – Феликс замялся.
– Из-за тебя, можешь не сомневаться.
Они замолчали. Феликс покосился на соседнюю кровать. Там совершенно неподвижно лежал старик с закрытыми глазами.
– Не смотри, он мертвый, – спокойно заметил отец. – Я уже нажал на эту кнопочку, должен врач прийти. Здесь то и дело кто-то умирает.
– Папа, почему я не могу провести твои последние часы рядом с тобой и в более приличном помещении? Зачем это показное убожество?
– Сиди тут, сколько хочешь. Только разговаривать нам особо не о чем. Рассказывать тебе в подробностях, после чего мы устраивали переезды, я не собираюсь. Все, что нужно, ты обо мне знаешь. Если хочешь, сам что-нибудь о себе расскажи.
Феликс задумался.
– Наш кооператив рухнул. Нужно искать работу...
– Ерунда, – перебил его отец. – Ерунда то, что ты говоришь. Это все несущественно. Ты даже не представляешь, насколько несущественно. Я тебе назвал точное время смерти, а ты собираешься потратить мои последние часы на обсуждение твоих мелочных проблем. Теперь понимаешь, почему я ничего заранее не сказал?
– А на что ты собирался потратить свои последние часы? – спросил опешивший Феликс.
– На разговоры с Феофанией, конечно, – уверенно ответил Мамонтов-старший. – Ее сейчас нет, потому что она поехала в квартиру за моими вещами.
– Ты что, вообще не собирался мне ничего сказать? Завещание, последняя воля... я не знаю... в конце концов, это дико! – рассердился Феликс.
– Завещание мое найдешь в квартире или узнаешь у нотариуса, воли у меня больше никакой нет, потому и умираю. Напутствий тебе я давать не имею права, если доживешь обычным человеком, буду рад, если нет... Уж чему быть, того, как видно, не миновать. На этот счет я тебе записочку оставил.
– Записочку? И где она? – разошелся Феликс.
– Тут, – отец открыл ящик тумбочки и достал свернутую бумажку.
Протянул сыну.
Феликс несколько секунд тупо смотрел на свое имя, написанное чернилами. Развернул бумажку. Семь цифр.
– Что это? Номер телефона?
– Точно, – кивнул отец. – Если заподозришь у себя некоторые странности, испугаешься сделанного или захочешь резко изменить свою жизнь... В общем, лучше позвонить туда, чем попасть в психушку.
– Вот спасибочки, папа, – съерничал Феликс, вставая и кланяясь.
– Вот уж не за что, сынок, – серьезно сказал Мамонтов-старший.
* * *
В половине третьего Феликс сидел в коридоре на стуле и неотрывно смотрел сквозь стеклянную стену в палату. Койка отца просматривается плохо, зато хорошо видна фигура женщины возле нее. Феофания в черном, и платочек на седых волосах – черный, кружевной. Феликс иногда начинал заваливаться на стуле, потом встрепенется и дико осматривается, приходя в себя. Он устал до полного бесчувствия и не в состоянии объяснить самому себе, что здесь делает. Ждет половины четвертого?.. Чтобы – что? Допустим, он настоит и заберет отца домой, если тот не умрет... Домой – это куда? Допустим, в квартиру отца. И что дальше? Жить вместе они не смогут. Завалившись в какой-то момент совсем низко, Феликс почти упал, едва успел упереться ладонью в пол.
Он встал и прошелся по коридору. Абсурдность ситуации его уже не забавляла, он решил принять какое-то решение. Например, ограничить себя во времени. На круглых больничных часах было три двадцать. В три сорок – решил Феликс – он уйдет по делам, а потом после пяти еще раз заедет сюда и обсудит с отцом, куда тот хочет поехать. Три двадцать три. Феликс выбрал удобную позицию и смотрел сквозь стекло на профиль отца – изголовье кровати поднято, отец полусидит и внимательно, с напряженным лицом слушает Феофанию. Феликс вздохнул: что можно слушать с таким вниманием в шестьдесят девять лет? Женщина по ходу разговора с легкой улыбочкой протягивает к лицу отца свои руки – почему-то сжав их в кулаки. Открывает правый, и Феликс вздрагивает – у нее на ладони он отчетливо видит зеленую изящную ящерицу, дергающую тонким игольным хвостиком. Ящерица быстрым скользящим движением забирается... в ноздрю отца.
Феликс закрыл лицо ладонями, потом отхлестал себя по щекам. Отдышался, осмотрелся и понял, что пропустил второй фокус – обе ладони Феофании уже были пусты. Она гладила отца по щекам, а потом тем же спокойным и ласковым движением опустила его веки. Феликс невольно улыбнулся, и только когда женщина встала, понял, что отец умер. Помимо воли, рефлекторно, он посмотрел на часы. Три часа тридцать минут. Феликс вошел в палату, низко наклонился над отцом, прислушиваясь. В лице Мамонтова-старшего ничего не изменилось – тот же напряженный интерес. Подошел врач, потеснил Феликса, осмотрел тело и накрыл лицо отца одеялом.
– Не надо, – нервно и громко воспротивился Феликс. – У него ящерица в голове. Зеленая. Не надо закрывать лицо.
Врач захватил его запястье, с ходу нащупав пульс.
– Вы – сын?
– Сын.
– Пили с утра?
– Что?.. Нет, это не то, что вы...
– Выпейте еще.
И ушел.
* * *
Феликс стоит на кладбище у свежей могилы и считает стрекоз. Восемь, девять... десять... Пошел снег. Стрекозы улетели. У могилы отца стоят трое – он, Феофания и копатель с лопатой. На черенке лопаты застыла последняя стрекоза. Феликс хотел сморгнуть видение, не получилось. Он стоял и равнодушно смотрел, как сначала медленно осыпаются перламутровой крошкой ее крылья, потом – длинное тельце...
– Не могу ничего есть, – зачем-то говорит Феликс старой женщине. – Как вчера с утра нажрался... А быстро вы это все устроили – кладбище, похороны...
Феофания молча берет его под руку.
– Ну что вы, Феликс, – тихо говорит она, – я как могу замедляю время. Сколько сил хватает.
– И давно это... у вас? – осторожно интересуется Феликс, стараясь потактичней освободить свой локоть.
– Тридцать-сорок тысяч лет – это давно? – она останавливается, смотрит снизу и вдруг спрашивает: – Вам нужна жена?
Феликс задумался на несколько секунд, потом отчаянно замотал головой.
– Нет, спасибо, нет!..
Он, наконец, освободил руку и отошел на пару шагов.
– Тогда я пойду? – Феофания отворачивает от снега лицо, захватывает платок под подбородком. На пальцах у нее крупные перстни, один с янтарем. В янтаре застыло какое-то насекомое.
– Заходите ко мне в музей. Чаю попьем, – она уходит к воротам, оборачивается. – Придете?
– Не знаю... Я видел, как вы там... бабочек выпустили. – Феликс подумал и решился: – Я вас боюсь.
– Да нет, – улыбнулась Феофания, – просто вы меня сейчас не узнали. А шестьдесят три года назад сразу узнали.
– Это не я, это отец, ему шесть лет тогда было, он мне рассказывал, – поспешил с объяснениями Феликс.
– Вы одно и то же, – сказала Феофания и ушла, исчезнув за несколько шагов от него в кромешном снегу.
* * *
Поминок не было. Феликс, вернувшись домой с кладбища, свалился на кровать в тягучем сне и проспал больше суток. Проснулся он от солнца в лицо. Долго ходил туда-сюда по квартире, пытаясь справиться с хаосом в голове. Добрел до балконной двери и увидел, что на перилах сидит парочка ворон и примеривается к чему-то на балконе. Несколько секунд Феликс просто наблюдал, как вороны вытягивают головы, распрвляют крылья, чтобы спуститься, но что-то им мешает. И только разглядев внизу еще одну ворону, потрошащую тушку мертвого голубя, Феликс дернулся и шепотом приказал: «Кыш!» Первое движение было – открыть балконную дверь и прогнать ворон. Он уже и руку протянул, потом замер и в странном оцепенении стал смотреть на парочку птиц на перилах. Через несколько секунд одна птица свалилась на балкон, а вторая упала вниз. Феликс напрягся, поджидая реакцию третьей вороны, плохо видной внизу. Вот она взлетела, зависла над перилами, не решаясь сесть... Шлеп! Эта тоже свалилась на балкон. Феликс открыл дверь и убедился, что замерзшая тушка болонки не тронута. Закрыл дверь и ощутил, что... сильно проголодался. Он поспешил одеться, чувствуя странное возбуждение и опасность. Как в западне. Проходя мимо канарейки, дернулся на движение у лица – птица в клетке на его глазах порхнула и упала на опилки, скрючив в последней судороге лапки с коготками. Феликс равнодушно занялся одеждой и позвонил другу – бывшему коллеге из НИИ.
Коллега позвонил своей жене на работу, жена-биолог перезвонила Феликсу и через сорок минут они встретились в ресторане. Феликс был так голоден, что некоторое время не мог говорить – только набивал рот и мычал. Его друг, переглянувшись с женой, тактично удалились «покурить». Когда они вернулись, Феликс кое-как пришел в себя, вытер руки и лицо вокруг рта и уже спокойно приступил к десерту, наблюдая, как едят его гости.
– Ты так разоришься на застольях, богатенький Буратино, – заметил друг. – Уж извини, не могу еду оставить, подъем все! Ты говори, не стесняйся. У жены обеденный перерыв сорок пять минут. Успеешь?
– Запросто, – кивнул Феликс. – Тема такая. Вокруг меня все дохнут, как мухи. То есть конкретно о мухах я как раз не могу ничего сказать. А вот птички... некоторые... – Феликс задумался. – Болонка моя, конечно, могла и от старости сдохнуть. Отец, опять же, умер...
Супруги перестали есть и переглянулись.
– Нет, не подумайте ничего такого, – усмехнулся Феликс, – отец умер по расписанию. Сказал, что умрет в половине четвертого, так и было, а вот птички...
– Когда умер твой отец? – спросил друг.
– А какое сегодня число? – задумался Феликс.
– Все ясно, – сказала жена друга Наталья. – Давай конкретно по теме. Судя по твоему аппетиту, ты вполне здоров. Что там было по телефону о биологическом материале?
– Материал?.. Вот... – Феликс подтолкнул ногой спортивную сумку на молнии.
Наталья тронула сумку рукой. Посмотрела на Феликса и кивнула. Он наклонился, открыл молнию и пошире раздвинул края сумки, чтобы было лучше видно. Наталья изменилась в лице. Заметив это, ее муж встал и через стол тоже заглянул в сумку на полу. Сел, выскреб ложкой из вазочки последнюю красную икру, уложил ее горкой на булочке. Наталья и Феликс завороженно проследили, как он закладывает булочку в рот.
– Прекрати жрать! – не выдержала Наталья. – Лучше спроси у Лекса, где он это насобирал.
– Лекс, где ты взял столько дохлых птиц? – спросил друг.
– На балконе, – спокойно ответил Феликс. – Сначала – голубь, потом я туда же болонку вынес, чтобы полежала, пока придумаю, где ее похоронить. А потом на мертвечинку прилетели вороны, и... тоже... Канарейка могла и от голода свалиться, я про нее совсем забыл. Это не моя птица, ее Фея притащила, а потом...
– Ты поругался с Феей, – не то спросила, не то утвердительно заметила Наталья. – С этой шикарной белотелой касаткой?
– Нет, не ругался... – пожал плечами Феликс.
– Ясно, давай закругляться. Что мне с этим делать? – Наталья тронула сумку ногой.
– Исследовать! – удивился он ее непониманию.
– На предмет чего? – подалась к нему Наталья. – Я работаю в лаборатории вирусологии.
– Ну вот, – кивнул Феликс, отводя глаза. – Определи, пожалуйста, от чего это все... сдохло, а то мне как-то не по себе.
– Лекс! – возмутилась Наталья. – Тебе не по себе, а я-то как затащу это в лабораторию?! Кто мне разрешит проводить исследования?
– Я об этом подумал, – поднял на нее глаза Феликс. – Я бумагу заготовил. От нашего кооператива. Спецзаказ на исследование биологического материала. С соответствующей оплатой. Печати, подпись, все такое. Только ты формулировку и нюансы сама продумай.
Наталья посмотрела на бумагу. Потом – растерянно – на мужа.
– Голова! – восхитился тот. – Лекс всегда отличался прикладным умом.
– А если пернатые сдохли от какого-то птичьего вируса? – предположила Наталья. – Еще неизвестного? Знаешь, чем это грозит? Весь твой кооператив в принудительном порядке поместят в карантин!
– Нет больше кооператива, – спокойно заметил Феликс. – Я банкрот.
– Ну?! – поразился друг. – И чем думаешь заняться?
– Это зависит от результатов работы твоей жены, – ответил Феликс.
* * *
Фея в девяносто втором училась на третьем курсе факультета журналистики МГУ и всем своим внешним видом категорически опровергала устоявшийся стереотип студентки и уж тем более – журналистки. Она была немногословна, медлительна и пышногруда, с длинными русалочьими глазами, словно застывшими в подводной дреме, – чтобы переместить взгляд, Фея каждый раз прикрывала веки, скрывая движение зрачков, отчего у собеседника появлялось ощущение, что он потихоньку тонет.
Заметив Феликса как-то ночью в кухне своей квартиры – родители собрали друзей есть селедку при свечах и вспоминать студенческие годы, – Фея забыла о своем врожденном переутомлении жизнью и жадно обшарила его глазами, ни разу не прикрыв веки. Ее родителей так поразила Феина горячность, что они поспешно распрощались с душой компании – мамонтом Лексом, но ей это не помешало найти Феликса уже через неделю и переспать с ним в тот же вечер. Ранний ребенок, она к своим двадцати годам была гораздо взрослее родителей, поскольку преобладающим стимулом ее существования был инстинкт размножения.
Осмотреть квартиру и оценить приблизительный уровень материального благосостояния Мамонтова-старшего Фея пришла через три месяца после первой встречи с Лексом. Она соврала отцу Феликса о беременности, более того, определив по мебели, картинам и дорогим безделушкам уровень благосостояния Мамонтова-старшего как вполне достаточный, Фея решила продолжать пользоваться противозачаточными таблетками и не форсировать события. Делать сейчас из выбранного самца мужа и добытчика было ни к чему, пусть пока самоутверждается по собственному усмотрению, и у нее будет время спокойно закончить учебу. А в том, что Фекликс никуда не денется, несмотря на предоставленную ими друг другу свободу выбора, Фея была уверена. Она интуитивно прикинула возраст, когда Феликс слегка подустанет от этой свободы – после сорока, а у нее к тому времени как раз подоспеет диплом, и к великолепному телу, рассудительности, немногословности и почти иконописной красоте лица, добавится еще и высшее образование. Рассудительность Феи иногда отдавала равнодушием к возникающим проблемам, например, к изменам Феликса, но ему и в голову не приходило поразмыслить над этим, потому что любовь еще ни разу не обжигала до обнаженного эпителия чувств. Мамонтов-младший, дожив почти до сорока лет, в силу мужского эгоцентризма считал такое спокойствие Феи в отношении его измен большим достоинством и даже прилагал некоторые усилия для сохранения их связи (когда Фея для затравки изображала уж совсем безысходную грусть), к чему раньше с другими женщинами никогда не стремился…
Узнав о смерти канарейки, Фея тут же купила двух волнистых попугайчиков. Но Феликс поставил непременное условие: никакой живности в квартире, а если она не может без птичек, то должна сделать выбор между ним и пернатыми.
Попугайчики вернулись в магазин «Природа».
Феликс никогда не говорил с Феей об отце, о ее посещении квартиры Мамонтова-старшего и о гипотетической беременности, он высоко ценил умение этой женщины решать свои проблемы самой и молча. Фея догадывалась, что Мамонтов-старший проговорился сыну о визите, ее забавляло и вполне устраивало молчание Лекса на эту тему.
Фея собиралась родить этому великолепному мужчине трех сыновей. Она вообще предпочитала мужское общество женскому, и мысли о том, как трое мальчишек будут взрослеть в ее руках, расти и мужать телом, наполняли ее гордостью и предчувствием особого счастья.
* * *
Северина загрустила, когда к концу зимы задул западный ветер, и стала часто ходить к Елке – матери Любавы. Елка оставалась одна с вечера воскресенья до вечера пятницы. Северине она была рада, называла ее ласково утелькой. Рассказывала всякие истории, забредая почти всегда из реальности в воображаемое, а воображение у Елки было больным, как сказала Любава. Ее мать давным-давно свихнулась от любви.
Северина по совету тетки Армии, который отдавал приказом, должна была для общего развития посещать всех жителей Полутьмы, чтобы получать всестороннее представление о жизни. А жители должны были подробно описывать девочке разные истории, а которые совсем к рассказам были неохочи, такие, как Кукушка, – учить ее шитью и готовке или смотреть телевизор с обязательными при этом комментариями.
Исключение составляли близнецы Кикиморы, старушки под семьдесят, которые после того как их внука-подростка волки съели, тоже сильно ушли в воображение и печаль. К ним Северина шла помолчать и на угощение. Приходила с книжкой, чаще всего это был учебник, и читала про себя, пока старухи потихоньку по очереди плакали, глядя на девочку. До Северины не сразу дошло, что это такая реакция на книжку. От внука Кикимор на опушке остались клочья одежды, лыжи, порванный ранец, и книжки под деревом, на котором он пытался отсидеться, да не смог – замерз и свалился. Пришлось прекратить чтение. Северина просто сидела и смотрела на старушек, тогда они не плакали, а – наоборот – улыбались нежно и бессмысленно. Северина поначалу пыталась с ними разговаривать, но получалось совсем уныло. От звука ее голоса старушки замирали, переглядывались, как от большого чуда, и начинали петь псалмы тонкими дрожащими голосами. Потихоньку Северина приспособилась к странностям Кикимор, старушки постепенно перестали плакать и научили девочку прясть, общаясь с нею жестами как с глухонемой, и вышивать крестиком. У них одних в поселке всегда были конфеты и печенье, Кикиморы заготавливали сладости, чтобы угощать детей на день рождения внука, на день его смерти, на «первый зубок», на крестины, на поминальный день, на день ангела – всего не упомнишь. Из детишек в Полутьме осталась одна Северина, ей и скармливались запасы сладкого, которые всегда тщательно пополнялись летом, когда на станции в шести километрах от поселка открывался магазин для дачников.
Северина не ходила ни к Бугаеву, ни к Немцу. Сложилось так само собой: ей не хотелось. Мужчины иногда захаживали в тот дом, где гостевала Северина, сидели недолго, напоследок говорили что-нибудь важное, типа: «Если не будешь уважать Родину, вырастешь проституткой» – это Бугаев. Или: «Учиться тебе надо, а не тут сидеть, чтобы всю жизнь в навозе не копаться» – это Немец.
Северина не имела ничего против навоза. Навоз – это корова, а корова – это очень хорошо. Это – еда, красота и сила.
И вот как раз в среду, когда Елка рассказывала Северине невероятную историю о любви военнопленного немца к женщине-друиду – тут недалеко, под Сурками, в рабочем поселке это было, – вдруг приехала Любава, а с нею, кроме хозяина жеребца с санями, женщина молодая и незнакомая. Любава не побежала как обычно топить баньку, быстро выложила из сумки продукты, увела Северину в дальнюю комнату и еще плотно закрыла двери. Так Северина и не успела узнать, кто такие друиды.
Темнело уже – окошки посинели. Любава нервничала и подбирала слова, а Северина вдруг испугалась, как будто ее судьба должна решиться.
– Помнишь, как ты проверяла, есть ли у Мурки теленок в животе? – перешла к делу Любава.
– Чтобы ее лишний раз не вести к быку? – почему-то шепотом спросила Северина.
– Правильно. Чтобы лишний раз не покрывать. Помнишь?
– Помню. Теленочек не образовался, ты привезла Колю, и он шприцем все сделал вместо быка.
– Молодец, – улыбнулась Любава и, не выдержав пристального взгляда девочки, обхватила ее голову рукой и прижала к груди, чтобы укрыться от ее глаз. – Севка, помоги моей двоюродной племяннице. Ей такое счастье подвалило – жених иностранец образовался, а она боится, что забеременела.
– Жених не хочет ребеночка? – подняла голову Северина.
– Да не от него ребеночек! – выдохнула отчаяние Любава, отстранилась от Северины, села к столу и обхватила себя за плечи. – Она же дура еще совсем – девятнадцать лет, что она понимает! Пойду на аборт, говорит, и никто меня не остановит! Ой, дура-а-а! Я такая же была, мне Елка не указ!.. Она сильно просила родить ребеночка. А теперь – что? Выхолощенная живу после того аборта! И эта дура может остаться на всю жизнь пустой. Если ты не поможешь, она все одно пойдет под чистку.
– Я?.. – от неожиданности Северина облокотилась на кровать – с высокой периной и горой подушек.
– Ты не думай ни о чем, он там еще и не ребеночек вовсе, это вроде зародыша на курином желтке, не больше четырех недель.
– Я знаю, как выглядит четырехнедельный человеческий зародыш, – закрылась руками Северина, словно Любава посветила ей в лицо фонариком.
– Как это – знаешь?.. Ты уже такое видела?.. – опешила Любава.
– Видела. В книжке. Называется общая биология. У него есть глаза, жабры и хвост.
– Хвост?.. – Любава схватила себя рукой за горло.
– Я не смогу, – помотала головой Северина. – Это же не опухоль, не нарыв. Это же... не рассосется... Я не знаю, что с таким делать!
Любава со стула сползла на пол и пошла на коленях к Северине.
– А ты с ним поговори. Как ты говоришь с болезнью? Скажи, пусть уходит, раз он не нужен этой дуре. А то ведь соскребут его. А ты... знаешь что, посмотри сначала, ладно? – уговаривала она девочку, гладя ее ладонью по спине. – А как посмотришь, так сама и реши, ладно? Нет – так нет. Посмотри, заодно и узнаешь, правильно ли в книжке нарисовано, а?
– Да что я – насквозь вижу что ли? – невольно улыбнулась Северина. – Я это чувствую... нет, не могу объяснить!