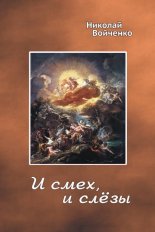О дивный новый мир. Остров (сборник) Хаксли Олдос

Но тут вернулся провожатый и, сделав знак, повел их узкой улочкой между домами. Повернули за угол. Дохлый пес валялся на куче мусора; зобастая индианка искала в голове у маленькой девочки. Проводник остановился у приставной лестницы, махнул рукой сперва вверх, затем вперед. Они повиновались этому молчаливому приказу – поднялись по лестнице и через проем в стене вошли в длинную узкую комнату; там было сумрачно и пахло дымом, горелым жиром, заношенной, нестираной одеждой. Сквозь дверной проем в другом конце комнаты падал на пол свет солнца и доносился бой барабанов, громкий, близкий.
Пройдя туда, они оказались на широкой террасе. Под ними, плотно окруженная уступчатыми домами, была площадь, толпился у домов народ. Пестрые одеяла, перья в черных волосах, мерцание бирюзы, темная кожа, влажно блестящая от зноя. Линайна снова прижала к носу платок. Посреди площади виднелись из-под земли две круговые каменные кладки, накрытые плоскими кровлями, – видимо, верха двух подземных помещений; в центре каждой кровли – круглой, глиняной, утоптанной – открытый люк, и торчит из темноты оттуда деревянная лестница. Внизу там играют на флейтах, но звук их почти заглушен ровным, неумолимо упорным боем барабанов.
Барабаны Линайне понравились. Она закрыла глаза, и рокочущие барабанные раскаты заполнили ее сознание, заполонили, и вот уже остался в мире один этот густой рокот. Он успокоительно напоминал синтетическую музыку на сходках единения и празднованиях Дня Форда. «Пей-гу-ляй-гу», – мурлыкнула Линайна. Ритм в точности такой же.
Раздался внезапный взрыв пения: сотни мужских голосов в унисон металлически-резко взяли несколько свирепых длинных нот. И – тишина, раскатистая тишина барабанов; затем пронзительный, заливчатый хор женщин дал ответ. И снова барабаны; и опять дикое, медное утверждение мужского начала.
Странно? Да, странно. Обстановка странная, и музыка, и одежда странная, и зобы, и кожные болезни, и старики. Но в самом хоровом действе вроде ничего такого уж и странного.
– Похоже на праздник песнословия у низших каст, – сказала Линайна Бернарду.
Однако сходство с тем невинным праздником тут же стало и кончаться. Ибо неожиданно из круглых подземелий повалила целая толпа устрашающих чудищ. В безобразных масках или размалеванные до потери человеческого облика, они пустились в причудливый пляс – вприхромку, топочуще, с пением; сделали по площади круг, другой, третий, четвертый, – убыстряя пляску с каждым новым кругом; и барабаны убыстрили ритм, застучавший лихорадочно в ушах; и народ запел вместе с плясунами, громче и громче; и сперва одна из женщин испустила истошный вопль, а за ней еще, еще; затем вдруг головной плясун выскочил из круга, подбежал к деревянному сундуку, стоявшему на краю площади, откинул крышку и выхватил оттуда двух черных змей.
Громким криком отозвалась площадь, и остальные плясуны все побежали к нему, протягивая руки. Он кинул змей тем, что подбежали первыми, и опять нагнулся к сундуку. Все новых змей – черных, коричневых, крапчатых – доставал он, бросал плясунам. И танец начался снова, в ином ритме. Со змеями в руках пошли они по кругу, змеисто сами извиваясь, волнообразно изгибаясь в коленях и бедрах. Сделали круг, и еще. Затем, по знаку головного, один за другим побросали змей в центр площади; поднялся из люка старик и сыпнул на змей кукурузной мукой, а из другого подземелья вышла женщина и окропила их водой из черного кувшина. Затем старик поднял руку, и – жуткая, пугающая – мгновенно воцарилась тишина. Смолкли барабаны, жизнь словно разом оборвалась. Старик простер руки к отверстиям, устьям подземного мира. И медленно возносимые – а кем, сверху не видно, – возникли два раскрашенных изваяния; из первого люка – орел, из второго – нагой человек, пригвожденный к кресту. Изваяния повисли, точно сами собой держась в воздухе и глядя на толпу. Старик хлопнул в ладоши. Из толпы выступил юноша лет восемнадцати в одной лишь набедренной белой повязке и встал перед стариком, сложив руки на груди, склонив голову. Старик перекрестил его. Медленно юноша пошел вокруг кучи змей, спутанно шевелящейся. Совершил один круг, начал другой, и в это время, отделясь от плясунов, рослый человек в маске койота направился к нему с ременной плетью в руке. Юноша продолжал идти, как бы не замечая человека-койота. Тот поднял плеть; долгий миг ожидания, резкое движение, свист плети, хлесткий удар по телу. Юноша дернулся весь; но он не издал ни звука, он продолжал идти тем же неторопливым, мерным шагом. Койот хлестнул опять, опять; каждый удар толпа встречала коротким общим вздохом и глухим стоном. Юноша продолжал идти. Два, три, четыре раза обошел он круг. Кровь струилась по телу. Пятый, шестой раз обошел. Линайна вдруг закрыла лицо руками, зарыдала.
– Пусть прекратят, пусть прекратят, – взмолилась она.
Но плеть хлестала неумолимо. Седьмой круг сделал юноша. И тут пошатнулся – и, по-прежнему без звука, рухнул плашмя, лицом вниз. Наклонясь над ним, старик коснулся его спины длинным белым пером, высоко поднял это перо, обагренное, – показал людям – и трижды тряхнул им над змеями. Несколько капель упало с пера, и внезапно барабаны ожили, рассыпались тревожной дробью; раздался гулкий клич. Плясуны кинулись, похватали змей и пустились бегом. За ними побежала вся толпа – мужчины, женщины, дети. Через минуту площадь была уже пуста, только юноша недвижно лежал там, где лег. Три старухи вышли из ближнего дома, подняли его с трудом и внесли туда. Над площадью остались нести караул двое – орел и распятый; затем и они, точно насмотревшись вдоволь, неспешно канули в люки, в подземное обиталище.
Линайна по-прежнему плакала.
– Невыносимо, – всхлипывала она, и Бернард был бессилен ее утешить. – Невыносимо! Эта кровь! – Она передернулась. – О, где моя сома!
За спиной у них, в комнате, раздались шаги.
Линайна не пошевелилась, сидела, спрятав лицо в ладони, погрузясь в свое страдание. Бернард оглянулся.
На террасу вышел молодой человек в одежде индейца; но косы его были цвета соломы, глаза голубые, и бронзово-загорелая кожа была кожей белого.
– День добрый и привет вам, – сказал незнакомец на правильном, но необычном английском языке. – Вы – цивилизованные? Вы – оттуда, из Заоградного мира?
– А вы-то сами?.. – изумленно начал Бернард.
Молодой человек вздохнул, покачал головой.
– Пред вами несчастливец. – И, указав на кровь в центре площади, произнес голосом, вздрагивающим от волнения. – Видите вон то проклятое пятно?
– Лучше полграмма, чем ругань и драма, – машинально откликнулась Линайна, не открывая лица.
– Там бы по праву следовало быть мне, – продолжал незнакомец. – Они не захотели, чтобы жертвой был я. А я бы десять кругов сделал, двенадцать, пятнадцать. Палохтива сделал только семь. Я дал бы им вдвое больше крови. Просторы обагрил бы морей. – Он распахнул руки в широком жесте, тоскливо уронил их опять. – Но не позволяют мне. Нелюбим я за белокожесть. От века нелюбим. Всегда. – На глазах у него выступили слезы; он отвернулся, стыдясь этих слез.
От удивления Линайна даже горевать перестала. Отняв ладони от лица, она взглянула на незнакомца.
– То есть вы хотели, чтобы плетью били вас?
Молодой человек кивнул не оборачиваясь.
– Да. Для блага пуэбло – чтоб дожди шли и тучнела кукуруза. И в угоду Пуконгу и Христу. И чтобы показать, что могу выносить боль не крикнув. Да. – Голос его зазвенел, он гордо расправил плечи, гордо, непокорно вздернул голову, повернулся. – Показать, что я мужчи… – У него перехватило дух, он так и застыл, не закрыв рта. Впервые в жизни увидел он девушку с лицом не бурым, а светлым, с золотисто-каштановой завивкой – и глядит она с дружелюбным интересом (вещь небывалая!). Линайна улыбнулась ему; такой привлекательный мальчик, подумала она, и тело по-настоящему красиво. Темный румянец залил щеки молодого человека; он опустил глаза, поднял опять, увидел все ту же улыбку и до того уже смутился, что даже отвернулся, сделал вид, будто пристально разглядывает что-то на той стороне площади.
Выручил его Бернард – своими расспросами. Кто он? Каким образом? Когда? Откуда? Не отрывая взгляда от Бернарда (ибо так тянуло молодого человека к улыбке Линайны, что он просто не смел повернуть туда голову), он стал объяснять. Он с Линдой – Линда его мать (Линайна поежилась) – они здесь чужаки. Линда прилетела из Того мира давно, еще до его рождения, вместе с отцом его. (Бернард навострил уши.) Пошла гулять одна в горах, что к северу отсюда, и сорвалась, упала и поранила голову. («Продолжайте, продолжайте», – возбужденно сказал Бернард.) Мальпаисские охотники наткнулись на нее и принесли в пуэбло. А отца его Линда больше так и не увидела. Звали отца Томасик. (Так, так, имя Директора – Томас.) Он, должно быть, улетел к себе обратно в Заоградный мир, а ее бросил – черствый, жестокий сердцем человек.
– В Мальпаисе я и родился, – закончил он. – В Мальпаисе. – И грустно покачал головой.
Хибара за пустырем на окраине пуэбло. Какое убожество, грязь!
Пыльный пустырь завален мусором. У входа в хибару два оголодалых пса роются мордами в мерзких отбросах. А внутри – затхлый, гудящий мухами сумрак.
– Линда! – позвал молодой человек.
– Иду, – отозвался из другой комнатки довольно сиплый женский голос.
Пауза ожидания. В мисках на полу – недоеденные остатки.
Дверь отворилась. Через порог шагнула белесоватая толстуха-индианка и остановилась, пораженно выпучив глаза, раскрыв рот. Линайна с отвращением заметила, что двух передних зубов во рту нет. А те, что есть, жуткого цвета… Брр! Она гаже того старика. Жирная такая. И все эти морщины, складки дряблого лица. Обвислые щеки в лиловых пятнах прыщей. Красные жилки на носу, на белках глаз. И эта шея, эти подбородки; и одеяло накинуто на голову – рваное, грязное. А под коричневой рубахой-балахоном эти бурдюки грудей, это выпирающее брюхо, эти бедра. О, куда хуже старика, куда гаже! И вдруг существо это разразилось потоком слов, бросилось к ней с распахнутыми объятиями и – Господи Форде, как противно, вот-вот стошнит – прижало к брюху, к грудям и стало целовать. Господи! Слюнявыми губами, и от тела запах скотский, – видимо, не принимает ванны никогда, – и разит изо рта ядовитой этой мерзостью, которую подливают в бутыли дельтам и эпсилонам (а Бернарду не влили, неправда), буквально разит алкоголем. Линайна поскорей высвободилась из объятий.
На нее глядело искаженное, плачущее лицо.
– Ох, милая, милая вы моя, – причитало, хлюпая, существо. – Если б вы знали, как я рада! Столько лет не видеть цивилизованного лица. Цивилизованной одежды. Я уж думала, так и не суждено мне увидать опять настоящий ацетатный шелк. – Она стала щупать рукав блузки. Ногти ее были черны от грязи. – А эти дивные вискозно-плисовые шорты! Представьте, милая, я еще храню, прячу в сундуке свою одежду, ту, в которой прилетела. Я покажу вам потом. Но конечно, ацетат стал весь как решето. А такой прелестный у меня белый патронташ наплечный – хотя, должна признаться, ваш сафьяновый зеленый еще даже прелестнее. Ах, подвел меня мой патронташ! – Слезы опять потекли по щекам. – Джон вам, верно, рассказал уже. Что мне пришлось пережить – и без единого грамма сомы. Разве что Попе принесет мескаля выпить. Попе ходил ко мне раньше. Но выпьешь, а после так плохо себя чувствуешь от мескаля, и от пейотля тоже; и притом назавтра протрезвишься – и еще ужаснее, еще стыднее делается. Ах, мне так стыдно было. Подумать только – я, бета, и ребенка родила; поставьте себя на мое место. (Линайна поежилась.) Но, клянусь, я тут не виновата; я до сих пор не знаю, как это стряслось; ведь я же все мальтузианские приемы выполняла – знаете, по счету: раз, два, три, четыре – всегда, клянусь вам, и все же забеременела; а конечно, абортариев здесь нет и в помине. Кстати, абортарий наш и теперь в Челси? (Линайна кивнула.) И, как раньше, освещен весь прожекторами по вторникам и пятницам? (Линайна снова кивнула.) Эта дивная из розового стекла башня! – Бедная Линда, закрыв глаза, экстатически закинув голову, воскресила в памяти светлое видение абортария. – А вечерняя река! – прошептала она. Крупные слезы медленно выкатились из-под ее век. – Летишь, бывало, вечером обратно в город из Сток-Поджеса. И ждет тебя горячая ванна, вибровакуумный массаж… Но что уж об этом. – Она тяжко вздохнула, покачав головой, открыла глаза, сопнула носом раз-другой, высморкалась в пальцы и вытерла их о подол рубахи. – О, простите меня, – воскликнула она, заметив невольную гримасу отвращения на лице Линайны. – Как я могла так!.. Простите. Но что делать, если нет носовых платков? Я помню, как переживала раньше из-за всей этой нечистоты, сплошной нестерильности. Меня с гор принесли сюда с разбитой головой. Вы не можете себе представить, что они прикладывали к моей ране. Грязь, буквальнейшую грязь. Учу их: «Без стерилизации нет цивилизации». Говорю им: «Смой стрептококков и спирохет. Да здравствуют ванна и туалет», – как маленьким детям. А они, конечно, не понимают. Откуда им понять? И в конце концов я, видимо, привыкла. Да и как можно держать себя и вещи в чистоте, если нет крана с горячей водой? А поглядите на одежду здешнюю. Эта мерзкая шерсть – это вам не ацетат. Ей износу нет. А и порвется, так чини ее изволь. Но я ведь бета; я в Зале оплодотворения работала; меня не учили заплаты ставить. Я другим занималась. Притом чинить ведь вообще у нас не принято. Начинает рваться – выбрось и новое купи. «Прорехи зашивать – беднеть и горевать». Верно же? Чинить старье – антиобщественно. А тут все наоборот. Живешь как среди ненормальных. Все у них по-безумному. – Она оглянулась, увидела, что Бернард с Джоном вышли и прохаживаются по пустырю; но понизила тем не менее голос, пододвинулась близко, так что ядовито-алкогольное ее дыхание шевельнуло прядку у Линайны на щеке, и та сжалась вся. – Послушайте, к примеру, – зашептала Линда сипло, – как они тут взаимопользуются. Ведь каждый принадлежит всем остальным – ведь по-цивилизованному так? Ведь так же? – напирала она, дергая Линайну за рукав. Линайна кивнула, полуотвернувшись, делая украдкой вдох, набирая воздуху почище. – А здесь, – продолжала Линда, – каждый должен принадлежать только одному, и никому больше. Если же ты взаимопользуешься по-цивилизованному, то считаешься порочной и антиобщественной. Тебя ненавидят, презирают. Один раз явились сюда женщины со скандалом – почему, мол, их мужчины ко мне ходят? А почему б им не ходить? И как накинутся женщины на меня скопом… Нет, невыносимо и вспоминать. – Линда, содрогнувшись, закрыла лицо руками. – Здешние женщины ужасно злобные. Безумные, безумные и жестокие. И понятия, конечно, не имеют о мальтузианских приемах, о бутылях, о раскупорке. И потому рожают беспрерывно – как собаки. Прямо омерзительно. И подумать, что я… О Господи, Господи Форде. Но все же Джон был мне большим утешением. Не знаю, как бы я тут без него. Хотя он и переживал страшно всякий раз, как придет мужчина… Даже когда совсем еще был малышом. Однажды (он тогда уже подрос) чуть было не убил бедного Попе – или Вайхусиву? – за то лишь, что они ко мне ходили. Сколько ему ни втолковывала, что у цивилизованных людей иначе и нельзя, но так и не втолковала. Безумие, видимо, заразительно. Джон, во всяком случае, заразился от индейцев. Он водится с ними. Несмотря на то что они всегда относились к нему по-свински, не позволяли быть наравне с остальными мальчиками. Но это в некотором смысле к лучшему, потому что облегчало мне задачу – позволяло хоть слегка формировать его. Но вы себе вообразить не можете, как это трудно. Ведь столького сама не знаешь; от меня и не требовалось знать. Допустим, спрашивает ребенок, как устроен вертоплан или кем создан мир, – ну что будешь ему отвечать, если ты бета и работала в Зале оплодотворения? Ну что ему ответишь?
Глава восьмая
Джон с Бернардом прохаживались взад-вперед на пустыре, среди пыли и мусора. (В отбросах рылись теперь уже четыре собаки.)
– Так трудно мне представить, постигнуть, – говорил Бернард. – Мы словно с разных планет, из разных столетий. Мать, и грязь вся эта, и боги, и старость, и болезни… – Он покачал головой. – Почти непостижимо. Немыслимо понять, если вы не поможете, не объясните.
– Чт объясню?
– Вот это. – Он указал на пуэбло. – И это. – Кивнул на хибару. – Всё. Всю вашу жизнь.
– Но что ж тут объяснять?
– Все с самого начала. С первых ваших воспоминаний.
– С первых моих… – Джон нахмурился. Долго молчал, припоминая.
Жара. Наелись лепешек, сладкой кукурузы.
– Иди сюда, малыш, приляг, – сказала Линда. Он лег возле, на большой постели.
– Спой, – попросил, и Линда запела. Спела «Да здравствуют ванна и туалет» и «Баю-баю, тили-тили, скоро детке из бутыли». Голос ее удалялся, слабел…
Он вздрогнул и проснулся от громкого шума. У постели стоит человек – большущий, страшный. Говорит что-то Линде, а Линда смеется. Закрылась одеялом до подбородка, а тот стягивает. У страшилы волосы заплетены, как два черных каната, и на ручище серебряный браслет с голубыми камешками. Браслет красивый; Джону страшно; он жмется лицом к материну боку. Линда обнимает его рукой, и страх слабеет. Другими, здешними словами, которые не так понятны, Линда говорит:
– Нет, не при Джоне.
Человек смотрит на него, опять на Линду, тихо говорит несколько слов.
– Нет, – говорит Линда. Но тот наклоняется к нему, лицо громадно, грозно; черные канаты кос легли на одеяло. – Нет, – говорит опять Линда и сильней прижимает Джона к себе. – Нет, нет.
Но страшила берет его за плечо, больно берет. Он вскрикивает. И другая ручища берет, подымает. Линда не выпускает, говорит:
– Нет, нет.
Тот говорит что-то коротко, сердито и вот уже отнял Джона.
– Линда, Линда. – Джон бьет ногами, вырывается; но тот несет его за дверь, сажает на пол там среди комнаты уходит к Линде, закрыв за собой дверь. Он встает, он бежит к двери. Поднявшись на цыпочки, дотягивается до деревянной щеколды. Двигает ее, толкает дверь; но дверь не поддается.
– Линда, – кричит он. Не отвечает Линда.
Вспоминается обширная комната, сумрачная; в ней стоят деревянные рамы с навязанными нитями, и у рам много женщин – одеяла ткут, сказала Линда. Она велела ему сидеть в углу с другими детьми, а сама пошла помогать женщинам. Он играет с мальчиками, долго. Вдруг у рам заговорили очень громко, и женщины отталкивают Линду прочь, а она плачет, идет к дверям. Он побежал за ней. Спрашивает, почему на нее рассердились.
– Я сломала там что-то, – говорит Линда. И сама рассердилась. – Откуда мне уметь их дрянные одеяла ткать, – говорит. – Дикари противные.
– А что такое дикари? – спрашивает он.
Дома у дверей ждет Попе и входит вместе с ними. Он принес большой сосуд из тыквы, полный воды не воды – вонючая такая и во рту печет, так что закашляешься. Линда выпила, и Попе выпил, и Линда смеяться стала и громко говорить; а потом с Попе ушла в другую комнату. Когда Попе отправился домой, он вошел туда. Линда лежала в постели, спала так крепко, что не добудиться было. Попе часто приходил. Ту воду в тыкве он называл «мескаль», а Линда говорила, что можно бы называть «сома», если бы от нее не болела голова. Он терпеть не мог Попе. Он всех их не терпел – мужчин, ходивших к Линде. Как-то, наигравшись с детьми – было, помнится, холодно, на горах лежал снег, – он днем пришел домой и услыхал сердитые голоса в другой комнате. Женские голоса, а слов не понял; но понял, что это злая ругань. Потом вдруг – грох! – опрокинули что-то; завозились, еще что-то шумно упало, и точно мула ударили хлыстом, но только звук мягче, мясистей; и крик Линды: «Не бейте, не бейте!» Он кинулся туда. Там три женщины в темных одеялах. А Линда – на постели. Одна держит ее за руки. Другая легла поперек, на ноги ей, чтоб не брыкалась. Третья бьет ее плетью. Раз ударила, второй, третий; и при каждом ударе Линда кричит. Он, плача, стал просить бьющую, дергать за кромку одеяла:
– Не надо, не надо.
Свободной рукой женщина отодвинула его. Плеть снова хлестнула, опять закричала Линда. Он схватил огромную коричневую руку женщины обеими своими и укусил что было силы. Та охнула, вырвала руку, толкнула его так, что он упал. И ударила трижды плетью. Ожгло огнем – больней всего на свете. Снова свистнула, упала плеть. Но закричала на этот раз Линда.
– Но за что они тебя, Линда? – спросил он вечером.
Красные следы от плети на спине еще болели, жгли, и он плакал. Но еще и потому плакал, что люди такие злые и несправедливые, а он малыш и драться с ними слаб. Плакала и Линда. Она хоть и взрослая, но от троих отбиться разве может? И разве это честно – на одну втроем?
– За что они тебя, Линда?
– Не знаю. Не понимаю. – Трудно было разобрать ее слова – она лежала на животе, лицом в подушку. – Мужчины, видите ли, принадлежат им, – говорила Линда, точно не к нему обращаясь вовсе, а к кому-то внутри себя. Говорила долго, непонятно; а кончила тем, что заплакала громче прежнего.
– О, не плачь, Линда, не плачь.
Он прижался к ней. Обнял рукой за шею.
– Ай, – визгнула Линда, – не тронь. Больно же! Ай! – И как пихнет его от себя. Он стукнулся головой о стену. – Ты, идиотик! – крикнула Линда и вдруг принялась его бить. Шлеп! Шлеп!..
– Линда! Не бей, мама!
– Я тебе не мама. Не хочу быть твоей матерью.
– Но, Линд… – Она шлепнула его по щеке.
– В дикарку превратилась, – кричала она. – Рожать начала, как животные… Если б не ты, я бы к инспектору пошла, вырвалась отсюда. Но с ребенком как же можно. Я бы не вынесла позора.
Она опять замахнулась, и он заслонился рукой.
– О, не бей, Линда, не надо.
– Дикаренок! – Она отдернула его руку от лица.
– Не надо. – Он закрыл глаза, ожидая удара.
Но удара не было. Помедлив, он открыл глаза и увидел, что она смотрит на него. Улыбнулся ей робко. Она вдруг обняла его и стала целовать.
Случалось, Линда по нескольку дней не вставала с постели. Лежала и грустила. Или пила мескаль, смеялась, смеялась, потом засыпала. Иногда болела. Часто забывала умыть его, и нечего было поесть, кроме черствых лепешек. И помнит он, как Линда в первый раз нашла этих сереньких тлей у него в голове, как она заахала, запричитала.
Сладчайшею отрадой было слушать, как она рассказывает о Том, о Заоградном мире.
– И там правда можно летать когда захочешь?
– Когда захочешь.
И рассказывала ему про дивную музыку, льющуюся из ящика, про прелестные разные игры, про вкусные блюда, напитки, про свет – надавишь в стене штучку, и он вспыхивает, – и про живые картины, которые не только видишь, но и слышишь, обоняешь, осязаешь пальцами, и про ящик, создающий дивные запахи, и про голубые, зеленые, розовые, серебристые дома, высокие, как горы, – и каждый счастлив там, и никто никогда не грустит и не злится, и каждый принадлежит всем остальным, и экран включишь – станет видно и слышно, что происходит на другом конце мира. И младенцы все в прелестных, чистеньких бутылях – все такое чистое, ни вони и ни грязи, – и никогда никто не одинок, а все вместе живут и радостные все, счастливые, как на летних плясках в Мальпаисе здесь, но гораздо счастливее, и счастье там всегда, всегда… Он слушал и заслушивался.
Порой, когда он и другие дети садились, устав от игры, кто-нибудь из стариков племени заводил на здешнем языке рассказ о великом Претворителе Мира, о долгой битве между Правой Рукой и Левой Рукой, между Хлябью и Твердью; о том, как Авонавилона задумался в ночи, и сгустились его мысли во Мглу Возрастания, а из той туманной мглы сотворил он весь мир; о Матери-Земле и Отце-Небе; об Агаюте и Марсайлеме – близнецах Войны и Удачи; об Иисусе и Пуконге; о Марии и об Этсанатлеи – женщине, вечно омоложающей себя; о Лагунском Черном Камне, о великом Орле и Богоматери Акомской. Диковинные сказы, звучавшие еще чудесней оттого, что сказывали их здешними словами, не полностью понятными. Лежа в постели, он рисовал в воображении Небо и Лондон, Богоматерь Акомскую и длинные ряды младенцев в чистеньких бутылях и как Христос возносится и Линда взлетает; воображал Всемирного начальника инкубаториев и великого Авонавилону.
Много ходило к Линде мужчин. Мальчишки стали уже тыкать на него пальцами. На своем, на здешнем языке они называли Линду скверной, ругали ее непонятно, однако он знал, что слова это гнусные. Однажды запели о ней песню, и опять, и опять – не уймутся никак. Он стал кидать в них камни. А они – в него; острым камнем рассекли ему щеку. Кровь текла долго; он весь вымазался.
Линда научила его читать. Углем она рисовала на стене картинки – сидящего зверька, младенца в бутыли; а под ними писала: КОТ НЕ СПИТ. МНЕ ТУТ РАЙ. Он усваивал легко и быстро. Когда выучился читать все, что она писала на стене, Линда открыла свой деревянный сундук и достала из-под тех красных куцых штанов, которых никогда не надевала, тоненькую книжицу. Он ее и раньше не раз видел. «Будешь читать, когда подрастешь», – говорила Линда. Ну вот и подрос, подумал он гордо.
– Вряд ли эта книга тебя очень увлечет, – сказала Линда. – Но других у меня нет. – Она вздохнула. – Видел бы ты, какие прелестные читальные машины у нас в Лондоне!
Он принялся читать. «Химическая и бактериологическая обработка зародыша. Практическое руководство для бета-лаборантов Эмбрионария». Четверть часа ушло на одоление слов этого заглавия. Он швырнул книжку на пол.
– Дрянь ты, а не книга! – сказал он и заплакал.
По-прежнему мальчишки распевали свою гнусную дразнилку о Линде. Смеялись и над тем, какой он оборванный. Линда не умела чинить рваное. В Заоградном мире, говорила она ему, если что порвется, сразу же выбрасывают и надевают новое. «Оборвыш, оборвыш!» – дразнили мальчишки. «Зато я читать умею, – утешал он себя, – а они нет. Не знают даже, что значит читать». Утешаясь этим, было легче делать вид, что не слышишь насмешек. Он снова попросил у Линды ту книжку.
Чем злее дразнились мальчишки, тем усерднее читал он книгу. Скоро уже он разбирал в ней все слова. Даже самые длинные. Но что они обозначают? Он спрашивал у Линды; но даже когда она и в состоянии была ответить, то ясности особой не вносила. Обычно же ответить не могла.
– Что такое химикаты? – спрашивал он.
– А это соли магния, или спирт, которым глушат рост и отупляют дельт и эпсилонов, или углекислый кальций для укрепления костей и тому подобные вещества.
– А как делают химикаты, Линда? Где их добывают?
– Не знаю я. Они во флаконах. Когда флакон кончается, то спускают новый из Химикатохранилища. Там их и делают, наверно. Или же с фабрики получают. Не знаю. Я химией не занималась. Я работала всегда с зародышами.
И так вечно, что ни спроси. Никогда Линда не знает. Старики племени отвечают куда определеннее.
«Семена людей и всех созданий, семя солнца, и земли, и неба – все семена сгустил Авонавилона из Мглы Возрастания. Есть у мира четыре утробы; в нижнюю и поместил он семена. И постепенно взрастали они…»
Придя как-то домой (Джон прикинул позже, что было это на тринадцатом году его жизни), он увидел, что в комнате на полу лежит незнакомая книга. Толстая и очень старая на вид. Переплет обгрызли мыши; листы некоторые измяты, вылезают. Он поднял книгу, взглянул на заглавный лист: «Сочинения Уильяма Шекспира в одном томе».
Линда лежала в постели, потягивая из чашки мерзкий свой вонючий мескаль.
– Ее Попе принес, – сказала Линда сиплым, грубым, чужим голосом. – Валялась в Антилопьей киве, в одном из сундуков. Сотни лет уже провалялась, говорят. И не врут, наверно, потому что полистала я, а там полно вздора. Нецивилизованность жуткая. Но тебе пригодится – для тренировки в чтении. – Она допила, опустила чашку на пол, повернулась на бок, икнула раза два и заснула.
Он раскрыл книгу наугад.
- … Похоти рабой
- Жить, прея в сальной духоте постели,
- Елозя и любясь в свиной грязи…
Необычайные эти слова раздались, раскатились громово в мозгу, как барабаны летних плясок – но барабаны говорящие; как хор мужчин, поющих Песнь зерна – красиво, красиво до слез; как волшба старого Митсимы над молитвенными перьями и резными палочками, костяными и каменными фигурками – кьятла тсилу силокве силокве силокве. Кьяи силу силу, тситль, – но сильнее, чем волшба Митсимы, потому что эти слова больше значат и обращены к нему, говорят ему чудесно и наполовину лишь понятно – грозная, прекрасная новая волшба, говорящая о Линде; о Линде, что храпит в постели, и пустая чашка рядом на полу; о Линде и Попе, о них обоих.
Все горячей ненавидел он Попе. Да, можно улыбаться, улыбаться – и быть мерзавцем. Безжалостным, коварным, похотливым. Слова он понимал не до конца. Но их волшба была могуча, они звучали в памяти, и было так, словно теперь только начал он по-настоящему ненавидеть Попе – потому что не мог раньше облечь свою ненависть в слова. А теперь есть у него слова – волшебные, поющие, гремящие, как барабаны. Слова эти и странный, странный сказ, из которого слова взяты (темен ему этот сказ, но чудесен, все равно чудесен), – они обосновали ненависть, сделали ее острей, живей; самого даже Попе сделали живей.
Однажды, наигравшись, он пришел домой – дверь спальной комнатки растворена, и он увидел их, спящих вдвоем в постели, – белую Линду и рядом Попе, почти черного; Линда лежит у Попе на руке, другая темная рука на груди у нее, и одна из длинных кос индейца упала ей на горло, точно черная змея хочет задушить. На полу возле постели – тыква, принесенная Попе, и чашка. Линда храпит.
Сердце в нем замерло, исчезло, и осталась пустота. Пустота, озноб, мутит слегка, и голова кружится. Он прислонился к стене. Безжалостный, коварный, похотливый… Волшбой, поющим хором, барабанами гремят слова. Озноб ушел, ему стало вдруг жарко, щеки загорелись. Комната поплыла перед ним, темнея. Он скрежетнул зубами. «Я убью его, убью, убью». И загремело в мозгу:
- Когда он в лежку пьян, когда им ярость
- Владеет или кровосмесный пыл…
Волшба – на его стороне, волшба все проясняет и дает приказ. Он шагнул обратно, за порог. «Когда он в лежку пьян…» У очага на полу – мясной нож. Поднял его и на цыпочках – опять в дверь спальной комнаты. «Когда он в лежку пьян, в лежку пьян…» Бегом к постели, ткнул ножом – ага, кровь! – снова ткнул (Попе взметнулся тяжко, просыпаясь), хотел в третий раз ударить, но почувствовал, что руку его схватили, сжали и – ох! – выворачивают. Он пойман, двинуться не может, черные медвежьи глазки Попе глядят в упор, вплотную. Он не выдержал их взгляда, опустил глаза. На левом плече у Попе – две ножевые ранки.
– Ах, кровь течет! – вскрикнула Линда. – Кровь течет! (Вида крови она не выносит.)
Попе поднял свободную руку – чтобы ударить, конечно. Джон весь напрягся в ожидании удара. Но рука взяла его за подбородок, повернула лицом к себе, и опять пришлось смотреть глаза в глаза. Долго, нескончаемо долго. И вдруг, как ни пересиливал себя, он заплакал. Попе рассмеялся.
– Ступай, – сказал он по-индейски. – Ступай, отважный Агаюта.
Он выбежал в другую комнату, пряча постыдные слезы.
– Тебе пятнадцать лет, – сказал старый Митсима индейскими словами. – Теперь можно учить тебя гончарству.
Они намесили глины, присев у реки.
– С того начинаем, – сказал Митсима, взявши в ладони ком влажной глины, – что делаем подобие луны. – Старик сплюснул ком в круглую луну; загнул края, и луна превратилась в неглубокую чашку.
Медленно и неумело повторил Джон точные, тонкие движения стариковских рук.
– Луна, чашка, а теперь змея. – Взяв другой ком глины, Митсима раскатал его в длинную колбаску, свел ее в кольцо и налепил на ободок чашки. – И еще змея. И еще. И еще. – Кольцо за кольцом наращивал Митсима бока сосуда: узкий внизу, сосуд выпукло расширялся, опять сужался к горлышку. Митсима мял, прихлопывал, оглаживал, ровнял; и вот наконец стоит перед ними мальпаисский сосуд для воды, но не черный, обычный, а кремово-белый и еще мягкий на ощупь. А рядом – его собственное изделие, кривобокая пародия на сосуд Митсимы. Сравнив их, Джон поневоле рассмеялся.
– Но следующий будет лучше, – сказал он, намешивая еще глины.
Лепить, придавать форму, ощущать, как растет умение и сноровка в пальцах, было необычайно приятно.
– А, бе, це, витамин Д, – напевал он, работая. – Жир в тресковой печени, а треска в воде.
Пел и Митсима – песню о том, как добывают медведя. Весь день они работали, и весь тот день переполняло Джона чувство глубокого счастья.
– А зимой, – сказал старый Митсима, – научу тебя делать охотничий лук.
Долго стоял он у дома; наконец обряд внутри кончился. Дверь распахнулась, стали выходить. Первым шел Котлу, вытянув правую руку и сжав ее в кулак, точно неся в ней драгоценный камень. За ним вышла Кьякиме, тоже вытянув сжатую руку. Они шли молча, и молча следовали за ними братья, сестры, родичи и толпа стариков.
Вышли из пуэбло, прошли месу. Встали над обрывом – лицом к утреннему солнцу. Котлу раскрыл ладонь. На ладони лежала горстка кукурузной муки; он дохнул на нее, прошептал несколько слов и бросил эту щепоть белой пыли навстречу встающему солнцу. То же сделала и Кьякиме. Выступил вперед отец ее и, держа над собой оперенную молитвенную палочку, произнес длинную молитву, затем бросил и палочку навстречу солнцу.
– Кончено, – возгласил старый Митсима. – Они вступили в брак.
– Одного я не понимаю, – сказала Линда, возвращаясь в пуэбло вместе с Джоном, – зачем столько шума и возни по пустякам. В цивилизованных краях, когда парень хочет девушку, он просто… Ну куда же ты, Джон?
Но Джон бежал не останавливаясь, не желая слушать, – прочь, прочь куда-нибудь, где нет никого.
Кончено. В ушах раздавался голос старого Митсимы. Кончено, кончено… Издали, молча, но страстно, отчаянно и безнадежно он любил Кьякиме. А теперь кончено. Ему было шестнадцать лет.
В полнолуние, в Антилопьей киве, тайны будут звучать, тайны будут вершиться и передаваться. Они сойдут в киву мальчиками, а подымутся оттуда мужчинами. Всем им было боязно – и в то же время нетерпение брало. И вот наступил этот день. Солнце село, показалась луна. Он шел вместе с остальными. У входа в киву стояли темной группой мужчины; уходила вниз лестница, в освещенную красную глубь. Идущие первыми стали уже спускаться. Внезапно один из мужчин шагнул вперед, взял его за руку и выдернул из рядов. Он вырвал руку, вернулся, пятясь, на свое место. Но мужчина ударил его, схватил за волосы.
– Не для тебя это, белобрысый!
– Не для сына блудливой сучки, – сказал другой. Подростки засмеялись.
– Уходи отсюда. – И видя, что он медлит, стоит неподалеку, опять крикнули мужчины: – Уходи!
Один из них нагнулся, поднял камень, швырнул.
– Уходи отсюда, уходи!
Камни посыпались градом. Окровавленный, побежал он в темноту. А из красных недр кивы доносилось пение. Уже все подростки туда спустились. Он остался совсем один.
Совсем один, за чертой пуэбло, на голой скальной равнине месы. В лунном свете скала – точно кости, побелевшие от времени. Внизу, в долине, воют на луну койоты. Ушибы от камней болят, кровь еще течет; но не от боли он рыдает, а оттого, что одинок, что выгнан вон в этот безлюдный, кладбищенский мир камня и лунного света. Он опустился на краю обрыва, спиной к луне. Глянул вниз, в черную тень месы – в черную сень смерти. Один только шаг, один прыжок… Он повернул к свету правую руку. Из рассеченной кожи на запястье сочилась еще кровь. Каждые несколько секунд падала капля, темная, почти черная в мертвенном свете. Кап, кап, кап. Завтра и снова завтра, снова завтра…
Ему открылись Время, Смерть, Бог.
– Всегда, всегда один и одинок.
Эти слова Джона щемящим эхом отозвались в сердце Бернарда. Один и одинок…
– Я тоже одинок, – вырвалось у него. – Страшно одинок.
– Неужели? – удивился Джон. – Я думал, в Том мире… Линда же говорит, что там никто и никогда не одинок.
Бернард смущенно покраснел.
– Видите ли, – пробормотал он, глядя в сторону, – я, должно быть, не совсем такой, как большинство. Если раскупориваешься не таким…
– Да, в этом все дело, – кивнул Джон. – Если ты не такой, как другие, то обречен на одиночество. Относиться к тебе будут подло. Мне ведь нет ни к чему доступа. Когда мальчиков послали провести ночь на горах – ну, чтобы увидеть там во сне тайного твоего покровителя, твое священное животное, – то меня не пустили с ними; не хотят приобщать меня к тайнам. Но я сам все равно приобщился. Пять суток ничего не ел, а затем ночью один поднялся на те вон горы. – Он указал рукой.
Бернард улыбнулся снисходительно:
– И вам явилось что-нибудь во сне?
Джон кивнул.
– Но чт явилось, открывать нельзя. – Он помолчал, потом продолжал негромко: – А однажды летом я сделал такое, чего никто до меня не делал: простоял под жарким солнцем, спиною к скале, раскинув руки, как Иисус на кресте…
– А с какой стати?
– Хотел испытать, каково быть распятым. Висеть на солнцепеке.
– Да зачем вам это?
– Зачем?.. – Джон помялся. – Я чувствовал, что должен. Раз Иисус вытерпел. И потом, я тогда худое сделал… И еще – тосковал я; вот еще почему.
– Странный способ лечить тоску, – заметил Бернард. Но, чуть подумав, решил, что все же в этом есть некоторый смысл. Чем глотать сому…
– Стоял, пока не потерял сознание, – сказал Джон. – Упал лицом в камни. Видите метину? – Он поднял со лба густые желто-русые пряди. На правом виске обнажился неровный бледный шрам.
Бернард глянул и, вздрогнув, быстренько отвел глаза. Воспитание, формирование сделали его не то чтобы жалостливым, но до крайности брезгливым. Малейший намек на болезнь или рану вызывал в нем не просто ужас, а отвращение и даже омерзение. Брр! Это как грязь, или уродство, или старость. Он поспешно сменил тему разговора.
– Вам не хотелось бы улететь с нами в Лондон? – спросил он, делая этим первый ход в хитрой военной игре, стратегию которой начал втихомолку разрабатывать, как только понял, кто является так называемым отцом этого молодого дикаря. – Вы бы не против?
Лицо Джона все озарилось.
– А вы правда возьмете с собой?
– Конечно, если, то есть, получу разрешение.
– И Линду возьмете?
– Гм… – Бернард заколебался. Взять это отвратительное существо? Нет, немыслимо. А впрочем, впрочем… Бернарда вдруг осенило, что именно ее отвратность может оказаться мощнейшим козырем в игре. – Но конечно же! – воскликнул он, чрезмерной и шумной сердечностью заглаживая свое колебание.
Джон глубоко и счастливо вздохнул.
– Подумать только – осуществляется то, о чем мечтал всю жизнь. Помните, что говорит Миранда?
– Кто?
Но молодой человек, видимо, не слышал переспроса.
– О чудо! – произнес он, сияя взглядом, разрумянившись. – Сколько вижу я красивых созданий! Как прекрасен род людской! – Румянец стал гуще: Джон вспомнил о Линайне – об ангеле, одетом в темно-зеленую вискозу, с лучезарно юной, гладкой кожей, напоенной питательными кремами, с дружелюбной улыбкой. Голос его дрогнул умиленно. – О дивный новый мир… – Но тут он вдруг осекся; кровь отхлынула от щек, он побледнел как смерть. – Она за вами замужем? – выговорил он.
– За мной – что?
– Замужем. Вступила с вами в брак. Это провозглашается индейскими словами и нерушимо вовек.
– Да нет, какой там брак! – Бернард невольно рассмеялся. Рассмеялся и Джон, но по другой причине – от буйной радости.
– О дивный новый мир, – повторил он. – О дивный новый мир, где обитают такие люди. Немедля же в дорогу!
– У вас крайне эксцентричный способ выражаться, – сказал Бернард, озадаченно взирая на молодого человека. – Да и не лучше ли подождать с восторгами, увидеть прежде этот дивный мир?
Глава девятая
Линайна чувствовала себя вправе – после дня, наполненного странным и ужасным, – предаться абсолютнейшему сомотдыху. Как только вернулись на туристский пункт, она приняла шесть полуграммовых таблеток сомы, легла в кровать и минут через десять плыла уже в лунную вечность. Очнуться, очутиться опять во времени ей предстояло лишь через восемнадцать часов, а то и позже.
А Бернард лежал, бессонно глядя в темноту и думая. Было уже за полночь, когда он уснул. Далеко за полночь; но бессонница дала плоды – он выработал план действий.
На следующее утро, точно в десять часов, мулат в зеленой форме вышел из приземлившегося вертоплана. Бернард ждал его среди агав.
– Мисс Краун отдыхает, – сказал Бернард. – Вернется из сомотдыха часам к пяти, не раньше. Так что у нас в распоряжении семь часов.
(«Слетаю в Санта-Фе, – решил Бернард, – сделаю там все нужное и вернусь, а она еще спать будет».)
– Безопасно ей будет здесь одной? – спросил он мулата.
– Как в кабине вертоплана, – заверил тот.
Сели в машину, взлетели. В десять тридцать четыре они приземлились на крыше санта-фейского почтамта; в десять тридцать семь Бернарда соединили с Канцелярией Главноуправителя на Уайтхолле; в десять тридцать девять он уже излагал свое дело четвертому личному секретарю его фордейшества; в десять сорок четыре повторял то же самое первому секретарю, а в десять сорок семь с половиной в его ушах раздался звучный бас самого Мустафы Монда.
– Я взял на себя смелость предположить, – запинаясь, докладывал Бернард, – что вы, ваше фордейшество, сочтете случай этот представляющим достаточный научный интерес…
– Да, случай, я считаю, представляет достаточный научный интерес, – отозвался бас. – Возьмите с собой в Лондон обоих индивидуумов.
– Вашему фордейшеству известно, разумеется, что мне будет необходим специальный пропуск…
– Соответствующее распоряжение, – сказал Мустафа, – уже передается в данный момент Хранителю резервации. К нему и обратитесь безотлагательно. Всего наилучшего.
Трубка замолчала. Бернард положил ее и побежал на крышу.
– Летим к Хранителю, – сказал он мулату в зеленом.
В десять пятьдесят четыре Хранитель тряс руку Бернарду, здороваясь.
– Рад вас видеть, мистер Маркс, рад вас видеть, – гудел он почтительно. – Мы только что получили специальное распоряжение…
– Знаю, – не дал ему кончить Бернард. – Я разговаривал сейчас по телефону с его фордейшеством. – Нбрежно-скучающий тон Бернарда давал понять, что разговоры с Главноуправителем – вещь для Бернарда самая привычная и будничная. Он опустился в кресло. – Будьте добры совершить поскорее все формальности. Поскорей, будьте добры, – повторил он с нажимом. Он упивался своей новой ролью. В три минуты двенадцатого все необходимые бумаги были уже у него в кармане.
– До свидания, – покровительственно кивнул он Хранителю, проводившему его до лифта. – До свидания.
В отеле, расположенном неподалеку, он освежил себя ванной, вибровакуумным массажем, выбрился электролизной бритвой, прослушал утренние известия, провел полчасика у телевизора, отобедал не торопясь, со вкусом и в половине третьего полетел с мулатом обратно в Мальпаис.
– Бернард, – позвал Джон, стоя у туристского пункта. – Бернард!
Ответа не было. Джон бесшумно взбежал на крыльцо в своих оленьих мокасинах и потянул дверную ручку. Дверь заперта.
Уехали! Улетели! Такой беды с ним еще не случалось. Сама приглашала прийти, а теперь нет их. Он сел на ступеньки крыльца и заплакал.
Полчаса прошло, прежде чем он догадался заглянуть в окно. И сразу увидел там небольшой зеленый чемодан с инициалами Л. К. на крышке. Радость вспыхнула в нем пламенем. Он схватил с земли голыш. Зазвенело, падая, разбитое стекло. Мгновение – и он уже в комнате. Раскрыл зеленый чемодан, и тут же в ноздри, в легкие хлынул запах Линайны, ее духи, ее эфирная сущность. Сердце забилось гулко; минуту он был близок к обмороку. Наклонясь к драгоценному вместилищу, он стал перебирать, вынимать, разглядывать. Застежки «молнии» на вискозных шортах озадачили его сперва, а затем – когда решил загадку «молний» – восхитили. Дерг туда, дерг обратно, жжик-жжик, жжик-жжик; он был в восторге. Зеленые туфельки ее – ничего чудесней в жизни он не видел. Развернув комбилифчик с трусиками, он покраснел, поспешно положил на место; надушенный ацетатный носовой платок поцеловал, а шарфик повязал себе на шею. Раскрыл коробочку – и окутался облаком просыпавшейся ароматной пудры. Запорошил все пальцы себе. Он вытер их о грудь свою, о плечи, о загорелые предплечья. Как пахнет! Он закрыл глаза; он потерся щекой о запудренное плечо. Прикосновение гладкой кожи, аромат этой мускусной пыльцы – будто сама Линайна здесь.
– Линайна, – прошептал он. – Линайна!
Что-то ему послышалось, он вздрогнул, оглянулся виновато. Сунул вынутые воровским образом вещи обратно, придавил крышкой; опять прислушался и огляделся. Ни звука, ни признака жизни. Однако ведь он явственно слышал – не то вздох, не то скрип половицы. Он подкрался на цыпочках к двери, осторожно отворил – за дверью оказалась широкая лестничная площадка. А за площадкой – еще дверь, приоткрытая. Он подошел, открыл пошире, заглянул.
Там, на низкой кровати, сбросив с себя простыню, в комбинированной розовой пижаме на «молниях», лежала и спала крепким сном Линайна – и была так прелестна в ореоле кудрей, так была детски-трогательна со своим серьезным личиком и розовыми пальчиками ног, так беззащитно и доверчиво разбросала руки, что на глаза Джону навернулись слезы.
С бесконечными и совершенно ненужными предосторожностями – ибо досрочно вернуть Линайну из ее сомотдыха мог разве что гулкий пистолетный выстрел – он вошел, он опустился на колени у кровати. Глядел, сложив молитвенно руки, шевеля губами. «Ее глаза», – шептал он:
- Ее глаза, лицо, походка, голос;
- Упомянул ты руки – их касанье
- Нежней, чем юный лебединый пух,
- А перед царственной их белизною
- Любая белизна черней чернил…
Муха, жужжа, закружилась над ней; взмахом руки он отогнал муху. И вспомнил:
- Мухе – и той доступно сесть
- На мраморное чудо рук Джульетты,
- Мухе – и той дозволено похитить
- Бессмертное благословенье с губ,
- Что разалелись от стыда, считая
- Грехом невольный этот поцелуй;
- О чистая и девственная скромность!
Медленно-медленно, неуверенным движением человека, желающего погладить пугливую дикую птицу, которая и клюнуть может, он протянул руку. Дрожа, она остановилась в сантиметре от сонного локтя – почти касаясь. Посметь ли? Посметь ли осквернить прикосновением низменной руки… Нет, нельзя. Слишком опасна птица и опаслива. Он убрал руку. Как прекрасна Линайна! Как прекрасна!
Затем он вдруг поймал себя на мысли, что стоит лишь решительно и длинно потянуть вниз эту застежку у нее на шее… Он закрыл глаза, он тряхнул головой, как встряхивается, выходя из воды, ушастый пес. Пакостная мысль! Стыд охватил его. «О чистая и девственная скромность!..»
В воздухе послышалось жужжание. Опять хочет муха похитить бессмертное благословение? Или оса? Он поднял глаза – не увидел ни осы, ни мухи. Жужжание делалось все громче, и стало ясно, что оно идет из-за ставней, снаружи. Вертоплан! В панике Джон вскочил на ноги, метнулся вон, выпрыгнул в разбитое окно и, пробежав по тропке между высокими агавами, поспел как раз к приземлению вертоплана.