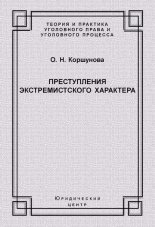Египет-69 Куберский Игорь

Часть первая
– Где бомбили? – спросил Веденин, едва я представил его генералу.
– Эль-Кантара, – ответил бригадный генерал Заглюль.
– Потери есть?
– Yes, – сказал генерал и, встав со стула – вставать ему не хотелось, – грузно спустился к матово светившимся планшетам КП. Он говорил короткими фразами, подчеркнуто делая паузу после каждой, чтобы мне было удобно переводить. – Авиация противника нанесла удар по двум ракетным дивизионам. Одна установка выведена из строя. Убито три солдата, ранен один офицер.
– Стреляли? – спросил Веденин.
– Было четыре пуска. Операторы доложили, что видели вспышку цели. Разведчики говорят, что один самолет сбит.
– Где упал?
– На той стороне, на Синае.
– Как всегда, – усмехнулся Веденин.
Генерал Заглюль пожал плечами. Видно было, что он и сам не очень-то верил донесению.
– Tea, cofee? – возвращаясь на свое место, предложил он нам.
– Кофе! – сказал Веденин.
– Ахуа итнын! (Два кофе!) – кивнул генерал стоявшему за его спиной солдату, и тот звонко и весело, будто просьба и в самом деле содержала в себе что-то радостное, передал распоряжение дальше.
Принесли кофе – на подносе, в маленьких стаканчиках.
– Противник использовал бомбы замедленного действия, – глядя, как мы пьем, продолжал генерал. – Время срабатывания – от пяти минут до трех часов. Бомбы упали в мягкий грунт. Обнаружить их сложно. Они продолжают взрываться – это деморализует личный состав.
Веденин сделал последний глоток и, покачивая головой, отставил пустой стаканчик.
За матовой стеной планшетов воздушной обстановки маячили силуэты солдат. Один на мгновенье прижался лицом, так что стали видны его глаза, и резко постучал по оргстеклу – со стороны Синая, через Суэцкий канал, прямо к нам, к синему кружку Абу-Сувейра, поползла жирная черная линия.
– Налет, – устало сказал генерал, берясь за телефон, и в тот же момент где-то над нами ухнул взрыв.
– Пошли! – схватил меня за руку Веденин. Мы поспешили к выходу.
– Куда? – обернулся генерал. – Там бомбят! – Впервые на его лице обозначился интерес к нам.
– Малеш! (Не важно!) – улыбнулся Веденин.
Я и сам не могу сидеть в укрытии во время бомбежки. Я должен видеть что и как. Страх рождается от неизвестности. Мой отец, воевавший под Сталинградом, рассказывал: «Если ты видишь, куда бросают бомбы, тебе ничего не грозит. Если даже в тебя, ты успеешь перебежать в другое место». Дело, наверное, даже не в том – успеешь или нет, сейчас едва ли успеешь, главное – ощущать опасность не спиной и затылком, а видеть ее перед собой. Так можно быть с ней на равных. Хотя бы поначалу.
Майор Атеф, с которым мы приехали, был тут же, наверху. Увидев нас, он кивнул в сторону, откуда раздавались взрывы:
– Радиолокационную роту бомбят.
Раскалывая воздух, над нами пронесся бомбардировщик. Мы машинально пригнулись. Это был «скайхок». Он только что вышел из пике и с усилием рвался вверх. Сейчас он летел низко, был хорошей мишенью и знал это. Но уже уходил на форсаже, так что было видно его сопло.
Бомбили за деревьями, метрах в трехстах от нас. Я вскочил на бетонную стенку, защищавшую вход на КП. Впереди, за освещенными солнцем эвкалиптами в нежном предвечернем небе стояли ватные комочки взрывов. Среди них быстро плыл маленький серебристый самолетик – он плыл высоко и неслышно, и звонкие стонущие выстрелы наших зениток, казалось, не имели никакого отношения ни к нему, ни к тем ватным комочкам, что возникали у него на пути. Казалось, что он не проберется сквозь них – я все ждал другой, огненной, вспышки, – но самолетик, сверкнув крыльями, уже обваливался в пике, и, пока он рос на глазах, все молчало вокруг, а Веденин кричал где-то рядом:
– Почему не стреляют на упреждение?! Где упреждение, елкины дети?!
За деревьями раздавался взрыв, коричневое облако подымалось над зелеными кронами, и снова над нашими головами проносилась серебристая, устрашающе грохочущая болванка с одним-единственным желанием – снова вжаться в спасительную высоту. Теперь стреляли. Золотистые снаряды, как пчелы из улья, взмывали вверх, едва не впиваясь в треугольник крыльев, – и жалили, жалили, жалили пустоту.
В щелях возле КП, сгрудившись касками, сидели солдаты. Бомбили не нас, но они находились на боевом посту, и было что-то неловкое в том, что мы стояли в рост рядом с ними.
Через пять минут все стихло. Мы вернулись на командный пункт. Планшет был чист. Генерал пил кофе.
– Кофе или чай? – по-арабски спросил он и тотчас поправился: – Tea, cofee? – Он снова был официально предупредителен.
– Шукран, баден (Спасибо, потом), – ответил по-арабски Веденин и, помогая себе руками, добавил: – Эхна хенак арабия алатуль!
Я понял, что он хочет съездить к РЛС, и перевел это на английский.
– Ле? Why? – Генерал типичным арабским жестом вскинул перед собой руку открытой горстью вверх и повернулся ко мне, подчеркивая крайность своего недоумения.
– Лязем шуф! – сказал Веденин.
– Мистер Веденин хочет посмотреть, – на всякий случай повторил я по-английски.
Мы забрались в наш газик.
– Мистер Веденин, генерал Заглюль прав, – сказал майор Атеф, стоя возле открытой дверцы. – Это не наше дело. Кроме того, там могут быть бомбы замедленного действия…
– Не хотите – оставайтесь, – сказал Веденин. Он сидел сзади, рядом со мной, и нетерпеливо простукивал пальцами папку, с которой никогда не расставался.
– Ох, мистер Веденин, мистер Веденин, – укоризненно вздохнул майор Атеф и тяжело полез на переднее сиденье. Он был такой большой, что машина присела. Наш шофер включил газ, и мы выскочили из-под навеса эвкалиптов в желто-серую, тут же начинающуюся пустыню.
– Мы быстро, туда и обратно, – примирительно тронул Атефа за плечо Веденин.
– Ох, мистер Веденин, – покачал головой майор, – не наше это дело.
Я был благодарен Веденину. До него я был просто штабистом: «Олимпия» с латинским шрифтом, груды технических словарей, обед с часу до трех…
И когда на выходные приезжал с канала мой сосед по комнате – переводчик из Москвы Сергей Фоменко – и, сбрасывая у двери пропыленную арабскую форму, сообщал о перестрелке или воздушном налете, я завидовал ему… Но вот уже два месяца как меня назначили переводчиком к советнику начальника войсковой ПВО, и мы то и дело мотались вдоль Суэцкого канала, где редкая поездка обходилась без боевых действий. К тому же нам везло – до сих пор мы оставались только наблюдателями; скорее можно было попасть под осколки своих же зенитных снарядов, рвущихся над головой.
…Издали казалось, что на территории роты все по-прежнему: ничего не горело, не дымилось, только радарную антенну на холме слегка перекосило. Рота располагалась в небольшой котловине. Газик встал возле самого спуска, мы вылезли.
– А бомбят-то так себе, – уперев руки в бока и обводя прищуренным взглядом вспаханную воронками землю, сказал Веденин.
– Лучше идите сюда! – позвал майор Атеф. Он показывал вниз, на грузовик, обложенный по бортам мешками с песком. Его начиненный электроникой кузов был вздут – очевидно, ударом взрывной волны. Из-под развороченной обшивки торчали белоснежные бруски пенопласта. Атеф спустился вниз и зачем-то вытащил два бруска. Один он протянул Веденину.
Кто-то бежал к нам понизу. Еще издали Веденин узнал советника командира батальона подполковника Клевцова. С ним был переводчик. Веденин ждал их, похлопывая бруском по колену.
– Здравия желаю, тащ полковник! – живо взобравшись по песку и часто дыша, приветствовал Клевцов. – Видели?
– Видел, видел.
Мы с переводчиком переглянулись, как бы на своем уровне обмениваясь впечатлениями.
– Воюем, тащ полковник! – В голосе Клевцова угадывалось мнение обо всех нас, штабных, которые не воюют.
– Что-то не вижу сбитых самолетов, – вполголоса, словно Атеф мог его понять, буркнул Веденин. – Потери есть?
Загорелое лицо Клевцова сразу стало серьезным.
– Одиннадцать человек личного состава. Прямое попадание в землянку. Мы сейчас там были: жуткое зрелище, каша…
– А говорите «воюем», – помрачнел Веденин и отвернулся.
– Мы, тащ полковник, – кашлянув, сказал Клевцов, – мы собирались сейчас парочку батарей проверить…
– Непременно! – кивнул Веденин и, глядя, как они удаляются той же мелкой суетливой побежкой, крикнул вслед:
– Только осторожней! Не подорвитесь тут!
На бегу Клевцов беспечно махнул рукой, однако в плечах его застыла тревога.
Атеф неуютно поглядывал вокруг:
– Поехали, мистер Веденин!
Потоптавшись возле одной из воронок, словно что-то прикидывая, Веденин не сразу кивнул и молча полез в машину.
Неподалеку на песчаном бугре располагалась одна из батарей прикрытия. Это была батарея крупнокалиберных спаренных пулеметных установок. Газик остановился внизу. Заметив мощную фигуру майора, нам навстречу вытянулся стройненький лейтенант. Он сделал строгое лицо, но глаза его смеялись.
– Молодец! – помял Веденин ему плечо.
Я запнулся, решая, как точнее перевести, но лейтенант, командир батареи, понял и так.
– Страшно небось было? – не отпуская его, подмигнул Веденин.
Лейтенант, ему от силы было двадцать два года, вопросительно посмотрел на меня и, услышав перевод, яростно замотал головой.
Мы обошли установки. Солдаты следили за нами, не покидая своих боевых постов. У них были усталые закопченные лица.
– Ну, как стрелял? – спросил Веденин одного.
Я перевел на английский и, видя, что он не понимает, повторил по-арабски. Говорил я, правда, немногим лучше Веденина.
– Так все время и стрелял? Без перерыва?
– Нет!
– А когда? – допытывался Веденин, делая знак Атефу, который пытался подсказать.
– Когда самолет был внизу.
– На какой высоте?
– Сто метров.
– С каким упреждением?
Солдат знал и это.
– Ну что ж, – поднял голову Веденин, оглядывая остальных, старавшихся услышать разговор. – Шукран, куллю квайс! (Спасибо, все хорошо!)
Все заулыбались.
Позади грохнуло, так что под ногами вздрогнула земля, и тут же кто-то пустил в небо пулеметную очередь.
На территории роты взорвалась бомба. Землю вынесло чуть ли не на высоту пятиэтажного дома как раз там, где недавно пробегали Клевцов с переводчиком. Все смотрели, как опадает коричневый столб.
– М-да… – потер подбородок Веденин и направился к газику. На ходу он обернулся и громко сказал: – Мушлязем дарбанар! Таяра мафиш! (Стрелять не надо! Самолетов нет!) – За неимением других слов он выразительно обвел рукой небо, как бы своей волей освобождая его на сегодня от самолетов противника.
Не отъехали мы и на сотню метров, как за нами, перекрыв гул мотора, снова грохнул взрыв.
– Уаф! (Стой!) – крикнул шоферу Атеф и, пригнув голову, мгновенно, несмотря на свой большой вес, выскочил из машины.
«Налет!» – подумал я, но едва взялся за ручку дверцы, как Веденин удержал меня за рукав.
– Глядите, мистер Веденин! – показывая назад, возбужденно говорил майор Атеф. Теперь уже было ясно, что это не авиация.
Позади, там, где слежавшийся песок пропечатали протекторы нашего газика, дымилась огромная рваная воронка.
– Чепуха, – скорее себе, чем нам, пробормотал Веденин. – Бомба глубоко в грунте, осколки пошли вверх.
– Если бы мы задержались на десять секунд! – выговаривал Веденину Атеф.
– Если бы да кабы… – буркнул Веденин и тихонько подтолкнул меня, – можешь перевести?
– Попробую, – сказал я.
– Ладно, – махнул он рукой, – не надо.
Пока мы выбирались на дорогу, пока военная полиция снова тщательно проверяла наши документы, солнце опустилось совсем низко и верхушки пальм, западные стены домов, пыль из-под колес – все стало оранжевым. Городок оживал, из маленьких темных кофеен доносились острые запахи арабской кухни, жители, возбужденно жестикулируя, обсуждали подробности бомбежки. Теперь, когда до наступления темноты оставалось не более получаса и было ясно, что налетов больше не ожидается, каждый особенно остро чувствовал эту вечернюю благодать, и разговоры за чашкой кофе на пыльной террасе возле дороги, игры в нарды, призывы лотошников, торгующих контрабандной мишурой, возня над латаным-перелатаным «фордом» в кустарной автомастерской, – все это возобновлялось с утроенной энергией, как если бы спор со смертью состоял в том, чтобы не уступить ей ни одной из своих повседневных привычек. За дорогой на узком канале в колючей ограде пыльных кактусов нежно золотился ребристый парус фелюги, напоминая о Ниле, над которым сейчас тоже совершался скорый и скромный закат, о вечернем Каире, где в синеватом свете улиц сплошным потоком несутся автомобили и так же, как здесь, призывно и пряно веет из кофеен…
Из-за бомбежки мы не остались на ужин в штабе бригады, хотя генерал Заглюль настойчиво нас приглашал. Мы рассчитывали перекусить в Бильбейсе, где бросили после обеда своего генерала Каляуи (Веденин упорно называл его Каляви). Мы могли обойтись и без Атефа, но предупредительный Каляуи велел ему ехать, и Атефу было досадно, что его послали не по делу, а как бы за компанию. Однако он был из тех арабских офицеров, кого мы называли «своими», и генерал Каляуи, начальник войсковой ПВО, учитывал это.
Теперь майор Атеф оживленно посматривал на дорогу, изредка бросая тихие команды солдату-шоферу, который ехал с нами в первый раз. Мы обгоняли огромные, мятые, набитые до отказа автобусы, ишаков, тряско несущих свою поклажу или седока; с вечерних полей, что начинались сразу за дорогой, шли навстречу феллахи в полосатых галабеях – они узко ступали по пыльной обочине, и лица их были усталы, а глаза весело-пронзительны, как у тех солдат с батареи крупнокалиберных спаренных пулеметов. За темными массами эвкалиптов, вставших вдоль дороги, все мрачнел закат, темно-красный, как гранатовый сок, затем на дороге совсем стемнело, шофер включил передний свет, и, когда газик продрожал колесами по бревнам настила и, погасив для маскировки фары, осторожно двинулся к военному городку, небо уже было все в звездах.
Мы подъехали в полной темноте. Я ждал, что сейчас навстречу с пугающим криком выскочит часовой, держа наизготовку карабин, – по сути, он был беззащитен, может, оттого так искажено было его лицо, – но никто нас не встречал.
– Спит охрана, – проворчал Веденин и, тронув меня за локоть, повторил для Атефа: – Я говорю, охрана-то заснула…
Атеф недоуменно пожал плечами.
Я выглянул из машины. Слева в звездное небо впечатывались силуэты каких-то строений. Над одним из них была встопорщена крыша, и из нее веером торчали доски, будто ее решили сменить, сбросив целиком. От земли шел непонятный блеск, словно там насыпали осколков стекла, и я не сразу догадался, что это вода. Откуда она тут взялась? Приказав шоферу ждать, мы захлопнули дверцы и пошли мимо поднятого шлагбаума – конец веревки сиротливо застыл в высоте – к ближайшему дому, где за окном двигалось сразу несколько точек света, будто от фонариков.
– Кто здесь? – остановил нас возле изгороди громкий шепот по-русски, и из темноты нам навстречу шагнул знакомый советник. – А, это вы, товарищ полковник…
– Что тут у вас случилось? – спросил Веденин, впервые за всю поездку вспомнив про курево и обхлопывая свои карманы.
– Полковника Карасева убили.
– Что?!
– Карасева Юрия Ивановича…
В доме, где жил Карасев, теснилось человек десять. Был здесь и генерал Каляуи. Увидев нас, он кивнул, скорбно прикрыв глаза. Говорили все шепотом.
В доме было все цело – выбило только оконную раму да с антресолей упал чемодан. В чемодане были подарки для жены и двух дочек. У Карасева через неделю кончался срок контракта. Подарки сложили на столе среди неубранных осколков стекла.
…У шлагбаума он отпустил машину и направился к дому, с портфелем в руке. Он прошел ровно половину этого короткого пути. Разрыва он не слышал и не знал, что убит. Самолеты противника прошли на малой высоте – рев турбин раздался уже после разрыва, когда «фантомы» были далеко. Они шли бомбить расположение танковой бригады. Ракета была пущена по ошибке, раньше времени – видно, у кого-то из израильских летчиков сдали нервы. Кажется, с начала новой кампании это была первая потеря в наших рядах.
Я знал полковника Карасева. Месяца три назад в нашем штабе ПВО он выбивал себе переводчика. Прежний уехал домой, а нового не давали.
– Ну и чего ты тут сидишь? – наседал он на меня, в то время как я корпел над письменным переводом на английский очередной инструкции по эксплуатации радиорелейной техники. – Поехали. Хоть с людьми пообщаешься, с народом. А?
Арабская, полевая, без погон, форма сидела на нем мешковато, но привычно, матерчатая фуражка была сдвинута на бритый затылок, он то и дело наставлял на себя вентилятор – на улице нечем было дышать. Переводчика ему тогда так и не дали. Считалось, что на точке за два года можно научиться хоть китайскому, к тому же его «подсоветный» прекрасно говорил по-русски.
– Да о чем мне с ним говорить, – качал головой Карасев, – он даже пива не пьет…
Оставаться здесь не имело смысла – до Каира было всего полтора часа езды. Почти всю дорогу молчали. Только Атеф что-то тихо рассказывал генералу Каляуи, и по отдельным словам я понимал, что речь идет о наших с Ведениным подвигах. Веденин сидел впереди. Нас встряхивало на ямах, мотало на поворотах, а он оставался неподвижен. Глядя на его окаменевшую спину, я вдруг почувствовал, что устал. Хотелось есть. Мы обедали в два часа дня. Шел двенадцатый, и в лавке еще можно было купить лепешек, а если повезет, то и «кафты» – мелко нарезанного мяса, поджаренного на противне. Но мы не останавливались. В звездном небе зашевелились черные вееры пальм, рубчатые стволы в свете фар были землисто-серы. Начинался Каир.
Проскочили под мостом, за которым у дороги еще торговали апельсинами. На окраине фрукты были дешевле, и мы обычно здесь останавливались. Но наш новый шофер даже не притормозил, а Веденин не шевельнулся, и газик покатил дальше, мимо обшарпанных домов бедноты, по пыльным душным ночным улицам.
В респектабельном Гелиополисе стало свежее – молчаливые виллы, освещенные звездами и лунным светом, и повсюду переливается, широко раскачивается темная ночная листва. Первым у своей виллы вышел генерал Каляуи. У майора Атефа не было виллы, но жил он тоже неподалеку, как раз на пути к нашему еще строящемуся Наср-Сити-2. За Наср-Сити не было уже ничего – только пустыня, и когда выходил Веденин (мы жили в разных домах), в открывшуюся на миг кабину ударил прохладный сухой ветер. Газик взял последний разбег. Часы показывали полпервого. За поворотом открылся мой новый одиннадцатиэтажный дом, пустырь…
Араб был еще там, на пустыре. За столиками – никого, но он был. Даже углей не погасил – темно-оранжевый отблеск освещал его склоненное над жаровней лицо. Я отпустил машину и торопливо зашагал к нему.
Он появился совсем недавно. Он привез небольшую жаровню, поставил три зеленых пластмассовых столика, несколько таких же легких стульев и стал готовить шашлыки, называемые кебаб. В алюминиевом ящике со льдом он держал большие бутылки арабского пива. Был он сухощав, мал ростом и, когда к нему обращались, улыбался.
– Айуа, мистер! – издали приветствовал он.
– Добрый вечер, – сказал я. – Можно кебаб?
– Айуа, можно, – закивал он. – Один, два?
– Два, – сказал я и добавил почти с уверенностью: – Пива нет?
– Есть, есть! – засмеялся он, хлопнул крышкой своего ящика, пошуровал среди совсем по-нездешнему отозвавшихся льдинок и вынул мокрую бутылку «Стеллы». Я выпил подряд два стакана и подошел к его жаровне. Он уже нанизал ломти мяса, прореженные кусочками помидоров, и, помяв в ладони катыш фарша, облепил им оставшуюся половину шампура.
Я стоял и смотрел, как с шампура на оранжевые угли капает сок, выбивая в них темные пятна. Араб взял голубиное крыло и, перевернув шампуры, стал их обмахивать.
Его звали Мустафа. Сам он был из Суэца. Там во время трехдневной войны погибла его семья: жена и сын. Он перебрался в Исмаилию. Но и Исмаилию обстреливали.
Мы сидели за столом и ели шашлыки – я его угощал. От пива он отказался.
– У мистера есть семья? – спросил он.
– Нет, – сказал я.
– Без семьи нельзя, – сказал он, – мущмумкен. Надо, чтобы была семья, чтобы были дети, аулад. – Он отвернулся и молча смотрел на дорогу.
Дорога шла на Суэц, кратчайшая дорога через пустыню. По ней двигались тяжелые грузовики с наглухо закрытыми брезентовыми фургонами. Гул моторов поочередным эхом отдавался от стен одиннадцатиэтажных корпусов.
– Я знаю, это везут снаряды, – сказал он. – Каждую ночь. В Каире не стреляют, а там, – указал он на восток, – там идет война. Мистер приехал оттуда?
– Да, – сказал я.
По пустырю гулял ветер, и я поднял воротник военной куртки. Только теперь я заметил, что его бьет крупная дрожь.
– Холодно, – поежился я.
Он охотно закивал.
– Можно идти домой, – поднимаясь, сказал я. – Работа халас, финиш. Никого нет – денег нет.
Он протестующе зацокал языком, замотал головой:
– Работа не конец, может еще приехать русский мистер. Оттуда…
В моей пустой комнате на седьмом этаже дверь на балкон была открыта, и ветер постукивал ею по стойке кровати. Я закрыл дверь, принял душ и лег. Вытянулся на спине и закрыл глаза, надеясь сразу провалиться в сон. Я лежал так до тех пор, пока не понял, что заснуть не удастся. Потом встал, закурил и вышел на балкон.
Мустафа был еще там, на пустыре, возле своей жаровни – то ли грелся, то ли загораживал ее от ветра. Из-за его согнутой спины взлетали вверх золотистые, как пчелы, искры.
Через месяц он исчез. Краем уха я слышал, что его забрала военная контрразведка.
Один из самых дорогих снов – что я снова в Египте, что мне подарена невозможная радость вернуться в Каир и вот я иду сквозь его сокровища, в моем сне они действительно превращаются в нечто серебряное, филигранное, в награды, инкрустированные золотом, – это драгоценные слитки памяти, это мои чувства, испытанные тогда, мои страхи или надежды, моя любовь, моя молодость – я чувствую вес этих наград, отягощающих грудь, и в глазах моих стоят слезы благодарности – я вернулся, я вернулся!
Впрочем, я могу и ошибаться, многое забыто, а то, что было памятно, осталось лишь каким-нибудь чувством, порывом ветра, пересвистом птиц в струящейся листве ив, столь похожей на листву эвкалиптов… Да и сам Египет я помню скорее как звук, как запах, и ровно так же – ту войну, шелест артиллерийского снаряда над головой (казалось, его можно увидеть…) и рев израильских «скайхоков», пикирующих на позиции арабских РЛС, точно таких же, как там, на Крайнем Севере, где я, что называется, исполнял свой воинский долг, служа отечеству рядовым солдатом. В Египте я был уже лейтенантом. Да, еще разрыв снаряда или бомбы… но громче их – постоянный, необратимый, как судьба, как ежеутренний восход палящего солнца, которого никто не в силах отменить, голос муэдзина с высокой мечети, с ее минаретов, где установлены радиорепродукторы, – надсадный плачущий голос нашего бесконечного человеческого одиночества, взывающего к бесконечным небесам:
«Аллах акбар!»
Но где же она, Мона, девятнадцатилетняя Мона Абдель-Ази? Она стоит на краю моего сна, не смея окликнуть меня. Она все та же, а я… я на тридцать пять лет старше… Узнает ли? Она долго писала мне письма, она умоляла, заклиная всем святым, что есть на земле, ответить ей. Хотя бы только дать знать, что я жив, продолжаю жить, пусть и невозможно далеко… Я не отвечал, на что у меня были свои причины. Ведь я обещал ей через год вернуться, ведь я дал в Минобороны согласие на пролонгацию военного контракта – оставалось только защитить диплом… Но меня больше не пустили. Мне отказали в выезде. Почему? Об этом я могу только гадать. Скорее всего, потому что военная цензура перлюстрировала мои письма, в которых, впрочем, не было ничего антисоветского, разве что вольный, непредвзятый взгляд на вещи, что всегда раздражает власть… Или что-то другое… Впрочем, теперь это уже совсем не важно.
Я познакомился с ней… Стоп. Сначала была Ольга, и мы встречались, когда это было возможно. Но нам приходилось от всех прятаться, потому что у нее был муж и ребенок, девочка с рыжими кудряшками, к счастью, еще не разговаривавшая. Совсем кроха… А то бы она непременно просветила бы своего рыжего папочку… Не знаю, что нашла во мне Ольга и почему она изменяла своему мужу. Не потому, что была неудовлетворенна в своей семейной жизни, – как раз с этим у нее было все в порядке, сама говорила, что муж у нее вполне… Да и можно ли это назвать изменой ему – бодрому симпатяге, лишь раз в неделю возвращавшемуся в Каир со своей высоковольтной линии электропередач, то есть ЛЭП, которую русские спецы тянули от самого Асуана. Их у нас так и называли – лэповцы. Лэповцы жили семьями, как и большинство офицерского состава, – лишь мы, вчерашние выпускники военных кафедр институтов и университетов, получившие дополнительную специальность военных переводчиков, холостяковали, даже если у кого-то и были жены. Просто у нас был годичный контракт – а по такому контракту жена не полагалась…
У меня жены и не было. Думаю, Ольга встречалась со мной потому, что была молода и хороша собой, а муж по неделе отсутствовал, а жизнь бурлила в ней, но какая это жизнь, если ты с утра до вечера привязана к маленькой девочке, к базарчику возле твоей многоэтажки, к пустой квартире на шестом этаже с холодными каменными полами, к ожиданию, когда наконец твой суженый соизволит приехать с субботы на воскресенье, чтобы нехотя оттрахать тебя, потому что он устал от жары и арабов, потому что ничего не клеится и ничего так не хочется, как только нормально поесть и отоспаться…
У нее не было никаких комплексов насчет того, что она плохая мать или неверная жена… Она была воплощением естественности… То, что ей нравилось делать, то и было правильно и хорошо. А потом они всей семьей уехали в Танту, что в дельте Нила, и я тосковал по ней. Был месяц июль, и над всем Египтом, как высшее божество и верховный судия, каждый день восходило солнце, и все живое искало тени, чтобы выжить, – тени и воды. А я сидел в Хургаде, и передо мной было море. Хургада считалась ссылкой, Хургадой пугали, но я знал, что рано или поздно придет и мой черед…
Я стою около ревущего самолета, еще ошеломленный нестерпимой болью в ушах, которая терзала меня целых полчаса до посадки, и жмурю глаза от ослепительного сияния желтой пустыни, от слюдяного блеска раскаленного воздуха, еще не вполне осознавая смысл целенаправленной суеты, царящей вокруг. Долетели благополучно, сделав, правда, крюк над Луксором, поскольку вдоль Суэцкого залива барражировали израильские «миражи». Одна надежда, что транспортников не трогают. Не тронули…
У широко раскрытого сзади фюзеляжа АН-12 снуют арабские солдаты, вытаскивают какие-то металлические фермы, несколько младших офицеров в такой же, как у солдат, хлопчатобумажной полевой форме деловито отдают приказания. Сноровисто загрузив открытые кузова двух грузовиков, солдаты уезжают, а мы остаемся стоять, здесь, в пятистах километрах к юго-востоку от Каира, у побережья Красного моря, в местечке, которое мы называли тогда Гардахой и которое теперь в другой транскрипции попало чуть ли не под номером один в популярные туристские маршруты по Египту.
Чтобы унять тревогу и растерянность – как-никак выдворили из насиженного гнезда, – я стараюсь представить себя на месте одного из тех лейтенантов, захлопнувшего за собой дверцу кабины (смуглая рука, часы с вольным сильному сухому запястью серебряным браслетом). Если кажется, что где-то жить невозможно, то присутствие в этой невозможности других людей все-таки обнадеживает. И в эту минуту нет для меня человека ближе, чем майор Ефимов, пусть я и считаю его одним из виновников моего появления здесь. В солнечных очках с лягушачье-зелеными стеклами, в выгоревшей арабской форме, подперев бока, он равнодушно смотрит в расплавленное марево, в котором плавится широкая взлетно-посадочная полоса. Матерчатый козырек арабской полевой фуражки свисает на его короткий обгоревший нос, а севшие после холостяцких стирок брюки, теперь не закрывающие толстых щиколоток, трепещут на горячем ветру, облепляя шишаки коленей. Не замечая ничего вокруг, он с терпеливым унынием, что можно приписать действию жары, стоит возле своего чемодана и чего-то ждет.
На левом, ближнем ко мне, крыле глохнут моторы – в двух больших прозрачных кругах черно обозначаются бешено вращающиеся винты. Напоследок махнув лопастями, винты резко замирают, и в них жгуче отражается солнце. Замолчало и на правом крыле – тишина стоит только гулом в моей голове, который вдруг вырывается наружу, превращаясь в стонущий грохот. Подняв голову, я вижу стремительно взмывающий пятнистый силуэт МиГ-21, самого скоростного в мире истребителя. Похожий на сигару с черным срезом, он, показав свою спину, мгновенно, по вертикали, набирает километра два высоты и уходит к морю. Снова грохот, и еще один МиГ, низко пройдя над аэродромом, свечой взвивается ввысь. Ведущий и ведомый, поднятые то ли по тревоге, то ли на боевое дежурство. Или просто чтобы потренироваться…
Ефимов – белобрысый упертый крепыш в звании майора, кажется, даже успевший повоевать в Великую Отечественную. Значит, было ему уже около пятидесяти. Мы жили в бунгало, метрах в ста от уреза воды, – Ефимов на втором этаже, я на первом. Делать нам было нечего. Стояла такая жара, что даже воевать не хотелось. А война была рядом. Да, в Хургаде имелся военный аэродром, и мы с майором Ефимовым отвечали за его прикрытие. Аэродром охраняли четыре установки спаренных зенитных пулеметов, бивших по низколетящим целям, да две зенитные установки, достававшие самолеты на высотах до трех километров. Ракетных дивизионов – ноль. За эти пулеметы и зенитки, то есть за войсковую ПВО, мы и отвечали и каждый день должны были ездить на аэродром и заглядывать к своим подсоветным, капитану Ахмеду и майору Закиру, – пили с ними крепкий сладкий чай, завариваемый прямо в стакане, или кофе. Было так жарко, что авиация тоже отдыхала в капонирах и летать не собиралась. Хорошо, что хоть в капонирах: два года назад в Шестидневной войне самолеты Египта даже не успели подняться в воздух – их сожгли на аэродромах. Но и теперь арабы не рвались в бой. На вооружении у них были наши МиГ-21, прекрасные по своим летным характеристикам машины, но имевшие по сравнению с французскими «миражами» израильтян более скромное вооружение, меньшие боекомплект и радиус действия. Для пущей убедительности майор Закир брал лист бумаги и рисовал две колонки цифр под словами «у них» и «у нас». А против цифр, как говорится, не попрешь… Майор Ефимов крякал, хлопал себя ладонями по коленям, начинал яростно тереть их, словно в чесотке. Разговор шел по-русски, так как оба офицера проходили подготовку у нас в Союзе.
– Сволочи, недоумки! – бурчал майор Ефимов, кивая куда-то вверх-направо, через плечо, будто в том направлении и находились те, кого он сейчас клеймил. – Могли бы поставить что-нибудь поновее… Так боятся, как бы чего не того… Американцы оснащают Израиль по последнему слову, а мы… Нельзя, засекречено, у самих-де на вооружении… А то что наша техника проигрывает в бою? А наш престиж? Кому тут нужен списанный металлолом… Мы что, с бедуинами воюем, с верблюдами? Когда мы погнали немцев? Когда сравнялись с ними в вооружении, в новой технике? Нет! Когда не только сравнялись, но превзошли – и по качеству, и по количеству. Да, и по количеству, причем в три-четыре раза… – Он будто запамятовал, что как раз вооружения по количеству у египтян было гораздо больше, чем у израильтян. Правда, старья.
Арабские офицеры смотрели на него с любовью: во-первых, не боится говорить правду, во-вторых, уверен, что они его не заложат, – настоящий верный друг, садык… В воздушных боях Египет нес потери. От наших радиолокационных станций, ракетных комплексов тоже было немного толку. Все это было вчерашнее, снятое или снимающееся с вооружения. И результат все уже осознали – не только арабы, но и наш генералитет-тугодум… Назревал кризис, после которого должен был произойти прорыв. Ахмед и Закир смотрели на Ефимова как на посланца благой вести. Он, когда вернется, должен будет доложить там, в Каире, обо всем, что от них услышал и в чем сам имел возможность убедиться… Он должен будет донести свои замечания и предложения в рапорте генерал-лейтенанту Голубеву, главному военному советнику командующего египетскими войсками ПВО.
У Закира была русская жена. За четыре-пять лет подготовки в Союзе многие арабские офицеры обзавелись русскими женами, или скорее подругами. Жениться на арабке по арабским законам и традициям было куда как накладней. Некоторые русские жены отнеслись к своему статусу серьезно и оказались в Египте. Другие же оставили о себе нежные воспоминания и пачки писем. У арабов хороший слух, и со звуками нашей речи они справляются успешней, чем мы с арабскими согласными. Впрочем, помню, что наше «ж» их смешит.
Вечер проводим в жилище у капитана Ахмеда. Он счастливо избежал всех искушений и вернулся один. Но и у него пачка писем, написанных по-русски старательным школьным почерком. От разных дам. Больше всего меня поразили их имена, особенно по контрасту с почтовыми адресами, – Новомартышкино, Дальние Выселки, Малые Броды… Оказывается, там жили Анжелики, Виктории, Жозефины, Матильды…
Каменный пол у породистого красавца Ахмеда натерт какой-то дрянью вроде керосина.
– От тараканов, – поясняет Ахмед, но тут же огромный таракан, словно бросая ему вызов, несется по диагонали от стенки к стенке. Слышен чуть ли не цокот его копыт. Ахмед живо вскакивает, и в следующий миг хитиновое облачение таракана хрустит под высоким, со шнуровкой, военным ботинком американского образца. Как ни в чем не бывало Ахмед возвращается к нашему скромному холостяцкому застолью и, улыбаясь отличными зубами, говорит:
– Как это будет по-русски: была бы водка и молодка, а остальное трын-трава.
– Была бы водка и селедка, – поправляет его майор Ефимов. Он уже серьезно принял на грудь, и ему хорошо. Капли пота выступили над его белесыми бровями. Подняв стакан с бренди, он заводит свою сокровенную:
- Выпьем за тех, кто командовал ротами,
- Кто умирал на снегу,
- Кто в Ленинград пробивался болотами,
- Горло ломая врагу…
Ефимов в такт стучит себя по колену кулаком, и на его глаза навертываются злые слезы. С той войной у него связана драма, о которой он говорит неохотно. Его не наградили за какое-то геройство. Хотя он был представлен. Уже список ушел наверх. Но Ефимов провинился. Послал на три буквы какую-то шишку-проверяющего из штаба фронта. Поутру выскочил из землянки по малой нужде, спросонья в потемках не разобрал, кто перед ним. Эта обида гложет его уже двадцать пять лет…
Майор Ефимов, смельчак и забияка, воспитанник детского дома, не помнит ни матери, ни отца. В бою бесстрашен. Идейно подкован. Линию партии разделяет. Только все же считает, что наверху окопалось слишком много долбоебов и захребетников, которых ничто не заботит, кроме собственной мошны.
Меня он просвещает и по женскому вопросу:
– Все бабы – бляди.
В Египте он один, без жены, которая, впрочем, у него есть где-то в Калуге, но она не захотела с ним ехать. Испугалась нильских крокодилов и шистосом – нильских червячков, поражающих внутренние органы человека…
Все время хочется есть, потому что жратвы никакой, даже за египетские фунты… Хургада – это небольшой поселок, скорее деревушка, с одним-единственным цивильно выглядящим заведением под названием кафе-ресторан. Говорят, там можно подкрепиться, но задорого. А в поселке на базаре, кроме апельсинов и манго, почти ничего. Ну, пиво… И еще лепешки, которые пекут тут же на твоих глазах в маленькой пекарне. За лепешками хмурая очередь, темные лица, темные галабеи до пят, головы обвязаны платками, на ногах не пойми что… Я в военной арабской форме без погон. Как все военные в очередь не встаю. Кто-то из стоящих возбухает – его одергивают. «Ты что не видишь – это русский хабир», – говорит ему высокий строгий старик. Хабир – это специалист. Очередь расступается. «Шукран (спасибо)», – говорю на всякий случай.
Я покупаю четыре лепешки, по две нам с Ефимовым на обед. И еще – удача! – две крохотные банки каких-то рыбных консервов. И пару яиц. Это значит, у нас будет пир.
Обедаем, запивая пивом «Стелла» консервный привкус нашего пира.
– А это что такое? – не дожевав, вопрошает майор Ефимов, брезгливо уставившись в лепешку, от которой он уже хорошо откусил. Внутри запеченные мучные жучки, размером с маленьких рыжих муравьев.
– Это я есть не буду! – говорит Ефимов и оскорбленно смотрит на меня, словно я собрался его отравить.
– Ничего страшного, – говорю я, делая бодрую мину, – святой Антоний в пустыне питался одними акридами, то есть саранчой.
– Ну так я же не Антоний! – с обидой в глазах смотрит на меня Ефимов.
Обида – это его коронка. Мир несправедлив, все бабы – бл. и, а наверху одни долбо..ы.
Пир не задался.
Чтобы исправить мнение о себе у непосредственного начальника, а скорее чтобы не сдохнуть с голоду, я отправляюсь на рыбалку. Вся моя снасть – это черная суровая нитка, ее мне отмотал от собственной катушки сам майор, и крючок, оставленный нам предыдущей сменой русских хабиров, то есть советником и переводчиком. Они тут застряли почти на полгода и порядком одичали… Переводчик Сомов мне знаком – загоревший до арабской черноты, только глаза остались теми же, светло-голубыми… Я запомнил его еще по сборному пункту в Минобороны, в Москве, где нас последний раз проверяли на вшивость. Я чуть не провалил экзамен. Отец учил меня всегда говорить правду во время такого рода проверок. И я, лох и наив, в графе анкеты «Были ли у вас контакты с иностранцами» так и написал черным по белому: «Были». Почему-то мне казалось, что всю мою подноготную и так знают. Даже сейчас мурашки по спине – подумать только, из-за одного этого слова я мог бы не оказаться в Египте, и мне нечего было бы вспоминать.
Но «были» же! Ведь я почти год проработал осветителем в театре сразу после школы, то есть не сразу, а после того, как не прошел по конкурсу на филфак ЛГУ. Две пятерки, две четверки – для вчерашнего школьника этого было мало, вот если бы у меня был рабочий стаж… Да, была тогда такая фишка – стаж работы не менее двух лет, открывающий двери к высшему образованию. И я пошел за стажем во Дворец культуры им. Ленсовета, он же «Промка», то есть «Промкооперация», где был прекрасный театральный зал, в котором выступали разные приезжавшие к нам на гастроли театральные коллективы. Об отечественных я уже не говорю, а из иностранных – чешская «Латерна Магика», английский театр «Олд Вик», привезший постановки пьес Шекспира и Оскара Уайлда, Датский королевский балет, Нью-Йорк Сити балет, Кубинский балет… Люп Серрано, Эрик Брун, Алисия Алонсо… балетоманы встают по стойке смирно под эти имена. Ну и, конечно, контакты, два молодых танцовщика-американца из кордебалета. Они со мной подружились или я с ними – уж больно хотелось заговорить по-английски.
И еще – ощущение совсем иного мира, даже запахи другие, даже листочки клейкой бумаги на дверях комнаток-уборных артистов, сами надписи на листочках, сделанные чем-то синим и толстым, что в дальнейшем войдет и в наш обиход под названием «фломастер»… На дворе 1961 год, «железный занавес», чуть приоткрытый там, где я работаю осветителем. И люди у них другие – свободные, раскованные, полные внимания ко мне, семнадцатилетнему юноше, задумывающемуся о нашем бытии. Потом они будут писать мне письма, а я отвечать на них. Да, еще какой-то актер из театра «Олд Вик». В ту пору я увлекался собиранием открыток с репродукциями картин мировой живописи, и он мне пришлет несколько открыток с абстракциями то ли Пита Мондриана, то ли Пола Сэзерленда. Как тогда я всем этим дышал, какое мощное дыхание новизны шло оттуда! А от Сальвадора Дали вообще можно было свихнуться – сюрреализм, истина сна, секунда перед пробуждением от полета пчелы вокруг плода граната. Издательство «Искусство» в своих иллюстрированных монографиях разоблачало современную буржуазную культуру, а мы учились на этих иллюстрациях – Джеймс Поллок, Макс Эрнст, Ив Танги…
И вот меня, только что честно и простодушно признавшегося в «контактах», отправили на ковер к какому-то генералу, то ли политработнику, то ли представителю военной контрразведки. Если бы это был гэбэшник, Египта мне бы не видать как своих собственных ушей. Но «контрразведчик» был настроен благодушно, хотя и недоумевал, почему именно на его голову свалился этот самый контактер. Он попросил меня рассказать, какого рода контакты у меня были, и я, уже смекнув, что дело плохо, и порядком струхнув, стал мямлить про свое осветительство, о чем имелась запись в моей трудовой книжке, и про то, что без английского языка на сцене было не разобраться – что делать, куда светить…
– Там что, не было переводчика? – удивился генерал.
– Был. Один на всех, – сказал я абсолютную правду.
– Понятно… – сказал генерал. – А вам хотелось помочь и попрактиковаться…
Я кивнул.
Но даже не мои объяснения, а скорее самый мой вид образцового студента советского вуза плюс три года службы в армии убедили генерала в том, что за мной нет и не может быть никакой крамолы… И все-таки, проверяя вынесенное впечатление, он спросил:
– Ну а письма-то вы писали друг другу?
– Писали, – сказал я, подумав, что, скорее всего, эти письма проходили через руки КГБ и потому лучше не отпираться.
– Ну и что же вы писали в этих письмах? – огорчилась за меня военная разведка, ибо, как хорошо всем известно, простота хуже воровства.
– Поздравляли друг друга с праздником…
– С каким праздником?
– С Новым годом.
– А с каким еще?
– Больше ни с каким…
– Хм… странная была у вас переписка, – слегка нахмурился генерал.
– Просто я больше не поздравлял, – сказал я. – Как в армию призвали, так и все.
– Да, молодой человек… – вздохнул генерал.
Понятно, что он предпочитал отправить по пунктам назначения всех указанных в списках лейтенантов и не создавать проблему из-за какого-то одного малахольного. И он ее не создал. Только сказал, что Западный мир (отнеся к нему и Египет) полон соблазнов и что советский человек должен различать истину за внешним блеском и красивым фасадом. Он был прав – мне понадобились десятилетия, чтобы постичь эту непростую науку различения, потому что все, похоже, только и были заняты тем, чтобы парить тебе мозги, особенно в твоем собственном доме…
– Скажем, отправитесь вы в Каире в отель «Шератон», – развивал меж тем свою мысль генерал, – увидите всю эту роскошь, и вам может показаться, что так все и живут… – И в голосе его при этом прозвучало что-то лично пережитое…
О неожиданном вызове на ковер я как раз и поведал случившемуся рядом переводчику Сомову. Он, уже успевший поработать в Танзании, только усмехнулся:
– А я написал: «Не было, не имел», хотя, конечно, имел, и не раз.