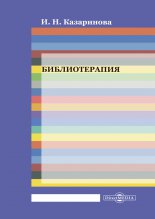Московский рай (сборник) Шапко Владимир

Ещё тёплые дожди
Похмельный язык во рту напоминал негра. Мучительно обрусевшего негра. «Дринк-вода! – хрипел. – Дринк-вода!» С жалобным тоненьким стоном Луньков начал поворачиваться. Диван, как неотъемлемая часть его, как нутро, весь взнялся и застенал ещё жалобней, плаксивей. Набрякшие веки тряслись, боясь выронить глаза. Рука слепо шарила возле дивана графин.
Запрокинувшись, пил тухловатую воду. Голова тряслась, зубы колотились о стекло, вода сливалась по подбородку на шею, на грудь. Словно разучившись, долго ставил графин на пол. Рука хваталась и хваталась. Лёг, наконец, на спину, шамкая смоченным ртом, зализывая разбитую солёную губу. И дальше – будто висел. Вне времени, вне ярящихся на соседней стройке самосвалов и грузовиков, вне стрёкота крана оттуда же, вне людских голосов, вне жизни.
И, как почти каждое утро, заскрежетал в замке ключ. И в Лунькове вновь всё затрепетало, затряслось. Зажмурившись, вдавился в диван. И слушал только пыльные вздрагивающие пружины.
А Кошелев уже ходил по комнате, совался во все углы, распинывал бутылки. Будто упорно искал что-то на полу. Мелкое, давно утерянное, но не забытое. Ругался.
– Эй, Заварзин! – грубо тряхнули Лунькова. – Заварзин! Охрана чёртова! Вставай! Опять жрал всю ночь… А может, письма писал, а? Заварзин? Ха-ха-ха!
Луньков, колотясь с головы до пяток, ещё скидывал ноги с дивана, поспешно садился, а прыгающий взгляд его уже выхватывал валяющийся на столе стакан с пролитой и подсохшей буро-чернильной лужей, резкое серебро килек, перемешанное на тарелке, и, как трубу, высокую тёмную бутылку от портвейна… Тетради на столе не было…
Расстегнувшимся рукавом рубахи Луньков вытирал со лба пот. Как прикрывался грязным обтрёпанным рукавом. А Кошелев всё ржал:
– Что-о? Испугался? Сразу вскочил? А-а! Ха-ха-ха! Да ладно: шутю, шутю, как говорится… Сегодня же день расплаты. А, Заварзин? Шестнадцатое. Забыл?
– Мне бы умыться, Роман Авдеевич… Извините.
– Умойся, умойся. Обожду.
С гадливостью Кошелев поширкал тряпкой засохшую винную лужу. Накинул на неё газету. Только после этого разложил бумаги. Протирая платком очки, смотрел на размывшийся в ведомости список фамилий, так же размыто слушал шум воды из коридора, наизнанку выворачивающегося над раковиной в кашле Заварзина… «Ханурик! Сдохнет ещё, чего доброго…»
Полотенце выглядело чернее сапога. Луньков посмотрел и вытер только руки. Кинул в угол на мешок с театральным тряпьём. Стал искать пуговицу на обшлаге рубахи. Поверх очков Кошелев внимательно наблюдал. Пуговицы не нашлось. Тогда Луньков застегнул две пуговицы на груди. Сел к столу. Кошелев с хохотком крутанул головой: ну, алкаш! Пододвинул ведомость, ручку. Шариковая ручка сразу начала скакать в руке Лунькова.
– Эко тебя! – наморщился Кошелев. – Да погоди! Не расписывайся!.. На, глотни сперва…
Минут через пять, глотнув из плоской посудины Кошелева, которая, как валидол, всегда находилась при нём, особенно когда он приходил за росписями, Луньков нашаривал вялой рукой окурок в пустой консервной банке. Пьяно разглядывал фамилии в ведомости:
– Конуров… Шишин… Свирьков… Так, понятно. Новые души. Только что из реанимации. Я – Заварзин. Я по вашим корочкам гениальнейший машинист сцены. Со мной всё ясно. А эти? Кем они могли бы быть в миру?.. Конуров… Конечно, народным. Народным артистом. С такой фамилией-то? Непременно. Да и аванс у него, однако!.. Шишин… Трудно сказать… Что-нибудь такое: ши-ши-ши – по коридорам. Каждому – на ушко… Свирьков… Свирьков только гримёром мог бы быть… Эдаким гримёришкой… Эдаким ма-ахоньким лысым пьяницей…
– Ну, хватит! Расписывайся!
Но Луньков не торопился. Окурок попал в руку сигаретный, сильно замятый, задавленный. Луньков его принялся углублённо расправлять.
– Да на вот! На! – сунул пачку сигарет Кошелев.
– Вы же не курите! – деланно удивился Луньков. – А тут смотрите-ка, опять «Стюардесса»! Чудеса-а…
Кошелев скрипнул зубами:
– Ну, вот что, сволота, будешь расписываться или не будешь?
Луньков сразу потух, взял ручку. Следя за протрезвевшим его злым лицом, за уверенной злой ручкой, Кошелев подумал: кончать надо с ним, много знает, гад, слишком много…
Выхватил ведомость:
– Вот так-то!.. А это гонорарчик вам, товарищ Заварзин! Ровно четыре рублика…
Кошелев комкал рублёвки и – по одной, жёваными – кидал на стол. Одну, вторую, третью, четвёртую. За каждую душу отдельно. Три плюс вы, товарищ Заварзин. Четыре мёртвых души. У нас – как в аптеке!
Луньков не смотрел на него.
У порога Кошелев «вспомнил»:
– Да-а, а как с корочками быть?.. Ну-ка верни, уважаемый, корочки-то… Всё забываю…
Луньков сразу вскочил, умоляюще шагнул:
– Ну зачем вы так! Роман Авдеевич! – Как женщина, ломал руки: – Я же… и не пошутил даже. Нет! Так просто сказал. Так! Мне ведь в Щекотихе без них – нельзя. Вы же знаете. А там дрова опять пришли. Опять работа. Да и здесь. Ведь сторожу. Ничего не пропало. И не пропадёт, не пропадёт! Поверьте!.. Не надо, Роман Авдеевич. Прошу вас… Не надо…
– Смотри… – глянул понизу Кошелев – как перерезал Лунькова. – Знай, с кем шутишь… З-заварзин!..
Хлопнула дверь. Замерев, Луньков слушал бухающую поступь с крыльца. Сердце выпукло возникало за грудиной и пряталось. Выталкивалось и снова пропадало.
В белёсом куцем плащишке и тирольке он появился на крыльце впритык к одиннадцати. Пока шарился длинным ключом в мешковине двери, морщась, смотрел в небо на мелко сеющий дождик. Затем привычно перевёл взгляд на мёртвый пустой остов театра, где из черных оконных провалов выкрутился когда-то страшной силы пожар… К театру недавно кинули разудалый забор, за забором сновали люди, дёргался, стряхивая песок, самосвал, с разбортованного грузовика скидывали длинные свежие белые доски, высоко подносил бадейки с раствором кран, и всё видящей, всё запоминающей хозяйкой пыжилась возле бытовки сторожиха.
Луньков сутулился, поднимал-поддёргивал вороток плаща, пробираясь к калитке. Везде валялось содранное с крыш театра обгорелое кровельное железо. Постаревшая стопа фанеры, завезённая и брошенная, уже фордыбачилась. Высокий навал из уцелевших оконных рам и дверей опасно разъехался. И всё это мокло сейчас, продолжало гнить, ржаветь. И непонятно, для чего оно сохраняется здесь.
– Эй, сосед! Погоди-ка!
К забору торопилась сторожиха со стройки. Запыхавшаяся, с чайником.
Поздоровалась, попросила набрать водички. У нас-то водопровода пока нету. Набери, сделай милость.
Луньков сходил, набрал. Когда протягивал полный чайник, качнуло от забора так, что чуть не опрокинулся, оступившись прямо в лужу. Отряхивал брюки, плащ. Избегал глаз сторожихи. А та не уходила, разглядывала его:
– Что-то я тебя не припомню, парень. Ты из какого отряда?
– Я не от вашей… системы… По совместительству…
– А-а… Ну-ну… Уж в случае с водичкой-то, к тебе теперь я…
– Пожалуйста.
Под цепким взглядом женщины Луньков старался лужи обходить деликатно, порядочно как-то, что ли. Однако словно тащил за собой меркнущее дыхание своих слов: не от вашей я системы, по совместительству…
Через час сидел у стола, свесив с края вялую руку. Смотрел в окно за забор, где по-прежнему дёргался с задранным кузовом самосвал, где той же всё видящей кубышкой напыживалась сторожиха… Крепко зажмуриваясь, пил из стакана. Слепым ртом ловил словно подвешенную кем-то кильку. Жевал, морщился, икал, удерживал лезущее назад вино, наливаясь кровью и тут же бледнея. Отирал слёзы… Высокими изломанными буквами надёргивал в тетради высокие изломанные слова:
«…и жизнь моя теперешняя, Люба – сплошная ирреальность. Бред, морок. Глухая чёрная повязка на приговорённом, за которой – сжавшийся на острие иглы весь мир… Прости, прости мне эту пошлую метафору, но она всё время во мне. Ползает, давит, душит… Прости…»
Раскинувшись, полулежал на диване, точно сломанный в груди. Зрачки пусто расширены. Иногда суживались. Он сотрел на портвейные три бутылки на столе. На фоне короткого сжатого заката высокие чёрные бутылки с коротенькими горлышками стали казаться ему трубами. Гигантскими газовыми трубами…
Он качнул себя к столу. Упёршись в столешницу, дико разглядывал бутылки. Во внезапном сумасшедшем прозрении прошептал: «Гигантские… легальные… винокурни… – Обернувшись, громко спросил у кого-то: – А?!» Его мотнуло от стола и с маху кинуло назад, на диван, затылком в стену. С перекосившимся от боли лицом медленно сползал, сдирая со стены извёстку. Так же медленно полз по спинке дивана. Словно не отпускал боль. Словно забирался с ней в себя. Как в конуру. Легонько постанывал. Кувыркнулся на бок, охватив голову. Затих.
– Эй, Заварзин! – опять трясли, дёргали Лунькова на другое утро. – Заварзин! Мать твоя чекушка! Давно одиннадцать! Пора!.. Да Заварзин!..
Луньков быстро сел. Сын Кошелева Гришка уже бегал. Длинная женщина, как всегда, курила у окна. Отрешённо смотрела вдаль. Как индеец через века.
«Скальп чёртов!» – бухая сердцем, торопливо застёгивался Луньков. Гришка ширкался ладошками. «Времечко, времечко, Заварзин! Поторопись!» Приобнял, повёл, насадил на Лунькова шляпку, вытолкнул на крыльцо. Луньков судорожно искал рукой рукав пиджака. Рука попадала в рукав плаща. Скинул всё на крыльцо. В шляпке, с незаправленной рубахой по колено, нелепый, дикий, тяжело дышал… Сзади резко высунулся Гришка. Уже в майке, волосатенький. «Вечером – чтоб дома! Как штык! Понял? Будешь нужен!» И захлопнулся, скрежетнув замком. «Гад!» – плюнул в отчаянии Луньков.
Часа через два он в неуверенности топтался на крыльце, не решаясь сунуть ключ в замок. Сжимались в ненависти зубы. Мутно, как из лужи, всплывала недавняя картина: длинно лежащая Скальп с бесконечно длинной голой ногой на спинке дивана – и запрокинувшаяся, самозабвенно храпящая башка Гришки, прикрытая грудью Скальпа, как шляпой…
Луньков сбежал с крыльца, заметался по дворику: «Мерзавцы! Похотливые мерзавцы! Господи, куда-а?» Решительно направился к окну. Грубо застучал в стекло. Упрямо ждал. В комнате не шевелились. «Сейчас я вас, сейчас!» Забежал и заколотился с ключом в замке. Распахнул дверь…
Сразу ослаб. Качался в дверях, хватаясь за косяки. Войдя, стаскивал плащ. Не мог кинуть его ни на свой диван, ни на диван возле окна. Бросил на мешки с театральным тряпьём. Присел, наконец, к столу, вытирая со лба пот.
Глаза непонимающе натыкались на три мятые синюшные конфетные обёртки на середине стола. И лицо Лунькова начало вытягиваться: «Так это в перерывах, значит. В трёх перерывах. Скальп съедала по одной конфете…» Он сглотнул. И затрясся в полусумасшедшем тихоньком смехе. И захохотал. И задёргался, давясь хохотом. «В перерывах! Ха-ха-ха! Сорванные розы любви! Брошенные на стол! Синюшные розы Скальпа! Ха-ах-хах-хах!..»
…Вот, Люба, я всё пишу тебе эти письма, над которыми потешаются Кошелевы. Письма к тебе – к бывшей моей жене. Единственному даже сейчас родному для меня человеку. Да, да! Прости… Я не сумасшедший, я знаю, что ни одно из них я не вложу в конверт, не надпишу на нём твой адрес. Но сидит во мне, Люба, вера (а может, уже мания?), что однажды, когда-нибудь я напишу тебе, наконец, одно, единственное письмо – и оно всё перевернёт в моей жизни. Прости за высокие слова – подвигнет к чему-то. Очень важному для меня, единственному, может быть. И отступить тогда назад будет нельзя. Только вперёд тогда, только вперёд. Понимаешь? Может, это чушь, бред, что так всё будет, но я верю, верю. Кроме этой надежды – ничего у меня нет…
Луньков встал, подошёл к окну. Смотрел на спящее в мороси предвечернее небо, на мокнущий во дворе разброс.
…Вот смотрю я сейчас в окно. Опять сочит дождь. Вроде бы на улице промозгло, холодно, а под водосточной трубой, на краю бочки, полной воды, вовсю купается, разносит брызги пухленький воробей. И, знаешь, представляется мне, что глядят на него сейчас с крыши другие воробьи, тужатся от холода, и чирикают меж собой: ну не дурак ли этот воробей? В такую погоду!.. А он и знать не желает, что промозгло, сыро, что осень давно висит кругом, ему – дожди ещё тёплые… И поддаёт водой, и разносит!.. Ну не молодчага ли воробей?
Невольно Луньков обернулся. Словно поделиться радостью с кем-нибудь… Сразу погас. Медленно вернулся к пустоте. Убирал со стола тетрадь, ручку, два обгрызенных карандаша, исписанные обрывки газет. Запрятывал всё в мешки с театральным тряпьём.
Он вскользнул в комнату. Новый персонаж. Шофёр Роберт. Словно за ним гнались, искали. Постоял, вслушиваясь. Острокадыкастый, как голодный. Будто просто на стул, накинул на Лунькова спецовку. Прошёл, открыл дверь в коридор. Опять замер, высоко задрав руку к выключателю…
Луньков торопливо вдевался в спецовку, с удивлением следил, как Роберт рыскал по коридору и зачем-то часто-часто дёргал стеклянные ручки на дверях закрытых гримёрных. То ли открыть пытался, то ли испытывал, крепко ли прибиты. Пустил для чего-то сильную струю из крана в раковину. Закрыл кран. Нырнул в дальнюю комнату. Слева. Открытую. Где навалены старые декорации. И быстро-быстро полез по ним, треща и проваливаясь, к единственному в комнате, почти под потолком, окошку.
Вернулся, наконец, обратно в комнату, сшибая пыль с брюк и пиджака. И вновь замер, голодно вслушиваясь. То ли к себе, то ли к чему-то внешнему, за стенами… Наконец, словно отбросив решение недавшейся задачки на потом, как-то злопамятно, радостно просветлел: погоди же-е!.. И пошёл к двери, на ходу скороговоркой лая, будто для себя одного «пошли-пошли-пошли!» и выдёргивая из заднего кармана ключи от машины, как оружие. И всё это – точно в пустой комнате, точно и нет никакого Лунькова в ней. «Артист!» – метнулся за ним Луньков.
Подперев свет, как хиленький душ, в кабине грузовика застывши сидел Кошелев-старший. Словно терпеливо смывал перед дорогой давно намыленное, неотвязчивое… Луньков усмехнулся: «Понятно. Встреча в верхах предстоит. – Прикрывал калитку, закладывал вертушок. – Встреча на высшем уровне. Потому сегодня – сам!»
Грузовик катил по широкому оврагу вниз к огонькам Нижегородки. Будто с фонариками, по холмам скакали домишки. Справа, слева.
Но внизу, на месте, в окнах дома на бугре – темно. Из кабины вглядывались. Неожиданно взнялась зарница, и сразу сгорающей стрекозой затрепетала над крышей антенна. Грузовик подал вперёд и, круто разворачиваясь, полез к дому задом, кидая Лунькова от одного борта к другому. Немые, пошли раскрываться ворота.
В глубине двора, под переноской в низком гараже, забитом мешками и ящиками, угрюмо ждал хозяин. Свет вылоснил только лысину, лица – не было; толстые руки закруглены, как для драки.
Так же угрюмо пошёл к нему Кошелев. Обнялись, как ударились. Сильно хлопали друг друга по спинам. От ударов икали. Роберт рыскал по гаражу…
Оврагом машина тащилась наверх с натужным высоким воем. Для передышки хватала другие скорости, взрёвывала, снова натужно выла. Отделяясь от горячего зудения мотора, из кабины вылетали обрывки фраз, возгласы, смех. «Довольны. Пошабашили. Кто только кого на этот раз надул?» Лунькова болтало на тугих мешках с цементом. За шиворот к потной спине лез озноб. Луньков садился, охватывался руками. Покачивался – как думы свои покачивал…
…Люба, он имя его всегда выговаривает так: «РобЭрт»… А «РобЭрт» его: «Афдеч! Афдеч!». Понимай: Авдеич. Как сглатывает в нетерпении. Голодный, обжигаясь… «Афдеч! Афдечь! У меня тёща не каблирована. В Песчанке. Каблируй, Афдеч! Пять сотен и сверху!..» Или: «Афдеч! Афдеч! Люстры у Фрола! С висюльками!» И рванули на грузовике к Фролову на базу. Завхоз и шофёр погорелого театра. Два друга. Не разлей вода. Даже два «свояка» теперь. Ты понимаешь, о чём я? Понимаешь – «свояка»?
Луньков начал подхохатывать.
…И «свояками» я их сделал, я. Я жене Кошелева Роберта подсунул. Невольно, конечно, но я, Люба, прости… Но не для тебя это, не для тебя… Но невозможно же вспоминать об этом!
Луньков хохотал, охватывая голову. Как плакал, рыдал.
Удивлённо и кабины постучали. К решетчатому окошку сунулся Роберт: ты чего, чего, Заварзин?.. Увидев вытянутое лицо с раскрытым ртом, Луньков совсем зашёлся в смехе, катаясь по мешкам.
Но быстро прошло в нём всё. Иссякло. Вернулся озноб. Луньков нахохлился, зажался. Смотрел на обмирающие тонущие огоньки Нижегородки. Воспоминание, от которого так смешно стало минуту назад, смятое, словно выпотрошенное, теперь болталось вместе с грузовиком, саднило. Отчаяние зашло в глаза Лунькова, и одного только хотелось: закрыть глаза, зажать уши, и не вспоминать, не думать…
Полтора месяца назад, в начале августа, Кошелев впервые повёз Лунькова к себе на дачу. «В сад», как он сказал. Требовалось выкорчевать два пня, оставшихся от спиленных недавно берёз.
Ехали загородным автобусом. Потом шли по лесу. Кошелев пыхтел, отирал пот, крепко поминал сына Гришку, который под каким-то предлогом отбрыкался и не повёз на дачу. Луньков задирал голову к перелетающим птицам, запинался о корневища деревьев, отовсюду наползших на песчаную дорогу. Замерев от восторга, следил за стукотливым дятлом… Снова торопился за Кошелевым. Лицо Лунькова раскраснелось, глаза радовались.
Но когда за лесом вышли на поле в овсах, озираясь по бескрайней белой знойной его тоске, безысходности, сжало горло Лунькову каким-то предчувствием. Шёл. Мучаясь, смотрел за поле. На покатый длинный взгор. Где к высокому звонкому сосняку, как к храму, пополз, басурманином замножился дачный посёлок.
Кошелева дача влезла прямо в сосны. Был это обыкновенный с виду дом – одноэтажный, небольшой. (Правда, непонятно: деревянный или кирпичный?) Какая-то приземистая крыша, две трубы из кирпича, побеленные, но уже закоптившиеся по бокам… Внизу – штакетниковая невысокая городьба… Но, глядя на широкие окна в самодовольном покойном тюле, Луньков сразу подумал, что внутри наверняка и вместительно, и просторно… и богато.
– Генриетта, это тот самый Заварзин, – с удовольствием подчеркнув два «т» в имени жены, сказал Кошелев. Как коня, похлопал Лунькова по загорбку.
За штакетником на низкой скамеечке стояло железное корыто, полное воды и огурцов. Над ним колыхалась крупная женщина с задирающимся сзади платьем.
– Ага, – только и сказала она, мельком взглянув на Лунькова. И снова стала сгребать и раскидывать. Страстно сталкивались в корыте крутые волны. По загорелой до черноты сильной руке ёрзала слетевшая с плеча резко белая лямка лифа.
– Моет… для засолки… – самодовольно смотрел на мощные высоко загорелые молодые ляжки жены Кошелев.
Ввёл, наконец, Лунькова в дворик.
Обогнули дом, шли вдоль длинной веранды, туго заполненной солнцем. Остановились перед высоким сараем. Через открытую половину широкой двери в темноватом прохладном провале угадывался у стен «товар», прикрытый брезентом. «И гараж, и склад», – отметил Луньков.
Кошелев сам выбрал и вынес две лопаты. Штыковую воткнул перед Луньковым в мягкую траву, совковую – вручил. Вынес топор. Но подумал и приставил к стене. Выволок и бросил лом.
Сада, как такового, почти не было. Был больше огород. С тремя теплицами, где как лес стояли помидорные кусты с краснеющими плодами. Со смородиной и малиной вдоль штакетника, с широко разбросанной зеленью грядок, где ерошилась морковь, закоренелыми лысыми пьяницами валялись огурцы, черепно высох мак, желтел, вылинивал укроп. И опрятный вишнёвый кусток с горстками взвешенных налитых ягод стоял восклицательным знаком всему.
Неподалёку от будки летнего душа с высоко взнесённым ржавым баком вышли, наконец, к двум пням, выкорчевать которые доверили Лунькову.
День был высокий, синий, ветреный. Гуляли, бегали, как освободившиеся аэростатики, чадливенькие облачка… Откинувшись руками на прохладную горку земли, под корни пня вытянув ноги, по пояс раздетый, белый, блаженно щурился Луньков на солнце, которое, словно лёгкие беловато-сизые одежды, подхватывало охвостья туч. Подхватывало и отпускало… Водя носом и закрывая глаза, Луньков ловил запахи, прилетающие от спелого сосняка за домом…
Вдруг увидел, что на него смотрит женщина. Жена Кошелева. Сразу схватил лопату. «Очень интересно она цепляет прищепки на белье: глядит на меня, а прищепки словно сами собой взлетают из таза и цепляются на верёвку… Генриетта… Хм… Это уже закономерность какая-то у Кошелева. Робэрт… Генриет-та… Интересно: на сколько лет она моложе Кошелева? На двадцать? На двадцать пять?»
Под взглядом женщины Луньков казался себе сильным, мускулистым, ловким. Он поддевал ломом, резко дёргал пень вверх. Тот не поддавался. А женщина стояла – и он дёргал ещё. Ещё. Распрямлялся. Как атлет, вдыхал побольше воздуха и выдыхал медленно, тряся руками. Освобождал мускулатуру. Снова накидывался. Теперь с лопатой. Подрывал и подрывал. Однако пни сидели крепко. Тогда, как только женщина с тазом ушла, стал потихоньку подрубать корни. Лопатой. Не выкапывать, как приказал Кошелев, а подсекать, рубить. И к обеду выворотил, наконец, один из пней. И только через час – другой.
Курил, сидя на краю ямы. Смотрел на закинувшиеся мохнатые пни. Судя по мощным корневищам, по толщине этих пней, спиленные берёзы были большими, зрелыми. Но не на тот огород попали они… Вернее, сам огород влез сюда. И свёл их.
Пришёл Кошелев. После обеда расположенный. Ковырял в зубах спичкой. Сплюнул. Лунькова похвалил. Ямы… (снова сплюнул)… велел закопать. Уходя, сказал:
– Ты это, Заварзин… Мы уже пообедали. Как закончишь, зайди в дом. Генриетта там. Покормит тебя. На веранде, я ей сказал. А я к соседу схожу… Ополоснись, если хочешь. Вон, в душе. Правда, вода, наверно, холодная.
Вода обожгла. Но чуть погодя Луньков уже задирал лицо и с наслаждением слеп под мягко секущими струйками.
Кто-то зашёл в будку. Луньков подумал, что Кошелев. Но спросил: «Кто там?» С намыленной головой и лицом. Сзади молчали. Луньков торопливо стал смывать мыло. Обернулся… Бесстыже, отчаянно, на него смотрела женщина! Генриетта! Большая грудь её в сарафанных цветочках вздымалась, напяленный рыжий парик съехал – рогато торчал! Луньков быстро прикрыл пах, отвернулся, зажался. Щёлкнула задвижка на двери. «Что вы делаете!» – «Тихо ты! Молчи!» Схватила за руку. Прислушалась. Точно приглашая и его, Лунькова, в заговор, в игру. И неуклюже, грузно повалилась на решётку внизу, дёрнув Лунькова на себя.
Из мокрого большого елозящего тела Луньков панически вырывался. Как вырываются из трясины. Закидывал голову и чуть ли не вопил.
Его отбросили в сторону: «Урод!»
Один, валялся на деревянной решётке. По вытаращенным глазам хлестала вода, промывая их до дикости, бессмысленности варёных яиц…
Он вскочил, бросился к скамейке с одеждой. Быстро стал одеваться. Выглянул наружу… Короткими перебежками, как заяц, перебегал к даче, не зная, с какой стороны обогнуть её, чтобы юркнуть к калитке. На веранде никого не было.
Вдруг увидел Генриетту. В сарае. Торопливо, зло, она сдёргивала с себя сырой сарафан. Вверх! Обнажая ягодицы, будто воздух!..
Луньков зажмурился, кинулся вдоль дома, упал на траву, вскочил, сиганул мимо калитки через штакетник.
Он скользил вдоль дач. Дачи подбоченивались. Дачи скалились мансардным стеклом. Он отворачивался к соснам. И стволы рябили. Луньков охватывал голову. С ходу налетел на ведро воды возле крупного старика в пижаме, отдыхающего на тропе. Старика обдало по ногам водой. Луньков подхватил-поставил ведро. Быстро улыбнулся старику. И старик потрясал вслед кулачищами и хлопался ртом, как калошей: «А-бар-мо-от!..»
Через три дня Кошелев сказал:
– Съездишь, Заварзин, завтра на дачу. Генриетте поможешь. Новую полку ей там надо поставить… В погребе…
Луньков вздрогнул: да что это она! Да ей же в морге только работать! Вслух поспешно проговорил:
– Невозможно, Роман Авдеевич, – фобия!
– Чего это ещё?
– Боязнь замкнутого пространства… У меня… Могу заметаться там… В погребе… Банки побью.
Кошелев с подозрением посмотрел: шутка, что ли? Брезгливо скривился:
– Э-э, интеллигент… «Фобия»… Как орден какой. Тьфу!
Озаботился. Недовольный, хмурый.
– Робэрта, что ли послать?
– Вот, вот! Роберт в самый раз!..
Кошелев опять прищурился.
– …И полки сделает, и ни одной банки не разобьёт, – поспешно успокоил его Луньков, мечась взглядом. Опасаясь только одного: не засмеяться, не захохотать ему в рожу…
А тогда, вернувшись в город, уже в своей сторожке, боясь до конца осознать то гадкое, непереносимое, что сотворили с ним на даче, сидел Луньков у стола словно с одним засаженным в голову окриком – «А-абар-мо-от!» Набегали и набегали лёгкие слёзы алкоголика. Луньков пригибал голову к плечу, отирался рукавом рубахи. Снова застывал. С высокими – как у слепого – глазами…
…Есть люди, Люба, одинокие люди, которые вечерами, когда едят какую-нибудь жалкую свою еду – сырок ли, кефир ли там какой, булочку с чаем – то словно винятся перед кем-то за то, что едят… Они ведь одни, Люба, одни! Никто их не видит!.. И вот – винятся. Поверь, жалкое, тяжёлое зрелище… И я сознаюсь тебе, Люба: к таким людям теперь принадлежу и я, Игорь Луньков. Твой муж, твой бывший муж… Они виноваты уже в том, что живут на свете! Они заедают чужой век!.. Ох, прости, Люба, меня, прости. Тяжело мне сегодня. Прости…
…Машина шла уже в городе. Улетали назад сутулые фонари. Высоко зависали ройные остывающие многоэтажки. Луньков раскачивался на мешках, подтягивал коленки к груди, охватывался, зажимал руками дрожь. Из кабины вылетала голодная скороговорка Роберта, самодовольно, баском, похохатывал Кошелев.
Чтобы как-то забыть унижение, заглушить непреходящую боль, Луньков зло бормотал: «Да-а, дядя, не повезло тебе с твоей Генриеттой. Всё ты рассчитал в своей жизни. Всё продумал, наперёд вычислил. А вот с женой – промашка вышла. Хотя и с именем она подходящим для тебя – Генриет-та!.. То в летний душ её неодолимо тянет, то – уже в погреб!.. Ты, наверное, дядя, сам над погребом-то стоял? Спрашивал: как у вас там дела, Робэрт? Может, подать чего?.. Гордись, дядя, женой, гордись!»
Протащившись с очередным мешком по коридору до костюмерной, свернув в раскрытую дверь, Луньков с облегчением сбрасывал мешок на пол. Взрывалась цементная пыль… Луньков выпадал обратно в коридор, покачиваясь, шёл, смахивал пот. Но с крыльца торопился, а к калитке уже бежал. Крючкастой сильной лапой – за ухо – выдёргивал Роберт очередной мешок на край кузова. Брезгливо накидывал на Лунькова, отряхивая ладонь о ладонь. И Луньков, пригнувшись, как таракан, семенил к крыльцу, вскарабкивался на него, за освещённой комнатой пропадал в коридоре.
Двое у машины ждали: Кошелев угрюмо, сунув руки в карманы плаща, Роберт – озираясь, нервно похохатывая:
– А, Афдеч?.. Ха-ха!.. Никого в переулке? Да? Афдеч? Ха-ха! – Будто ещё напряжения в Кошелева нагнетал. Дополнительно. Нарочно.
И дождался:
– Таскай!
– Так Афдеч! Спецовки нет!
– Мешок возьми. На голову!.. Учить тебя? Живо!
Чертыхаясь, шофёр побежал в театр за мешком. А Кошелев словно выдохнул, наконец, всё скопившееся напряжение. Недовольно уже, даже требовательно, смотрел в сторону клуба на углу. Где во весь фронтон висел человек с откатным лбом дамбы и звёздами на груди. И откуда из дверей должны были вот-вот повалить зрители после фильма. Не сидят, понимаешь, дома. Чёрт бы их задрал!
Дверь костюмерной закрывал сам. Подёргал стеклянную ручку. Проверяюще. Как Роберт.
Купюры Роберту выпускал на ходу. Двумя пальцами. Как визитки. Роберт хватал, мгновенно совал в карман. Ещё хотел, ещё. Чтоб так же! так же! Афдеч!.. Кошелев глянул: «Меру знай!»
Один рубль валялся на столе. Жевком. «Такса, Заварзин! Твоя!»
Пригнувшись с тяжёлыми сырыми кругляками, по гулким мосткам с баржи поторапливались, бежали люди. На берегу сбрасывали дрова. В накинутых на головы мешках, как монахи, неприкаянные, вековечные, шли к барже. По одному ступали на другие, жиденькие, сходни, и дождь, постёгивая, осторожно заводил их на высокий борт баржи – и они пропадали где-то в трюме.
В первой же носке Луньков сбил себе бок. После мостков, беря с дровами на подъем, припадал на ногу, старался как-то ужимать бок, защищать…
– Что кряхтишь, Заварзин?
Рядом вверх лез Кукушкин. Кривоногий, приземистый, сильный. Весь – будто из железа.
– …Скажи спасибо, что не берёза. Когда берёзовый кругляк пойдёт – не так закряхтим.
Но уходя с Луньковым к воде, удивлённо воскликнул:
– Да ты, парень, бок ссадил! Ну-ка, дай сюда! – Он стал выдёргивать у Лунькова из петли заплечника сучковатую палку. Луньков послушно дёргался. – Интеллигенция… Это палка, по-твоему? (Отшвырнутая палка запрыгала по гольцу.) На вот мою. Да брезентухой оберни.
– А ты?
– А у меня ещё есть. – Кукушкин хитро подмигнул: – Вон – на судне…
На «судне», нагруженный кругляками до неба, Кукушкин кричал:
– Мужики! Вот бы на туристов-то! Такие рюкзачки! А? Со всего Союза согнать, каждому на горб – и айда. Да в гору! Да бего-о-ом! – И он сбегал по мосткам. И так же шустро бежал «в гору». Возле складывающих дрова женщин в изнеможении падал. Артель ржала: «Ну, Кукушкин! Ну, балалайка!»
Луньков сидел на сухом подтоварном настиле, в столб упёршись спиной. Над рекой опять ходили, чёрно копились тучи, но вода шла тихо, вымытая до стеклянной глади предыдущим дождём, и только осторожно ласкала тупорылую баржу с круто выпущенной из ноздри толстой якорной цепью. Луньков курил, смотрел. Думал о своём, нерадостном.
Застыл на пятках Кукушкин. Остриженный, круглоголовый. Проникшись тихим настроением Лунькова, старался из бутылки запускать в себя без глохтов, тихо. Вроде бы вполне серьёзно – жаловался: «Ну, выпил в тот раз. Ну, как? – заусило. Да сильно. Побежал в гастроном. Просыпаюсь – отрезви-и-итель. (Он широко повёл рукой с бутылкой. Словно очертил ею весь мир.) И я в нём, значит. Да прямо посередине. Посреди раскиданных алкашей лежу… Вот так, Заварзин, бывает. И не алкаш, ни-ни, честный – и хватают… – Он отхлебнул: – Что скажешь, Заварзин? – И, видя, что Луньков дёргается, мотает у колен головой, в поддержку ему, в одобрение очень частенько смеялся: – Хахахахахахахахаха!.. А, Заварзин? Хахахахахахахахахахахахаха!»
Луньков уже гнулся, давился смехом. Но Кукушкину мало: «А это когда судили меня, судили! Слышь, слышь, Заварзин! В 72ом! Обвинитель. Еврей. Рыжий. Распахивает так на меня рукой. Перед судом. И с сокрушением так говорит: «Ну какая у него жизнь? Каждый день пёт, пёт. Домой приходит – пяный… Жену бёт, бёт и бёт… А с утра опять пяный!..» А, Заварзин? Хахахахахахахахахаха!
И оба заходились в хохоте. А глянув друг на друга, сваливались с настила на песок и начинали уползать по нему, дрыгая ногами.
И сквозь слёзы, смех, хохот этот дикий казалось им, что всё-то они друг про друга знают и давно знали. Что судьбы их одинаковы и неразличимы, как жабы. Что квакают они, а потом глотают, и всё до конца заглотить не могут. И смешно от этого – непереносимо.
Потом им закричали с баржи, и они шли к воде. Отряхивали с себя песок, прятали друг от друга глаза.
Словно тоже отобедав, упал дождь. И выплясывал лихо русского на высоких чёрных горбах бегущих по мосткам людей…
В притемнённом уюте ночной комнаты, у настольной лампы возле окна готовил уроки мальчишка лет десяти. Он каждый вечер так для учёбы располагался. Прилежный, старательный.
Луньков смотрел на него через проулок, и снова пощипывало глаза… Растроганный, открыл калитку.
Однако в темноте сторожки – вздрогнул. С забившимся сердцем протыкался на цыпочках к двери в коридор, приложился ухом. Как из-под земли сквозняк вытянул в щель невнятный, но сразу узнанный голос Кошелева. Потом забубнил Гришка, сын его… Луньков опустился на стул.
Нужно было к крану с водой. Освежиться, смыть пот, постирать майку, рубашку. Решился пойти минут через десять.
В коридоре невольно остановился у полуоткрытой двери в одну из гримёрных.
В тесной комнатёнке, сильно освещённой с потолка большой лампой, у распахнутых трёхстворчатых зеркал, пригнув головы, сидели Кошелевы. Отеци сын. Тихо, монотонно, точно псалмы, отец считывал цифры, беря их через очки из клеёнчатой тетрадки, что раскрыто лежала на столе. Сын же не очень умело цифры эти в калькулятор – вдавливал. Осваивал, получалось, новую оргтехнику… С висящей гроздью ключей, на тумбочке у стены стоял небольшой сейф…
Вздрогнули оба. Разом. И… словно размножились в зеркалах. Десятки там стало Кошелевых. Казалось, сотни! В анфас! в профиль! в очках, без очков! с раскрытыми ртами! в испуге привставших! в испуге откинувшихся!..
– Чего тебе?! – выкрикнул Гришка.
– Ничего… Извините. Добрый вечер.
Луньков пошёл дальше, к крану. А в комнатёнке, как пыль в перепуге – всколыхнулось всё: «Х-ха! А? «Добрый вечер»! А? Сколько я тебе говорил! А? Отец? Не боишься?» – «Честный… Интеллигент…» – подрагивал баском, приходил в себя Кошелев старший. «Ну-ну. Смотри. Я тебя давно предупреждаю: не место тут сейфу, не место!» – «Не каркай!»
…Люба, как всё же могут быть похожи, до отвращения похожи друг на друга близкие, но некрасивые люди. Отец и сын… Оба в щеках, как в лепёхах. Бровастые, низколобые. Бобрики у обоих – как скребки. А по уму, Люба!.. Один, как говорится, «мы академиев не кончали!» Другой – вышел на интеллект троллейбусного парня, дорвавшегося-таки до микрофона: «В салоне работают две касс-с-сы! Дружненько раскошелимся, дружненько! Не стесняемся! Не смущаемся! Па-апрошу!..» Гос-по-ди-и!..
Луньков лез головой под кран, глушил всё холодом.
Прикрывшись углом дома от уличного фонаря, неслышным вором ходила по комнате и вязала чёрные мешки темень. Луньков лежал на диване, руками охватив затылок, и глаза его, точно взведённые в темноте, опять мучились, не могли уйти из комнаты, не могли ничего забыть…
Кошелев старший заявился тогда поздним вечером. Совсем не ожидаемый Луньковым. Заявился пьяным. Его точно втолкнули в сторожку и захлопнули дверь. Не замечая вскочившего Лунькова, покачивался. Положение своё обдумывал. Сопел. Без шляпы, с исцарапанной щекой, в мокром распахнутом плаще, под которым только майка и пижамные штаны… В тапочках… Начал ловить рукой и выдернул из кармана плаща бутылку. Уже с дивана, мотнув ею, приказал: «Открыть!» Налитые полстакана водки заглотил враз. Долго осваивал её в себе. Потом как-то внутренне оживился и забормотал: «Ах, ты, стерва! Вот так стерва! Ну молоде-ец!..»
Чтобы не молчать, что снять как-то неудобство своё перед пьяным, Луньков спросил, что случилось.
– А тебе зачем? – вскинулся Кошелев. – Твоё какое дело?! – И прищурился: – Смеёшься?..
– Да ведь я… я хотел…
– Смотри-и!.. Ты на себя глаза разуй!
И брезгливо морщился, глядя на склонённую голову Лунькова. На его белеющее темя. Сквозь зачёсанные реденькие волоски… Будто просто сплюнул:
– Червь книжный белый!..
И сидел со сцепленными на животе пальцами. И всё возвращал обиженно взгляд к Лунькову. Как к тле какой-то. Которую бы и размазать, да руку лень отцепить.
Начал смеяться. Как-то издалека:
– Ты посмотри – в чьё ты одет. Брюки – мои, пиджак задрипанный – Гришкин, кеды – и те Генкины. Генриетты. С да-а-ачи, ха-ха-ха! Шляпчонку вон бывшую мою ещё надень, интеллигент! Хах-хах-хах!
Луньков метался взглядом. Вскочил, трясущейся рукой наплескал в стакан, выпил, снова сел.
– Во! Во! – тыкал в него пальцем Кошелев. И с разъехавшихся мокрых губ его студенисто вызуживалось: – Алыка-аш! – И снова разевал пасть и, хохоча, зажмуривался: – Ха! Ха! Ха!
Оборвал всё резко. Будто и не смеялся. Сидел, угрюмо варил своё. С низкой стрижкой – обрезанный, как кувшин. Выкинул руку со стаканом: «Налить!» Выпил. И от выпитого – снова словно вышагнул из себя мрачного. Откинулся на диван перед Луньковым, свесив руку с пустым стаканом со спинки.
– Вот смотрю я на тебя, Заварзин: ну какой ты бич? Ты в стае должен быть, в вашей стае, а ты – один. А?.. Насолил ты, видно, чем-то своим бичам, ох, насоли-ил… Откололся. Сбежал… Отщепенец ты, Заварзин. Этот… как его? диссидент… Бутылки ты не собираешь – брезгуешь, десятики возле гастрономов не клянчишь – гордый, а на работу – так хоть среди ночи разбуди. Какой же ты бич, Заварзин?.. Хотя ты-то и есть натуральный бывший интеллигентный человек – «бич». Но не бич, нет – не бич… Думаешь, случайно я тебя в Щекотихе приметил? Любого мог взять из кодлы тамошней, а взял – тебя. Мне Гришка: смотри, отец, смотри-и… А я ему: червонец оброню – не тронет. Как пёс слюной изойдёт – не тронет. Честный. А? Заварзин? Верно я говорю? Н-ну!..
В отчаянии Луньков ждал, когда Кошелев опьянеет, когда упадёт. Но тот и не думал падать. Потребовал закуску. Кильки с тарелки запускал в разверстую пасть горстками. Закидываясь. Жрал прямо с головами. Отбросил пустую тарелку. Отирал пальцы об обивку дивана. Опять пил. И вновь – словно только трезвел от водки:
– Хочешь, я расскажу про тебя? Про тебя – тебе, Заварзин?.. Ну, первое дело – жена скурвилась… Точно! Н-ну!.. Ей бы в морду да из дому вон – так ты сам на край земли бежишь… А дальше просто: хлебнул воли, по горло хлебнул, назад? – а ходу-то и нету. – Кошелев прищурился: – Где паспорт пропил, Заварзин? Расскажи. Поделись. Н-ну!
– Я же вам говорил. Украли…
– Э-э! Мели знай! Водка тебя сгубила. Водка. Вот эта самая… Вот я – уважаю её. Часто уважаю. И на ногах. В уме. А почему? А потому – корень у меня другой, Заварзин. Корень. Корень хозяина, крепыша. И всегда так будет: есть дубы, и есть всякий сор вокруг них, который на дрова стригут. Понял?.. У тебя жрать – нечего, а журнальчики вон, полный угол – покупаешь. Два института, поди, кончил… И посмотри теперь: кто – ты, а кто – я! Н-ну!..
Луньков сидел, лицо его пылало, в глаза набегали слёзы.
Вдруг голова Кошелева опустилась, шумно засопела – и рот разъехался… И с тоской подумал Луньков, что придётся спать с дремучим этим человеком в одной комнате, что завтра нужно будет идти звонить, потом ехать к нему домой за одеждой, говорить, видеть его Генриетту… что протрезвившись, не простит Кошелев ему, что предстал перед ним, Луньковым, в таком свинском виде… Что сравнялся с ним в падении.
Голова Кошелева вдруг вскинулась, он поводил бессмысленно глазами. Просипел: «Гришку…» – и снова как разъехался.
Луньков пошёл звонить. Потом потихоньку ходил на крыльце, не решаясь вернуться в комнату. О висящую над проулком тарелку с лампочкой убивался и убивался мотылёк. Прилежный мальчишка в окне через дорогу ещё готовил уроки…
Гришка приехал на своих «Жигулях». Кругом обошёл машину. Кинулся, потряс задок. Только после этого пошёл к крыльцу.
Увидев отца – в замявшемся плаще, в тапочках, с пучком царапин на щеке… беспомощно полулежащего, точно придавленного своим животом, – Гришка в сердцах воскликнул:
– Ну, отец, драть тебя некому!.. Когда ты её погонишь?
– Но-но! – сразу очнулся Кошелев. Посопел. Пообещал зло: – Вот запишу на неё всё, попрыгаете тогда… Н-ну!
– Да не пугай – пуганые… Ну-ка, Заварзин!..
Они подхватили под руки сразу одубевшую тушу. Потащили.
Возле машины Кошелев вдруг перестал качаться. Трезво, въедливо прищурился опять:
– Так чем ты насолил бичам своим, а? Заварзин? – и замотал указательным пальцем: – Кошелева захотел провести? Шаль-лишь! – Но снова как оступился в пьяный газ: – Смотри!.. Будь верным! И я подумаю насчёт тебя. Я всё могу! Знай!.. Верным будь!.. – Полез в машину: – Вези, Гришка!
Уже на ходу, опустив стекло, стал развевать за собой по проулку песню:
Э ды на побывку ы-еде-ет мол-лодой мор-ряк!
Гришка сразу затормозил. Придавив певца, зло поднял стекло. Поехал дальше. Немо, с удивлением, певец поворачивался к водителю. Скрылись за углом.
В ту ночь Луньков долго не мог уснуть. Ворочался, перекидывался на бок. Вновь замирал на спине… Потом, как не раз бывало с ним, в полусне ли, в полуяви, вышел в тёмную степь далёкий костёр.
Лунькова сразу повели к нему, крепко держа за руки. Вставала против красного разгара высокая полынь, раскачивалась с землёй, словно падала на колени. И неузнаваемые, словно из других веков, из многодавних тысячелетий, кинув рук к земле – шли впереди, стаптывая, ломая эту чёрную полынь, бичи.
Лунькова вытащили на освещённую поляну перед костром. Заломили руки, за волосы вывернули голову: смотри!
Сразу же, будто прямо из ревущего костра, выполз по пояс голый Борода и стал совать к огню отобранный у Лунькова паспорт. Всё ближе подносил, выкрикивал: «Что, Луньков, хотел, чтоб справедливо? Хотел, чтоб было братство? Вот тебе «братство!» Вот тебе «справедливо!» Размахивал схватившейся огнём картонкой: – «Горишь, Луньков! Гори-ишь! Нет больше Лунькова! Не-ет!» – скалилась оплавленная морда бывшего пожарника.
Мотыльком полетел в костёр догорающий паспорт Лунькова. Палкой Борода стал выкатывать из костра много белого жару. Угли притихали чуть, но тут же зло оживлялись, сбиваемые палкой в кучу.
И был истошный крик: