Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности Лескинен Мария
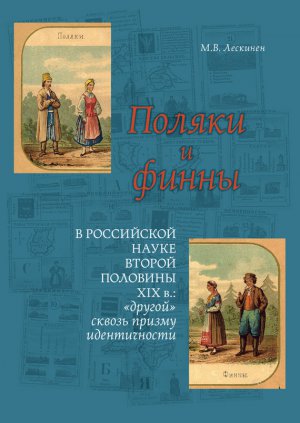
Введение
Процесс формирования национального сознания есть процесс самоидентификации этнической общности, социальной группы и культуры. Но самоидентификация всегда осуществляется через отношение к другому через его опознание. Одним из первичных ее инструментов является описание себя и «другого» («иного»), оно структурирует «свое» и «чужое» пространства, разделение на которые является культурной универсалией[1]. Самоописание и представления о «других» позволяют индивиду и группе утвердить способы самосохранения, защиты и воспроизводства традиции, типизировать явления и объекты окружающей среды, определить границы собственного пространства (в семиотическом смысле) и выработать стратегию поведения во взаимодействии с другими социальными группами.
Идентификация наций и осмысление категорий «национального» и «этнического» в европейской культуре XVIII – начала XIX в. осуществлялись при помощи хорошо изученных сегодня механизмов, среди которых описание – как задача и как метод освоения «своего» пространства, природных и человеческих ресурсов – занимало весьма важное место. Каталогизация и классификация не только фиксировали место человека и человеческих сообществ в естественнонаучных системах, но и производили семиотическое систематизирование признаков идентификации – как физических, так и аксиологических. Но эти процессы происходили в умах лишь немногочисленной части общества, т. е. в сознании элит.
Одной из проблем изучения иерархии идентичностей в период формирования наций является разграничение как «объективной» идентификации – извне, средствами науки, так и ее субъективированной формы – самоидентификации в различных культурных срезах. Именно это несовпадение вызывает полемику по вопросу о природе и сущности этничности, которая представляется центральным звеном в цепи рассуждений о методах изучения и интерпретации тех форм, в которых происходит осмысление так наз. «мы-идентичностей». Их эволюция и функции оцениваются в современных гуманитарных науках по-разному. Конструктивистская парадигма исходит из постулата, что политическое и культурное самосознание вырабатывается всеми социальными группами сообщества[2], а идентичности – нация и этнос – являются продуктом конструирования элит[3]. Взгляды, альтернативные конструктивистским, определяются как примордиалистские; они господствовали в российской и советской социальных науках вплоть до 1990-х гг.: их последователи считают возможным изучение народов и наций как «объективно», т. е. в действительности существующих общностей, многие свойства которых являются врожденными[4]. Однако и в том и в другом случае роль социальной элиты в создании и внедрении ряда важнейших представлений народа-нации о себе признается неоспоримой, так как в эпоху модернизации она не только формулирует и обосновывает базовые представления и ценности сообщества, но и внедряет их при помощи инструментов просвещения и социализации. Наука начиная с эпохи Просвещения играет в этом процессе определяющую роль. М. Фуко рассматривал историю гуманитарных дисциплин в контексте разработанной им концепции «дисциплинарной власти», в соответствии с которой наука репрезентирует и воспроизводит представления о норме, «правильности», идеи пользы и права, разного рода иерархии и т. п. Процесс, сопутствующий формированию различных видов самоидентификаций, может рассматриваться и как продукт социального габитуса[5], но и в этом случае обоснование всякой социальной (национальной и этнической в том числе) принадлежности интерпретируется как техника манипуляции, направленной на «углубление и укрепление мы-чувства, ориентированного исключительно на национальную традицию»[6].
Задавая и вырабатывая номинации и классификации, обосновывая право обладания «познающим субъектом» единственной и рационально доказуемой истины, наука становится орудием власти не в грубо политическом или идеологическом отношении, а как «власть-знание», когда собственный позитивный образ исследователя создается на негативном фоне изучаемого объекта[7]. «Первичное расчленение познаваемой социальной реальности имеет, таким образом, манипулятивные и (в перспективе) властные функции», – отмечает И.Н. Ионов[8].
Исследование принципов строения образов и представлений о «другом» в европейской философской и научной мысли осуществлялось во второй половине XX в. под влиянием в том числе и культурно-антропологической парадигмы, которая определила роль и значение нормопорождающей интерпретации в исследовании «чужой» культуры. Применение этих концепций к истории европейской науки и культуры, в реконструкциях национальных образов и этнокультурных стереотипов способствовало обоснованию основополагающих постулатов, лежащих в основе научных типологий и сопутствующих им этноцентрических предубеждений[9].
В последние два десятилетия споры антропологов (в российской традиции именуемых этнографами или этнологами) вокруг этничности – вариантов ее интерпретации, порождающих различные концепции природы нации, национализма и «имперскости» – вышли на новую фазу осмысления ее конкретно-исторических форм. Однако исследование процессов складывания этнической / национальной идентичности не может ограничиться рамками истории политических и идеологических «проектов». Сегодня оно в той или иной степени обращено к реконструкции картины мира (ментальной, языковой, когнитивной) традиционного общества. Национальные идеологии ныне пытаются осмыслить через образы и мифы «национального» в культуре[10]. Национальные мифологии также подвергаются дифференциации: это те, которые нашли отражение в историческом нарративе и были сформированы элитой, и те, что воплотились в «массовом сознании» или в исторической или национальной памяти[11]. Введение категории мифа оказалось принципиальным для выработки новых подходов к реконструкции механизмов идентификации, но породило зачастую противоречивые заключения. Вместе с тем их общей закономерностью можно считать создание новых моделей описания идентичностей, некоторые из которых демонстрируют свою методологическую эффективность[12].
Значительно видоизменились подходы к постановке данного круга проблем в связи с так называемыми «антропологическим» и «лингвистическим» поворотами в гуманитарных дисциплинах в середине XX в., которые привели к «перекодификации» прежних форм и методов научного анализа, поскольку заставили рассматривать предшествующую историю человека и науки с точки зрения языка описания и установки исследователя на нормы и стандарты Знания[13]. В этой эпистемологической «революции» родилось новое понимание отношений с «другим», которое начало трактоваться настолько расширительно, что стало небезосновательным утверждение, будто «существует и еще одно, параллельное повествование, не менее важное для воспроизводства и развития коллективного Я – это повествование о Других… „Другие" – это всего лишь наши собственные фантазии о нашем же „ином"»[14].
Обращаясь к вопросам, связанным с историей российской этнографии, с формированием в ее «поле» представлений о «другом» и языка его описания, мы попытаемся показать, что источники наших взглядов на «других» гораздо более разнообразны, чем принято считать. Разделение на «научные» и «обывательские» суждения как представления «высшего» и «низшего» порядка в этой области не только условно, оно порождает ложные интерпретации: первые «содержат не только многие элементы обыденного здравого смысла, но и множество фигур мышления, восходящих к массовому сознанию»[15]. Различая в ходе исследования «теоретические» взгляды, с одной стороны, и способы практического воплощения этих концепций в народоописании, с другой, мы фиксируем тенденции и проверяем типичность или стереотипность суждений, обозначаемых эпохой как «объективно-научные».
Изучение формирования и бытования представлений народов друг о друге оказалось в центре внимания тех европейских историков, которые занимались исследованиями национальных отношений в рамках полиэтнических государственных образований – в особенности империй. Начиная с 1990-х гг. эта тема получила новую трактовку в историографии, посвященной истории России в связи с разработкой так наз. «имперской» парадигмы[16]. Здесь, безусловно, доминировали и продолжают доминировать исследования политического и идеологического аспекта взаимоотношений между народами Империи и имперской властью. В рамках так наз. «истории понятий»[17] ученые сосредоточили внимание на содержании и изменении терминов, используемых в процессе обоснования и классификации российских идентичностей разного уровня – в том числе наций, этносов и других общностей[18]. Анализ представлений, используемых в политическом дискурсе имперского этапа российской истории, позволил скорректировать прежние заключения о взглядах власть предержащих на вопросы этнонационального характера. Определение значения и способов функционирования идей через термины и дефиниции в социолектах занимает специалистов-историков не очень давно, но в когнитивной лингвистике данный метод уже доказал свою плодотворность в реконструкции картины мира и аксиологической системы[19]. «История понятий» в России, в том ее виде, в котором она сегодня осваивается в современных гуманитарных исследованиях, взаимодействует с российскими традициями исторической лексикографии – в исторических дисциплинах (в частности, в историографии и источниковедении) и литературоведении[20]. Представления русских о «других» стали предметом анализа историков, лингвистов и литературоведов, реконструировавших их эволюцию в рамках международных научных проектов, посвященных «взаимному видению» народов[21].
Однако вопрос об этнокультурных представлениях и стереотипах «этнического другого» в контексте истории Российской империи изучается недавно[22], по очевидной причине – в языке эпохи наименование «этнос» и «этническое» использовалось редко, а содержание понятий стало предметом обсуждения только в конце столетия. Есть и еще одно предположение: в «имперском» и «колониальном» дискурсах при всех их вариациях более привлекателен «актуальный» ракурс интерпретации – т. е. политические, стратегические и практические последствия теорий и доктрин. Поэтому ученые стремятся реализовать эту программу в сравнительных исследованиях империй, обращаясь к реконструкциям образов, представлений и стереотипов в этнонациональных культурных традициях[23].
В центре их внимания – тактика и стратегия имперской власти, в сферу интересов попадает также язык бюрократии и права. Кроме того, рассматриваются воззрения отдельных индивидов, что помогает воссоздать интеллектуальную историю российской элиты. Лишь иногда обозначается явно выраженная социальная двойственность образов народов в России XIX – начала XX в.[24]. В таких работах заметна тенденция отождествлять (или не расценивать как значимые) национальные и этнические представления, что проявляется в названии коллективных и индивидуальных монографий, в которых присутствует наименование государства и этноса (например, «Сербия и сербы», «Германия и немцы», «Польша и поляки», «Финляндия и финны», «Украина и украинцы» и др.). Формально это кажется корректным, поскольку в данных исследованиях (главным образом исторических и литературоведческих) изучаются проблемы более широкого плана, – ведь история взаимного видения и восприятия народами друг друга связана с накоплением знаний о регионе, стране, она вписана в контекст дипломатических, политических, военных, культурных контактов, понимаемых довольно широко и разнообразно. При этом происходит неизбежный в таких случаях перенос значений современной политической и ментальной карты на прошлое. Ведь Польша, Финляндия и Украина в XIX в. были частью Империи, границы их были иными, население не воспринималось как этнически, конфессионально и социально однородное. Подобным ретроспективным видением отмечено в работах о «русском взгляде» на народы Империи решение вопроса о том, кого расценивать, например, в качестве «этнических» и «политических» финнов или поляков применительно к истории XVIII–XIX вв.
Кроме того, данное отождествление затрудняет разграничение предметного поля исследования. Так, в монографии о немцах проанализированы представления как о немцах Германии, так и о «русских немцах», переселившихся в Россию в XVIII в.; реконструкция отношения к «немцам вообще» игнорирует вопрос об эволюции этнонимов и их истолкованиях. В книге о восприятии русскими шведов[25] этническая принадлежность, напротив, становится основным критерием, вследствие чего шведы Петербурга, так наз. «финляндские шведы» и шведы Швеции рассматриваются в одном ряду, а в исследовании образа русских в шведском восприятии использованы заметки «финляндского шведа». Авторы, таким образом, следуют номинациям и традициям идентификации, сложившимся в национальных зарубежных историографиях. Подобных примеров немало, и, хотя сама дифференциация разных групп, «продуцирующих» стереотипы, оговаривается, но лишь для того, чтобы подчеркнуть их национальную (в современном значении слова) общность и однородность. Однако в какой степени корректны подобные обобщения с точки зрения их «национальной» репрезентативности? В какой мере можно говорить о сходстве восприятия «российских» – «своих» шведов и немцев и «чужих» – подданных других государств в период, когда собственно этническая и национальная идентификация только начинала формироваться (первая половина XIX столетия) или находилась в стадии становления (вторая половина века)?
Эти и другие исследования образов «других» выдвинули на первый план некоторые методологические проблемы. Например, по-разному решается вопрос о «типичности» этнокультурных стереотипов, т. е. о том, в какой степени зафиксированные в нарративе – и особенно художественном и политически ангажированном – так называемые «этнические предубеждения» репрезентируют наиболее распространенное или «усредненное» представление о «другом». Неоднозначно понимается механизм складывания этих стереотипов, задействованных в разных дискурсах: вербальных и визуальных текстах культуры, в публицистике и художественной литературе. Хорошо известно, что чем более «массовые» источники привлекаются к такому анализу, тем в большей степени можно говорить о стереотипности тех или иных оценок.
Негативные представления в границах двустороннего сопоставления (например, финнов и русских друг о друге) не позволяют, однако, понять, насколько они характерны для отношений с «другими», или, напротив, уникальны; в какой мере они сформированы исключительно финско-российским историческим и культурным опытом или же вписаны в общеидеологические или традиционные установки общества в целом или его различных социокультурных страт. Рассмотрение их в сравнении с другими народами, и в особенности с населявшими дореволюционную Россию – немцами, поляками и др.[26], в контексте разработки категорий этничности в Российской империи может обнаружить новые грани межнационального противостояния или опыта «примирительной политики»[27]. Отчасти этот пробел заполнили работы, реконструирующие идеологические и правовые нормы, определенные российской наукой и властью, практику межэтнических отношений в Империи, а также соответствующие им формы репрезентации[28]. Их авторы (главным образом зарубежные ученые) анализировали различные аспекты этого взаимодействия с двух точек зрения: во-первых, с учетом особенностей научной парадигмы российской этнографии и, во-вторых, в соотнесенности их с процессом складывания лексикона русской и российской (имперской) идентичностей в конкретных социальных и этнических группах. Такой подход представляется весьма плодотворным, поскольку процесс формирования собственной идентичности и видение «другого» в этот период неотделимы друг от друга, а сопоставление разнонаправленных и далеко не однородных представлений об этническом «своем» со взглядом на «своего (т. е. имперского) чужого» тесно связано с естественным для модернизации стремлением выработать единый эмоциональный образ пространства Родины/ Империи и ее общей истории[29]. Новые методы, впрочем, и здесь связаны с иным толкованием некоторых универсальных категорий: через новое наполнение знаков и символов имперского пространства, позволяющих несколько иначе взглянуть на соотношение центра и периферии, регионов, окраин и областей[30].
Изучение образов «других» в русской культуре XIX в. российскими учеными в конце XX – начале XXI в. сегодня осуществляется в нескольких ракурсах, определенных методологическими особенностями различных дисциплин: с позиций имагологического направления[31], в историко-культурных исследованиях взаимных представлений русских и других народов в XIX–XX вв.[32], а также в этнопсихологических реконструкциях этнического (национального) характера[33]. Особое место занимает анализ этнокультурных стереотипов в когнитивной лингвистике и в этнолингвистике – в них разработаны методы исследования языка и культуры традиционного и «модерного» общества[34].
Анализ теории, методов и исследовательской практики географии и этнографии XIX в. (как органической ее части) позволяет увидеть образы «других» в Империи в новом качестве. Включение в контекст нормативных научных представлений дает возможность интерпретировать их в качестве «конструктов», создающихся доминантной и обладающей «властью знания» группой в процессе выработки национальной идентичности как мифологии[35]. Структура и способы репрезентации народов Российской империи в этнографической науке XIX в. (в том числе и физической антропологии) рассматриваются главным образом зарубежными исследователями[36]. Изучается место этого народоведческого дискурса в выработке национальной и этнической идентичности, а также в формировании национальной политики: «Органическое, натуралистическое понимание этнической реальности, овеществление этнических групп и наций, вообще характерное для романтических и неоромантических построений, сыграло свою роль в дальнейшей эволюции „национальной" политики»[37].
Главная цель исследования – реконструировать основные понятия и термины, с которыми российская наука второй половины XIX в. подходила к описанию «другого» как этнографического объекта, определить их содержание и интерпретации, а также выявить конкретные практике – в научных и научно-популярных нарративных репрезентациях финнов и поляков. Данные тексты не только включают определенное видение этих народов: описания, оценки, суждения (этот круг источников освоен фрагментарно), но и дают возможность выявить механизмы идентификации «своего» и «чужого» на нескольких уровнях: 1) определив установки и стандарты «объективного» рассмотрения «другого», содержащиеся в них в явном и скрытом виде, которые возможно уточнить при помощи сопоставления с традициями народоописания и концепциями интерпретации его объекта; 2) установив задачи и методы репрезентации народов Империи в контексте просветительской функции популярной литературы; 3) сравнив характеристики поляков и финнов в описаниях со сложившимися в литературе и историографии традициями их изображения. Это позволит обнаружить заимствования и клише, реконструировать некоторые представления их авторов и составителей, социальные стереотипы и особенности индивидуального восприятия, а кроме того – содержащийся в любом дискурсе о «другом» образ «себя» и «своих». Анализ используемой лексики, терминологии при учете историко-культурного контекста высказываний оказывается плодотворным для понимания интерпретации признаков и свойств, определяемых как «типичные», «национальные» и др.
Поэтому сужение нами предметного поля этнографическим дискурсом условно, поскольку и создателями, и интерпретаторами этих знаний в ту эпоху были не этнографы, – профессиональных этнографов не существовало, – а широкий круг российской интеллигенции, земских деятелей, ученых – естествоиспытателей и историков, собиравших и оценивавших этнографический материал, и, наконец, составителей и авторов научно-популярной литературы, которая в пореформенной России была чрезвычайно востребована[38].
Европейская этнография во второй половине XIX века формировалась в поле естественных наук, однако в связи со статусом, который придавал ей «великое значение и в смысле просветительном, христианско-человеческом, и в смысле государственном»[39], она находилась с тесном взаимодействии с социальными науками и фольклористикой, из которой в некотором смысле и «выросло» представление о народности в целом. Но не только понимание этнографии как географической «отрасли» связывало ее с естественнонаучной парадигмой. Само стремление классифицировать по линнеевскому образцу формы человеческих общностей и установить общие этапы их развития виделось главной задачей науки. Эта же идея стала центральной в теоретическом осмыслении представителей так наз. «социальных» дисциплин во второй половине XIX в. Кроме того, в период формирования наук они все еще находились под значительным влиянием просвещенческих и романтических взглядов на культуру и историю.
Поэтому можно говорить о междисциплинарном характере предмета и методов этнографии на этом этапе – этапе становления. И хотя до 1890-х гг. многочисленные и острые национальные вопросы – польский, еврейский, финский и др. – помещались не в этнографический, а в политический контекст, сведения о народах империи (план собирания которых был разработан еще в народоведении Просвещения) были важны и с точки зрения выработки стратегии по отношению к ним. В условиях формирования так наз. «национальных проектов» все большее значение приобретало осмысление отличительных свойств «своего» – русского – этноса как нациеобразующего, а их можно было установить только сравнением с «другими». Анализ способов их описания, стратегий их репрезентации в научной, популярной и учебной литературе представляется актуальным еще и потому, что эти инструменты являются универсальными, а образы «своего» и «чужого», «иного» и «врага» и ныне становятся предметом спекуляций и идеологических манипуляций. Кроме того, целый ряд проблем методологического и источниковедческого характера, осмысляемых российскими учеными на раннем этапе складывания гуманитарных дисциплин (связанные с практикой работы по сбору информации, а также обусловленные зарождением новаторских теорий в области соотношения языка, сознания и картины мира) и сегодня является предметом полемики. Многие из гипотез, выдвинутых во второй половине XIX столетия, начали развиваться позже, оказавшись перспективными направлениями научной мысли XX и XXI вв. Их рассмотрение на стадии зарождения и апробации является важным элементом не только истории, но и теории и практики современной науки.
В первой части книги мы намерены сосредоточиться на круге проблем, связанном а) с выработкой научного лексикона, использовавшегося в репрезентациях и исследованиях народа / этноса как «своего» или «чужого» (с попыткой определить некоторые механизмы их взаимодействия) и б) с методикой этнографического описания, которая нашла выражение в стандартах программ сбора сведений по этнографии, а также в трактовке используемых в них основных понятий. Будет реконструирован процесс их формирования в качестве научных терминов, содержание, эволюция и (неизбежные на начальной стадии) вариации.
Для получения точных результатов исследования терминологии и концепций, которые не только претендовали на «легитимизацию политических и научных практик и институтов», но и обладали реальными возможностями влияния на общественное сознание, необходимо привлечение широкого массива источников и расширение предметного поля исследования, долгое время ограниченного анализом взглядов отдельных индивидов или социальных групп. Не претендуя на подобную целостность и полноту, мы ставим перед собой более скромную задачу: определить некоторые основные тенденции в интерпретации того круга понятий, без которых невозможно понимание научных народоописаний второй половины XIX века, а именно: народность, национальность, нация, народ, тип / типичное, нрав народа / национальный характер. Наиболее важным представляется рассмотрение «готовых» дефиниций – формализованных определений самой эпохи в словарях, энциклопедиях, программных статьях и учебниках. Анализируемые в этой части работы высказывания ограничены кругом естественнонаучной и исторической популярной литературы.
Наиболее уязвим, на первый взгляд, выбор персоналий, суждения которых стали предметом анализа. Мы руководствовались необходимостью рассмотреть: а) те научные сочинения, которые оказали значительное воздействие на формирование этнонациональных портретов непосредственно финнов и поляков; б) представляющие наиболее распространенные взгляды или определения (эта часть предварительной аналитической работы в текст книги не вошла) или, напротив, выбивающиеся из общего русла; в) и, наконец, основательно изученные современными исследователями тексты с точки зрения содержащихся в них этнокультурных представлений и стереотипов. Расширение круга высказываний может скорректировать некоторые имеющиеся в научной литературе заключения, но для нас важнее было уловить основные тенденции словоупотребления, трактовок и аргументации значений, не поддающихся фиксации без учета историко-культурного и профессионального (т. е. научного) контекста.
Еще одной исследовательской установкой стал отказ от использования привычных для отечественной историографии номинаций направлений и школ при анализе воззрений конкретных исследователей, хотя упоминания об этом в работе присутствуют. Это связано с тем, что, во-первых, как верно заметил А.Л. Топорков, «рассматривая научное наследие того или иного исследователя как выражение определенного «направления», мы неизбежно огрубляем проблему»[40]; во-вторых, такое отнесение в принципе довольно условная процедура – оно не всегда, как известно, совпадает с научной самоидентификацией ученого и тем более оно весьма противоречиво воспринимается современниками. Кроме того, и политические убеждения, и теоретические взгляды имеют тенденцию к эволюции и даже к резкой трансформации, особенно в ту эпоху, когда идет активный процесс перевода, междисциплинарного заимствования и переосмысления терминов и концепций. Поэтому высказывания представителей различных дисциплин, школ и направлений рассматриваются в книге в одном ряду, они группируются по предметно-проблемному полю. Наконец, необходимо учитывать тенденцию к изменению значений понятий, используемых российской этнографической дисциплиной – в том интеллектуальном пространстве, в котором она видела себя сама: в русле и контексте универсальных для европейской науки XIX в. процессов институциализации, специализации и трактовки предмета и методов различных дисциплин.
Нам более интересным представляется второй, еще не конечный этап этого процесса, когда, при помощи предоставляемых наукой средств обнаружения, постижения и фиксации «параметров» народности, был достигнут определенный результат – созданы ее описания. Отметим, что те из них, которые использованы в качестве источников, воплощены в жанре главным образом научно-популярных очерков. Это связано с несколькими обстоятельствами: 1) собирателями «полевых» материалов со времен создания этнографического отделения РГО, которое стало осуществлять планомерные и стандартизованные описания этнических групп, могли стать все желающие; 2) в качестве источников этнографических сведений как равноценная воспринималась информация различного рода: путевые заметки туристов, записки провинциальных интеллигентов, научные описания экспедиций, популярные этнографические зарисовки, археологические и антропологические выводы и т. п. Решение об их репрезентативности принимали сами составители; 3) основной корпус народоведческих очерков вошел в масштабные проекты географических или географо-статистических описаний Российской империи, которые репрезентировались как «свод важнейших сведений о нашем отечестве, которые служили бы настольной справочной книгой и вместе с тем представляли материал для интересного, поучительного чтения»[41]. Все указанные виды описаний составили источниковую базу исследования.
Популяризация и просвещение вменялись этнографии в обязанность, ведь, как утверждалось, «этнография – наука при современном стремлении в нашем отечестве к улучшениям, обращающая на себя всеобщее внимание и при тщательном ее изучении на практике», – представляет «огромное поле как недостатков, нужд и злоупотреблений, так и средств к их искоренению»[42]. Поэтому для расширения спектра народоописаний использован тот тип источников, в которых нашли отражение научные классификации народов Российской империи, обоснование их ранжирования и качества народного характера (нрава). Это – учебники по географии Российского государства (отечествоведению)[43], немногочисленные этнографические учебные издания, а также научно-популярные серии рассказов о народах Земли и России (они часто выходили с пометкой «для народного чтения»). Данные тексты впервые рассматриваются в качестве самостоятельного источникового комплекса сведений о «другом».
Сравнение трех групп источников привело к заключению, что типологически они однородны, так как большая часть первой включалась в тексты вторых двух; поэтому под определением корпуса источников «этнографические описания» мы будем понимать их совокупность. Едва ли корректнее было бы определять весь комплекс как «научно-популярные» сочинения, поскольку наравне с ними использовались и собственно научные описания экспедиций и этнографические разделы обобщающих трудов по географии, антропологии и истории[44], – они неотличимы ни по стилю, ни, как мы покажем, по содержанию (поскольку, обозначаемые как «научные» очерки, представляли собой, как уже говорилось, компиляции). Все эти издания предназначались для широкой аудитории[45], и потому, анализируемые в качестве единого комплекса знаний, они создают адекватные представления об этническом «другом».
Вторая часть исследования посвящена выявлению способов описания (как структурированию материала, так и ракурсам репрезентации и выборки сведений о «другом») на примере двух народов – финнов и поляков. Привлечены источники, в которых даны этнические характеристики финнов Финляндии и поляков Царства Польского / Привислинского края, для сравнения использованы тексты того же жанра о других народах Империи. Центральным звеном стал анализ их содержания, явных и скрытых оценок, научных и вненаучных целей и стандартов – чтобы в итоге реконструировать представление о финнах и поляках в их «субъектном» и «объектном» (претендующем на объективность) отображении. Из них будут выделены те, которые проявляют себя как стереотипные характеристики. Для определения возникновения и степени распространенности этих представлений осуществлено их сравнение (на обширном историографическом материале) с «обыденными» и «научными» (условно) характеристиками финнов и поляков в российской, польской и финляндской научной литературе XIX в.
Не будет затронут вопрос о формировании и функционировании образов финнов и поляков в русской художественной литературе: во-первых, данная проблема довольно хорошо изучена[46], а во-вторых, для анализа избранных нами источников необходимы иные методы, подходы и теоретические установки. Однако верификация полученных результатов невозможна без обращения к этой части историографии.
Важным с точки зрения реконструкции видения «другого» представляется разграничение понятий «представление» и «стереотип»[47] с учетом историко-культурного контекста, позволяющее скорректировать интерпретацию их значений в языке и культурной практике, способы анализа этнокультурных стереотипов в когнитивной и этнолингвистике[48]; а также различение механизмов их формирования в традиционной народной и современной культуре[49].
Одной из наиболее сложных исследовательских проблем в изучении этнокультурных стереотипов является «не столько вопрос о содержании… „зерна правды" или же неправды, сколько вопрос о способе интерпретации объекта, его характеристике…»[50]. Этнография, целью которой является описание сообществ, изначально «исходит» из генерализации. Она проявляется в тех же обобщающих формулах, в каких чаще всего вербализуются стереотипы – используя «определенную характерную модификацию, состоящую в ограничении суждения о „всех типичных", „всех нормальных" его проявлениях»[51]. Сходство научных характеристик со стереотипами заключается в апелляции к категориям «истинности» и «типичности» и, конечно же, в неверифицируемости подобных суждений. Неверно было бы на этом основании предполагать, что любые научные обобщения представляют собой стереотипы[52]. Однако когда речь заходит об оценках внешности или нрава, которые распространяются на всех представителей группы – мы имеем дело с проявлением стереотипизации. Для их обнаружения необходимо рассмотреть трактовки и определения, используемые при описании нрава финнов и поляков, а также выяснить, связано ли появление данных стереотипов с воздействием автостереотипов и если да, то в какой степени.
Мы исходим из необходимости различения стереотипов а) сложившихся в традиционном (доиндустриальном, в частности крестьянском) обществе под влиянием конкретного исторического опыта и социальной практики и б) существовавших в сознании интеллигенции и элиты, в том числе и «сконструированных» в процессе формирования национальной идентичности и «внедряемых» с использованием арсенала средств просвещения и пропаганды. Вторые в той или иной мере обусловлены влиянием идеи о природной обусловленности национального характера («нрава народа»). Именно этот вид стереотипов и будет разобран в данной работе прежде всего.
Предварим рассмотрение принципов и схем этнографического описания в очерках о финнах и поляках необходимыми в данном случае пояснениями. Выбор этих двух народов для сравнения неслучаен. Сходство Великого Княжества Финляндского и Царства Польского в составе Российской империи было определено общностью их статуса, заданного принципами самостоятельности, предоставленной при вхождении в состав Империи.
Согласно декларациям императора 1809 г. в Великом Княжестве Финляндском сохранялись «коренные законы», однако конкретных документов, в которых была бы четко зафиксирована государственно-правовая позиция Финляндии в составе Империи, разработано не было. Речь, произнесенная Александром I по-французски, стала источником разгоревшейся между финляндскими и российскими политиками полемики о том, что именно вкладывал самодержец в понятия «конституция» и «коренные законы»[53]. И только практика показала, что под ними понимались права и привилегии, которыми подданные пользовались «по конституциям» – т. е. действовавшие до завоевания Финляндии шведские законы. Несмотря на провозглашение императора великим князем Финляндским, говорить о тождественности польской и финляндской персональных уний, как и о союзе равноправных субъектов нельзя, поскольку Княжество управлялось на основании собственных, а не российских законов. Исследователи определяют политический статус Великого Княжества Финляндского в Империи как реально действующую автономию: сохранялась прежняя судебная система и местное самоуправление, финны были освобождены от воинской повинности до 1878 г., кроме того, не было утрачено финляндское гражданство и другие атрибуты самостоятельности. Некоторые полагают, что отношения России и Финляндии в составе Империи можно считать федеративными – с точки зрения принципа государственного строительства[54].
Реформы Александра II усилили полномочия сейма, Финляндия получила собственную денежную единицу, новое законодательство 1879 г. было названо торжеством либерализма: кроме того, эти реформы способствовали экономическому расцвету края. Российская власть начала интенсивную поддержку фенно-филов в противовес так наз. «шведской партии». 1850-70-е гг. стали временем формирования финской национальной идеологии и началом складывания финской идентичности в целом: финскому языку с 1864 г. был присвоен статус официального наряду со шведским[55]. Лишь с 1890-х начинается «наступление»[56] на Финляндию: попытки ограничения некоторых из ее автономных прав и первые проекты русификации относятся именно к этому времени. Финское сопротивление возникло именно как реакция, по мнению В. Расилы, на политику диктата[57], осуществленную генерал-губернатором Н.И. Бобриковым в 1899 г. По «февральскому манифесту» – в сущности, «государственному перевороту», «сломавшему» автономию Финляндии.
Царству Польскому в 1815 г. также была «дарована» Конституция, по которой Польша и Россия связывались между собой династической унией, а царь провозглашался польским королем – с полнотой исполнительной власти. Российский император, таким образом, стал в Польше конституционным монархом. Конституция гарантировала существование польского сейма, правительства, армии и просвещения. Но она не изменила положения земель, отторгнутых от Речи Посполитой в результате разделов: чаяния на их объединение с Царством Польским не оправдались – таким образом, те территории, которые поляки считали «своими», образовали западные российские губернии. Пожалуй, только «область финансов и экономической деятельности представляла собой именно ту сферу деятельности, где правительство Царства обладало наибольшей свободой»[58]. Система экономических и финансовых отношений между Царством Польским и Россией строилась по модели межгосударственного взаимодействия[59]. Однако в Польше, в отличие от Финляндии, уже в 1820-е гг. планы сотрудничества с политической элитой – в том числе и в органах управления – потерпели неудачу: предложения правительства, нарушавшие конституционные гарантии, вызвали резкий отпор и консолидировали оппозицию. Последовавшая за этим общая смена курса стала одной из причин восстания 1830-1831-го гг. Политика в отношении Царства Польского после подавления восстания была, как оценивают историки, противоречивой. Упразднение династической унии и сейма сделало Царство нераздельной частью Российского государства, но управление ею осуществлялось так, как если бы она была покоренной вражеской территорией[60]. К середине века интеграции Царства Польского в политический организм Империи не произошло. Январское восстание 1863 г. продемонстрировало крах надежд на примирение с польской элитой, новая концепция управления Царства (с 1874 г. Привислинский край) исходила из важной идеологической посылки о наличии сословных вариантов «Полып» – «шляхетско-клерикальной» и «самобытно-крестьянской», «хранящей славянские начала»[61]. Аграрная реформа 1864 года была направлена именно на укрепление нового союза – не с господствующим сословием, а с польским крестьянством. В крае началась открытая русификация и «деполонизация» административного аппарата. С середины столетия в тесной связи с «польским» находились «украинский» и «русский» вопросы. Осуществляемые в России реформы «считались преждевременными» в Царстве Польском.
Имперский федерализм, сотрудничество с местной элитой, толерантность и сохранение территориальной целостности обеспечили, как указывает И.Н. Новикова, «верноподданность финляндцев по отношению к российскому самодержавию»[62] вплоть до 1890-х гг. Иная эволюция отношений сложилась между Царством Польским и имперским центром, но в обоих случаях этот процесс подчинялся не только формально-правовым установлениям или административным мерам, но и логике двустороннего взаимодействия: оба края не были пассивными объектами политики, развитие диалога или конфликта определялось опытом межнациональных и межсословных отношений, историей и идеологией польского и финского национальных движений и, разумеется, изменениями собственно «русского» и «российского» взгляда на Польшу, Финляндию и их жителей.
Важную роль в эволюции отношения имперского центра к подданным «западных окраин» играли, как подчеркивают исследователи, традиции и принципы самодержавного правления, которые «ни при каких исторических обстоятельствах… не могли бы привести к возникновению чего-либо, напоминающего „договорные права" – соглашение, заключенное между сувереном и народом»[63]. Поэтому самое большее, на что могли рассчитывать поляки и финны, – получение привилегий «на классовой, профессиональной или территориальной основе»[64].
Сравнение колонизационных процессов в России и в других державах привело некоторых ученых к выводу о том, что они строились принципиально различным образом[65]. Это повлияло и на особенности формирования национальной политики в Российской империи. Многие исследователи разделяют убежденность в том, что в своей окончательной и строгой форме она выработана не была[66]: существовало многообразие правовых, государственных, управленческих форм, сложность и разнопорядковость связей народов и территориальных образований[67], российское законодательство почти не знало ограничений по национальной принадлежности, они действовали по конфессиональному признаку, а «официальных документов, провозглашавших принципы национальной политики в целом», составлено не было[68]. Однако «в этой кажущейся бессистемности и разновариантности окраинного управления и был залог успешности имперской политики, обеспечивающей долговечность существования огромного и многонационального» государства[69].
Финны и поляки начиная с XVIII столетия представляли в России не только западные окраины: многие общественные деятели той эпохи и современные исследователи утверждают, что их следует признавать носителями европейской культуры. Присоединение западных территорий, и Финляндии и Польши в частности, означало инкорпорирование народов и областей, которые в социально-политической организации, в некоторых сферах экономики и культуры воспринимались как обладавшие иными традициями и историческим опытом, чем метрополия, что позволило воспринимать их в некоторой степени как образец или источник размышлений в ходе разработки проектов реформ в России[70]. Но что важнее – эти народы обладали собственными традициями государственного существования или самоуправления. Именно это, как утверждал B.C. Дякин, «сделало для власти особенно острой проблему выработки государственной идеологии» (особенно в сфере национальной политики), а также «определенных способов скрепления всех составных частей государства в единое целое»[71]. Национальную политику связывают не с официальной позицией властей или с продуманной системой мер в отношении окраин, а с идеологией и другие исследователи. Они полагают, что начиная с 1860-х гг. можно говорить об оформлении идеи «единой и неделимой России», в соответствии с которой должно было происходить «сближение или слияние инородцев с русскими», причем его формы варьировались в зависимости от того, к восточным или западным народам данная концепция применялась: на восточных окраинах она виделась как слияние местных культур с русской, на западе – как «объединение разнородных элементов». Сама концепция «слияния» восходила к еще просвещенческой доктрине поглощения более развитыми народами «отсталых», но с середины столетия ее понимают в значении русификации[72].
Изучение положения автономий «цивилизованных западных окраин» в этом контексте, а также с точки зрения политического и правового статуса и политики в отношении различных социальных групп, доказывает свою плодотворность. В том числе и для выявления сходств и различий в политике и праве статуса Финляндии и польских земель в Империи и отчасти финнов и поляков среди других народов. Отметим, что начиная с 1880-х гг. «еврейский», «финский» и «польский» вопросы находились в центре внимания и международного сообщества, и исследователей межнациональных отношений в Российской империи. Поэтому их место в государстве и российское общественное мнение по отношению к ним изучено более детально, нежели положение других народов Империи[73]. Но более в политическом, а не этническом аспекте, поскольку представление о «народах» как «этносах» в это время еще не сложилось, а комплекс этнических признаков окончательно сформулирован не был (даже в науке). Входившие в состав государства народы рассматривались как население отдельных национальных областей (в геополитическом смысле) и разделялись властью на сословные группы и категории подданных[74].
Наиболее заметный вклад в реконструкцию этнической иерархии народов Российской империи внес А. Каппелер. Он смоделировал три разновидности иерархии, критериями которых являются: 1) политическая лояльность, 2) сословно-социальные и 3) культурные факторы[75]. Все они влияют друг на друга и видоизменяются со временем. Если применить предлагаемые ученым признаки для определения места поляков и финнов в первой схеме классификации (политической лояльности) в рамках исследуемого периода, то вполне очевидно, что финны находились на самом верху иерархической лестницы, нижние ступени которой занимали поляки. Второй тип иерархии в качестве главного определителя позиции выделяет наличие собственной элиты, признаваемой равноправной с русским дворянством. В ней места поляков и финнов были ближе: финны занимали в этой иерархии нижнюю ступень, так как собственной национальной элиты не имели (их дворянство было шведского происхождения). Однако и польская шляхта, прежде – до восстаний 1830/31 и 1863 гг. – стоявшая на вершине, в результате к 1870-м гг. лишилась значительной части своих привилегий. «Такая реакция, – указывает историк, – была логичной, т. к. лояльность по отношению к государю и правящей династии была необходимым условием союза с элитами», поскольку обе иерархии были связаны друг с другом[76]. Высокоразвитыми, как он полагает, считались народы с собственной аристократией, и к ним относит поляков и шведоязычных финляндцев.
Л.Е. Горизонтов, сопоставляя представления русских о степени «культурности» различных народов Империи во второй половине XIX в., привел ряд свидетельств, подтверждающих, что народы ее западных окраин – поляки, немцы и финны – в последней четверти столетия воспринимались центральной властью как «народности с высшей культурой», которых «нельзя подчинить себе»[77].
Намного более сложным оказывается процесс определения места поляков и финнов в третьей из предложенных А. Каппелером иерархий – выстраиваемой по культурным критериям. Именно она, по его мнению, определяла соотношение конфессий, этносов и языков. Исследователь описывает ее через метафору системы концентрических кругов вокруг национального центра – русских как православных славян; на периферических окружностях помещались наиболее «чуждые» в конфессиональном отношении народы (нехристианские инородцы[78]), ближе к центру – православные неславяне. Культурная иерархия определялась по степени инаковости и чужеродности по отношению к русскому «ядру».
В этой классификации было задействовано несколько критериев: юридическое разделение, вероисповедание, племенная принадлежность[79]. Следуя этой схеме, поляки и финны попадали в равноудаленное от «ядра» пространство; произошла своеобразная компенсация: протестантизм финнов вызывал меньше неприятия, чем польский католицизм, однако «славянскость» поляков приближала их к «русскому ядру» сильнее, чем «кровное» родство с финнами.
Таким образом, исходя из этой модели иерархий финны и поляки находились в сходном отдалении от русского центра, а некоторые первоначальные преимущества поляков были утрачены с потерей ими привилегий и статуса. Однако данная схема А. Каппелера является лишь попыткой наметить принципы определения «своего» и «чужого» в рамках официальной политики – причем формально даже не «национальной» в чистом виде. Заметим, что третья разновидность иерархии является наиболее условной: в ней не учтены такие факторы, как историческое соседство народов, опыт их взаимодействия, степень русификации; вызывает также сомнение указываемая историком строгость деления на «племена и наречия». Стандарты определения степени «культурности» также представляются излишне модернизированными. В нашей книге мы не ставим задачи принять или оспорить эффективность данной схемы, однако по мере возможности далее будут более подробно рассмотрены именно факторы культурной близости и отдаленности поляков и финнов от русских – в том виде, в каком они предстают в формализованной и «стихийной» этнических классификациях второй половины XIX века. Если принять данную систему иерархий в качестве исследовательской модели, то местоположение поляков и финнов на этой «карте» вполне сопоставимо.
Ряд исследователей выдвигает и более традиционное – восходящее еще к романтизму – разделение народов на «старые» (великие) и «молодые» (малые) нации[80], но в качестве критериев используют социально-политические факторы: первые отличают средневековые традиции государственности и «развитость» элит, ко вторым относят те, которые не имели сформированной социальной структуры и в силу различных причин остались так наз. «крестьянскими народами» – т. е. нациями в государствах с неполной социальной структурой общества и этноса[81]. По этой классификации поляки – старый, а финны – молодой народ. Однако, как верно отмечает М. Витухновская, «малые народы» «необходимо рассматривать в динамике», так как с развитием национальных движений во второй половине XIX столетия их статус менялся, и наиболее ярким примером такой эволюции исследовательница считает финнов, которым удалось стать политической нацией всего за одно столетие[82]. Следовательно, в некотором смысле можно говорить о выраженной тенденции к сближению статуса поляков, финнов и русских в имперской иерархии. Быть может, именно это «покушение» на объявленный нациеобразующим великорусский этнос вызывало столь болезненную реакцию не только на польский, но и финляндский «вопросы».
Разумеется, отношение к Великому Княжеству Финляндскому и Царству Польскому / Привислинскому краю, как и к его жителям, нельзя трактовать как однозначное – ни в строго правовом смысле, ни в официальной риторике, ни в реальной политике. Различна была степень самостоятельности этих «социокультурных организмов» на определенных этапах, разным был и исторический опыт взаимоотношений их народов с русскими и – что важнее – с российским государством. Борьба поляков за независимость имела выражение в организованных и решительных действиях; финляндский «сепаратизм» вызрел в результате поддержки феннофилов; «польский вопрос» берет свое начало с 1830-х, «финляндский» – полвека спустя.
Для нас более значимым представляется вопрос о том, как понимались этнокультурные отличия этих народов и русского народа: и поляки, и финны принадлежали к другим христианским конфессиям, отношение к представителям которых имело длительную традицию, особенности социально-политической жизни сформировали иной тип правового сознания и политической культуры. Средний (т. е. без учета сословной принадлежности) уровень грамотности этих покоренных народов был выше, чем в метрополии. Неслучайно Ю.И. Семенов назвал Польшу и Финляндию «цивилизованными окраинами» Российской империи[83].
Сохранение гражданских и политических прав – «коренных законов» Финляндии[84] – «освященных» тем, что с момента присоединения к России «финны заняли свое место в среде народов» (слова Александра I), ставило ее граждан в особое положение среди других народов Империи. Им могли отказывать в принадлежности к «белой расе» и «историчности», но не в политическом статусе и привилегиях автономии.
Польский народ, длительное время воспринимавшийся в политическом смысле как единственное сословие, не удовлетворился полученной Конституцией (ему было с чем сравнивать свой статус в Империи), однако бесспорно именовался народом европейским и «историческим». Правда, не совсем корректно само использование термина «народ» применительно к описанию отношений центра и регионов (областей). «Народы» и отношения с ними в этом контексте выступали лишь как риторические фигуры и даже ритуальные формулы обращения, отсутствие этнического компонента «овеществляло» этнос в виде коллективного и однородного «тела» подданного. Как уже указывалось, имперская политика в отношении народов Империи, строго говоря, выработана не была. Т. е. «национальная», в точном смысле слова, политика таковой не являлась, «как не была и этно-потестарной, она была прежде всего управленческой к регионам, областной»[85].
Таким образом, сравнение описаний поляков и финнов можно считать обоснованным, прежде всего, потому, что и в политическом, и в культурном отношении – в качестве «социально-культурных» единиц – они воспринимались как сопоставимые друг с другом представители западноевропейского культурного пространства (в разной степени и в разных формах), а точнее, находящиеся на равноудаленном расстоянии от нациеобразующего ядра на ментальной карте Российской империи. Однако в центре внимания власти, когда она имела дело с нерусским населением западных («цивилизованных») окраин, «находились не этносы или нации», а сословия и население данных регионов[86]. Строго этническое различие и сходство находилось лишь в процессе осмысления, – его реструктуризация и является целью предпринятого исследования.
Часть первая
От народности к этничности: язык научного описания
Образ эпохи складывается из ее «объективности» и ее самоистолкования; но только то и другое неразделимо, и «объективность» невычленима из потока самоистолкования.
А.М. Михайлов[87]
Но так как в республике науки «свобода» мнений обеспечена до такой степени, что нет и попыток спрашивать большинство ни тайно, ни явно, то говорить от имени науки волен не только каждый, чему-либо учившийся, любой писатель, писака или фельетонист, но и простой проходимец, а потому заблудиться в «последних словах науки» чрезвычайно или до крайности легко.
Д.И. Менделеев[88]
Глава 1
Рассмотреть и упорядочить: «иные» и «свои»
Всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях, свойственных обыденной жизни; дальнейшее ее развитие есть только ряд преобразовании… по мере того, как замечаются в них несообразности.
A.A. Потебня[89]
Век Просвещения: словарь и изображение. Обобщенные характеристики народов (сначала – европейских) составлялись начиная с античности, но попытки объединить разрозненные мнения и впечатления в единую картину относятся к эпохе Возрождения[90]. Нарративные тексты – записки путешественников, дневники паломников, донесения дипломатов, воспоминания послов – содержали наблюдения и описания «других» как непременный элемент. Однако последовательность и, главное, интенция оставались неизменными со времен Геродота: в их основе лежал так наз. псевдо-etic подход к иной культуре, когда она является объектом сравнения с собственной и не интересует наблюдателя сама по себе, изнутри[91], поэтому его взгляд вычленяет из действительности те элементы, которые определяются как похожие на «свои», и те, которые квалифицируются в качестве отличных. Эти описания не были построены по строгим схемам, они лишь фиксировали области максимального или минимального расхождения между «иным» и «своим». Значимость упорядочивания уже имеющихся сведений для составления описаний вновь «открываемых» народов была осознана лишь в XVII в., в связи с необходимостью осмыслить резкое расширение пространственных границ обитаемого мира. Одной из типичных можно считать инструкцию Бернара Варенна (1650), в которой он советовал описывать туземцев по следующему плану: внешность, пища, одежда, привычки, занятия и промыслы, искусства и ремесла, добродетели и пороки, семейные и брачные отношения, язык, государство, города, история и великие люди[92]. Описание «другого» здесь выстроено от частного к общему, от конкретных – очевидных для наблюдателя реалий, с которыми он сталкивается при непосредственном общении, к изложению сведений, которые необходимо установить, пользуясь иными источниками (язык, государство, города, история и великие люди). Хотя общий план подобных описаний уже был выработан, они еще были востребованы и как занимательный материал, дополняющий сведения стратегического или исторического характера. Критического отношения к полученной разноречивой информации не существовало: «Столь очевидного для нас разделения между тем, что мы видим, тем, что заметили и сообщили другие, тем, что другие, наконец, воображают или во что они наивно верят, великого деления на три части, по видимости столь простого и столь непосредственного, – на Наблюдение, Документ, Сказку – не существовало»[93]. Рациональный способ познания мира привел к переосмыслению всего комплекса накопленных ранее сведений, главной задачей которого стала их систематизация во всех областях знания.
К восемнадцатому столетию относятся попытки, с одной стороны, создать научные классификации природного мира, включая и человеческие сообщества, и с другой – упорядочить сам процесс наблюдения над ним. По словам М. Фуко, «классическая эпоха дает истории совершенно другой смысл: впервые установить тщательное наблюдение за самими вещами, а затем описать результаты наблюдения в гладких, нейтральных и надежных словах… Кабинет естественной истории и сад… замещают круговое расположение вещей по ходу „обозрения" установлением их в „таблице"»[94].
Системный подход эпохи Просвещения породил увлечение различными классификациями, в том числе и теми, которые могли бы выявить пространственные (географические и климатические) и временные (исторические) закономерности распределения разнообразия человеческих сообществ, включая их иерархии. Однако координата времени еще никак не связана с представлениями об эволюции – поскольку развитие природных форм понималось не как совершенствование, а как видоизменение. Главными методами естественнонаучного познания стали: дескрипция (по признакам) и структура, разрабатываемая в сравнении различных элементов формы друг с другом. Набор отличительных особенностей «другого» был известен: это внешние черты, устанавливаемые наблюдением, и те, которые можно определить как функциональные – связанные с социальной жизнью. Новым для этой эпохи можно считать лишь детализацию методов анализа вторых – они нуждались в реконструкции – и стремление определить утраченные в ходе эволюции состояния: облик вымерших существ и древнее прошлое народов.
Труды французских энциклопедистов (Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеция, Вольтера), немецких и английских философов (прежде всего И. Канта, Д. Юма, И.Г. Гердера) заложили основу новых представлений об истоках этнического разнообразия, о принципах описания, методах исследования племен и народов. Восприятие Просвещением истории воплотилось в идее прогресса, определяемого разумом и законом, что позволяло выстроить четкую эволюцию и, как следствие, иерархию государств и обществ. Разделение народов на цивилизованных и нецивилизованных (диких) в некотором смысле заменило прежнее противопоставление христиан и нехристиан, включив дополнительные критерии идентификации – такие как наличие общественной организации (высшей формой которой объявлялось государство) и право. Гердер был уверен, что истинная цивилизация состоит «не только в даровании законов, но и воспитании нравов»[95]. Эта общая классификация стала универсальной, поскольку она могла быть применима как к европейским народам, в той или иной степени входящим в орбиту христианского мира, таки к тем, принадлежность которых к человеческому роду вызывала сомнения[96]. Таким образом, все многообразие человеческих сообществ могло быть распределено по стадиям. Воплощением этой стадиальности стало отождествление жизни человека с историей общества, метафорой – этапы жизненного цикла.
Параллельно осуществлялись попытки упорядочивания разнородных явлений в природном пространстве. Одной из них стало создание естественнонаучных классификаций – в частности, К. Линнея и Ж.Л. Бюффона. Наиболее важными чертами этих построений было распределение всех элементов живой природы по набору внешних признаков, а также внутриродовая иерархия, фиксировавшая место существа в эволюционном процессе. По этому образцу была выработана и классификация человеческого рода. Бюффоновские сочинения оказали весьма значительное влияние на антропологические и этнографические теории XIX в. Автор «Естественной истории» (1749–1788) включал в природный мир и человека. Задавшись вопросом о том, «что такое человек», и отвечая на него, он обращался к многочисленным рассказам XVII–XVIII вв. о путешествиях европейцев, чтобы определить видовые и родовые особенности людей и, в частности, рас. Расы он дифференцировал по физическим признакам и, что очень важно, по свойствам «натуры»[97], под которой понимался «нрав». Главным критерием, по которым определялись отличия человека от животного, признавался разум; внешним его признаком называлось умение говорить. Однако Бюффон выстраивал иерархию народов (наций) и по другому принципу, учитывая способ социальной организации человеческого коллектива: «Нация, для которой не существует ни законов, ни установлений, ни повелителей, ни общества в привычном смысле слова, является уже не столько нацией, сколько бестолковым сборищем людей»[98]. На высшей ступени, по его мнению, находятся цивилизованные и просвещенные народы (народы северной Европы), внизу – «совсем дикие» (американские племена) и «люди, более других походящие на зверей» (австралийцы). В основе отнесения к цивилизованности / нецивилизованности лежало, таким образом, различение разумности / неразумности, а также сложности / простоты. Чем более сложен язык, законы, строй народа, тем более развитым он считался и потому был достоин занимать высшее место в иерархии этносов. Таким образом, Бюффон в своих классификациях объединил исторические и пространственные признаки: разделил человечество на группы с точки зрения физических (т. е. чисто расовых) признаков, но для определения их места в общеэволюционной классификации обратился к социально-культурным критериям.
Философы и историки Просвещения в рамках основополагающего – цивилизационного подхода, развивая идеи этнокультурных отличий разных народов, использовали архаическую концепцию о существовании национальных характеров. Спектр интерпретаций вопроса об истоках их различий полностью определялся естественнонаучными теориями Бюффона и Линнея: одни настаивали на доминировании природных условий, другие доказывали преобладание социально-политических обстоятельств в их формировании. К первым относились, в частности, Ш. Монтескье, Д. Дидро. Монтескье ставил на первое место климат, который, по его мнению, определял «дух народа»: он негативно влиял на жителей жаркого Юга (они ленивы и медлительны, склонны к наслаждениям и фантазии) и, напротив, закалял северные народы (он описывал их как мужественных, воинственных и выносливых). Косвенное воздействие климата проявлялось, с его точки зрения, в зависимости общественных форм от природных факторов[99].
К сторонникам решающего воздействия общественного устройства (формирующегося под влиянием политической организации, законов и воспитания) на нравы народов относились Вольтер, Д. Юм[100] и К. Гельвеций[101]. Срединную позицию занимал И.Г. Гердер, отождествлявший «душу народа» («народный дух») и характер. Не отрицая воздействия природных факторов на формирование «народного духа», он допускал влияние на него образа жизни и воспитания[102].
Идеи Просвещения определили развитие российской науки и общественной мысли XVIII в. – в том числе и в области народоописаний. Первые российские описания «нравов и обычаев» народов стали важной вехой не только в процессе накопления научных материалов, но и в складывании тезауруса, связанного с выработанным французскими просветителями и немецкими философами восприятием национальных категорий и представлений. Вместе с ними было воспринято и противоречие между просвещенческими декларациями о единой природе человека и утверждениями о многообразии народов в государства (империи)[103]. Собирание сведений о народах было актуальной задачей как для географического и политического освоения страны, так и для создания первых исторических концепций в масштабах Империи. Для этого было необходимо соединить географию с историей. Однако первые российские описания ограничивались экзотическими – нерусскими – народами, исследуемыми в процессе освоения «своего» пространства, определяемого с точки зрения государства – т. е. власти. Задача каталогизации природных и человеческих ресурсов реализовывалась на этом этапе в отрыве от представлений об этническом, в том числе и связанных с понятием «русского народа».
«Эпоха больших академических экспедиций XVIII века»[104] адаптировала европейские основы классификации и описания народов применительно к Российской империи. Речь идет, разумеется, не о предметной адаптации, но о приспособлении научных методов и классификаций к описанию народов, находившихся на разных «возрастных» стадиях. В соответствии с убеждением, что европейские народы опережают изучаемых ими представителей других культур в цивилизационном и духовном отношении, категории совершенства / несовершенства также воспринимались как вполне научные. Это привело к тому, что наблюдаемым этническим феноменам давалась оценка, соответствует или не соответствует та или иная этническая группа требованиям «нормы», как она виделась просвещенным цивилизованным наблюдателям. Иначе говоря, даже безоценочное описание содержало в себе скрытое сравнение и даже осуждение. Сравнение могло осуществляться не только с образом жизни «цивилизованных» народов, довольно часто прибегали к сравнению со знакомым, известным. В этом качестве выступали «свои чужие» или соседние с описываемыми народы. Таким образом, выявление своеобразия подразумевало знание о родственных или соседних группах и сопоставление их, основанное на противопоставлении цивилизации – дикости, «своего» – «чужому». Например, описывая земледелие ижорцев, И.Г. Георги замечает, что «хозяйство… их не походит прямо ни на русское, ни на финское, но хуже того и другого»[105]. Такое «описание через отрицание» было характерно для естественных наук и зарождающейся этнографии XVIII в. Оно определялось стремлением посредством просвещения искоренить то, что трактовалось как недостатки.
Философия Просвещения исходила из возможности «изменить поведение народов на основании разума и власти… Российская империя… унаследовала их от своих великих основателей и даже в худшие свои дни продолжала видеть свою задачу в просвещенном умиротворении, колонизации доставшейся ей части мира»[106]. Естествознание в широком смысле и география как наука, изучавшая земное пространство с его природным разнообразием и богатством обитателей (включая народы), ставили задачи расширения и систематизации знаний о племенах и нациях – т. е. народах, находящихся в разных культурных состояниях.
Все первые российские описатели народов исходили из тесной взаимосвязи природы и народа, а точнее, народы – особенно окраинные – виделись органической частью природных ресурсов территории. Этнос же казался воплощением своеобразной «физиономии» пространства. Поэтому И.Н. Болтин видел главную задачу исследования Российской империи в том, чтобы определить, какие племена составляют «народ» государства, кто они, эти подданные – через выявление различий в «нравах, обычаях и богочтении»[107]. Для этого необходимо было выработать определенный план описания. И в одном из первых вопросников по истории и географии В.Н. Татищева (1734), и в его же Программе-инструкции для историко-этнографического отчета по Академической экспедиции 1733–1743 гг.[108] нашел выражение общий принцип эпохи: народоописание представляло собой органическую часть географического обзора.
Следует подчеркнуть, что визуальные и вербальные описания осуществлялись в то время рука об руку, помещаясь в отчеты об экспедициях или в энциклопедические издания: ведь и объект описания, и методы не противоречили друг другу, тогда как «изучение национальных языков в значительной степени было отделено от описания внешнего облика народов»[109].
Главным критерием классификации народов А.Л. Шлёцер и Г.Ф. Миллер считали лингвистический фактор. Язык и ранее служил самым надежным критерием этнической принадлежности. Так, французский консул в Крыму Ш. Пейсонелль в сочинении «Исторические и географические замечания о варварских народах, населявших берега Дуная и Черного моря» (1765)[110], отчаявшись разобраться в географической «чересполосице» и этнических смешениях жителей Восточной Европы, решил прибегнуть к спасительному, как ему казалось, и безошибочному признаку – языку, однако смог выделить лишь «язык венгров», «разновидность латыни» в Молдавии и Валахии и славянскую группу[111].
Обосновывая лингвистический принцип классификации, А.Л. Шлёцер переносил принципы систематизации естествознания на человеческие сообщества: «Да позволено будет мне ввести в историю народов язык величайшего из естествоиспытателей (Ламарка. – М.Л)[112]. Я не вижу лучшего средства устранить путаницу древнейшей и средней истории… как некоторая systema populorum, in classes et ordines, genera et species redactorum… Как Линней делит животных по зубам, а растения по тычинкам, так историк должен бы был классифицировать народы по языкам» (1768)[113]. Подобная апелляция к линнеевской системе как к образцу наглядно демонстрирует две особенности этнических классификаций того времени: 1) язык воспринимался как один из важнейших признаков народа, выявляемый, однако, как и другие приметы видовой принадлежности, средствами внешнего наблюдения. «Зрительные представления, – подчеркивает М. Фуко, – развернутые сами по себе, лишенные всяких сходств, очищенные даже от их красок, дадут наконец естественной истории то, что образует ее собственный объект»[114]; 2) Наименование фиксируемого у народа наречия осуществляется путем его сравнения с другими известными языками – но только записанными.
Благодаря трудам Шлёцера в XVIII в. язык стал признаваться несомненным отличительным признаком и главным критерием классификации народов. Язык оставался, так же как и небиблейские теории этнического родства современных народов с известными с античности племенами, важным аргументом в определении древности народов через совершенство его «наречия»[115]. Основанием для определения языковой принадлежности окраинных жителей Российской империи служили данные сравнительных словарей и лексиконов (Татищева, Миллера, Фишера) – в частности, наречий народов Сибири. Сведения для них собирались учеными путешественниками и русскими информаторами – следовательно, в изучении языков Шлёцер следовал за пониманием языковых различий собирателями фактического материала[116]. Так или иначе, лингвистическое родство означало для него и общее происхождение народов. Следующим этапом после установления места народа в таблице (дереве) языкового родства было его разностороннее описание – так же, как в характеристике других элементов природного мира, этнические сообщества подвергались детальному «осмотру» по неопределенному плану: происхождение и наименование, занимаемые территории, «телообразие, общенародные свойства, язык, нравы, одежда, суеверия и проч.»[117].
Язык как этнический признак и способы его фиксации (путем описания и сравнения с другими) стали главными принципами этнографического описания у В.Н. Татищева: «Наипаче всего нуждно каждого народа язык знать, дабы чрез то знать, коего они отродья суть, но в языке надобно смотреть: 1) слова такие, которые не легко переменяются… яко счисление… також: бог, небо, солнце, месяц, огонь и протчие имяна, 2) при записывании надлежит внятно выслушивать, чтоб одну букву за другую не положить, 3) Нужно смотреть на ударение гласа… 4) Притом же и прилежно смотреть, чтоб сказывающий имелчистое и совершенно речение»[118]. Примером реализации этих требований может служить его «Общее географическое описание вся Сибири» (незаконченное), где в разделе «о жителях сибирских» дана следующая языковая характеристика древнейшего населения: «Междо древними находятся три языка: 1) сарматской, который во многом с финским, карельским, лапланским и т. д. согласен, 2) татарской или паче калмыцкой, 3) особливой, что ни с которым из сих не опишется»[119]. Согласно такому делению, ученый и народы России разделял на славянские, сарматские, татарские и «странноязычные» (т. е. не входившие в три предыдущие группы).
В разработанной Татищевым инструкции по описанию народов большую значимость имели, помимо языка, и другие этнические признаки: вероисповедание (христианские исповедания, иноверцы, идолопоклонники, новокрещеные и др.), обычное право и нравственные добродетели, уровень знаний и суеверия, а также «состояние телес обчественное»[120].
Примером реализации несколько иного плана репрезентации (в том числе и визуальной) народов Империи может служить описание «обитающих в Российской империи» народов И.Г. Георги[121], которое представляло собой систематизированный свод сведений, предназначенный для образованного российского общества[122]. В основание структуры описания Георги был положен географо-лингвистический принцип. В первом русском переводе труда И.Г Георги рассмотрены три основные группы народов России: финское «племя», татарское и «самоядские, манджурские и восточные сибирские народы». Все народы, – так же, как и отдельные люди, – по мнению И.Г. Георги, обладали особыми свойствами характера или темперамента, а также выраженной склонностью к некоторым психическим или физическим заболеваниям. Он описывал внешность, как правило, оценивая красоту женщин. Вероисповедание не являлось для него важным фактором классификации. Иерархия признаков этноса по Георги была такова: язык, этноним, территория проживания народа, внешние черты, нрав.
Одновременно с выработкой принципов описания происходил процесс рецепции европейских научных терминов, определявших объект этнографических исследований[123], среди которых наиболее важную роль сыграли достижения немецкой школы народоведения, тем более что среди российских членов Академии наук было много приглашенных немецких профессоров, одновременно продолжавших преподавательскую деятельность в европейских университетах (Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, И.Э. Фишер, И.П. Фальк, П.С. Паллас). Именно под немецким влиянием определился ряд особенностей, обусловленных различением понятий «Vlkerkunde» («Ethnographie») и «Volkskunde» («Ethnologie»), появившихся в 1770-80-х гг. Такое терминологическое различение ввел А.Л. Шлёцер, который использовал их как синонимы; буквальный перевод термина «Ethnographie» как «Vlkerbeschreibung» прижился в немецкоязычных работах российских коллег Шлёцера – Палласа и Миллера. Эти термины трактовались как тождественные, и только в эпоху романтизма их уточнили и противопоставили друг другу, разделив предметные области. «Vlkerkunde» («Ethnographie») стало наукой о неевропейских народах и культурах. Таким образом, задачу видели в показе «народов как людей»[124]. Подобное видение способствовало введению категорий стадиального развития в метафорическом уподоблении истории народов жизни человека, ставшего благодаря Гегелю особенно популярным в эпоху романтизма. Исследователи видят в этом уподоблении проявления риторики и политики европейского колониализма[125].
«Volkskunde» – народоведение – ограничивало поле исследований главным образом немецкоязычными народами – т. е. «своей» культурой. Характеристика народов в рамках географо-статистических описаний и доминирование в связи с этим регионального членения пространства и населения в России были восприняты из традиций немецкой статистики[126]. Термин «этнография» (эквивалент «Volkskunde»), появившийся в немецких сочинениях, понимался как описание свойств народа[127], населяющего ту или иную территорию, включенное в эти географо-статистические обзоры. Чаще всего речь шла о так называемом «физическом народоведении» с днными о природных свойствах населения того или иного региона и физико-географических условиях его проживания. В них помещались очерки «народоведения нравов» (volkssittenkunde), описание культуры (kulturkunde) и образа жизни (leibensweis)[128]. Этнография этого времени в России – еще не как наука, а как прикладная отрасль географии, задача которой ограничивалась описанием населяющих земли Империи народов – содержала в себе, таким образом, элементы двух направлений – как «Vlkerkunde», так и «Volkskunde».
Подчеркнем следующие особенности исследования человеческих сообществ (еще не повсеместно называемых этническими, хотя немецкий эквивалент наименования уже возобладал), отмеченные Ю. Слёзкиным: стремление каталогизировать «нравы и обыкновения» народов, служившие «независимыми единицами сравнения»; принятие за «ядро этнической общности» пищи, пола и почвы; «создание этнической иерархии, на вершине которой находилось „совершенство" просвещения» и, как следствие, несовершенство и дикость народов изучаемых, а также убежденность в наличии связи между телесным состоянием и духовным обликом человека[129]. Хотя языковой критерий к концу века был признан наиболее объективным основанием для классификации, все перечисленные принципы (и особенно просвещенческие идеи о «добром дикаре» и руссоистское убеждение в естественном нравственном состоянии) в той или иной степени были задействованы в выработке концепций этноса и этнических классификаций нового века. Вплоть до 30-х гг. XIX в. характеристики народа оставались на уровне описания Георги, который так, например, характеризовал лопарей: «Росту они среднего… от суровой своей жизни бывают они сложением крепки, проворны и изгибчивы, но при том и лености подвержены… Разум у них обыкновенный простонародный. Впрочем они миролюбивы, начальникам своим подобострастны, к воровству не склонны, постоянны, в обхождении веселы…»[130]. Подтверждением этому служат и статьи в Словаре А. Щекатова. В нем, например, в статье о финнах (том, в котором она содержится, вышел в свет в 1808 г., когда вхождение Финляндии в состав России было уже определено) приводятся обширные и неизмененные фрагменты из их описания Георги[131].
Только в эпоху Просвещения получили выражение три характерных принципа научного описания объектов окружающего мира: доминирование визуального восприятия «исследователя», требующего от него точной фиксации того, что он видел сам; использование арсенала имеющихся сведений для суждений о том, что не стало объектом непосредственного наблюдения, и сведения исторического характера. Для описания народов это означало, что необходимы были а) прямой контакт с объектом исследования, б) некоторый объем знаний, позволявший скорректировать изучение тех областей их жизни, которые не поддавались непосредственному зрительному определению; в) стандартный план или схема, упорядочивающая собранную информацию. Последняя отчасти повторяла известный набор элементов, нуждавшихся в непременной фиксации, но отчасти являла собой результат научного осмысления универсальных особенностей всех человеческих сообществ – человека как вида. Тогда же сформировались стандарты европейских этнографических исследований; их важнейшим методом и главным этническим признаком стал визуальный: этнографическое знание в эпоху Просвещения, как показывает Е.А. Вишленкова, сначала «упаковывалось „в картинку”, а потом… в письмо»[132]. Это нашло отражение и в форме издаваемых этнографических описаний. Так, иллюстративный материал («костюмы» художника X. Рота) в «Описании» И.Г. Георги был во многом первичным в отношении к тексту, а «специфика народа… приписана не людям, а вещам», что отражало современную культуру видения мира[133]. Визуализация этнографического восприятия осталась доминантной и в науке XIX века: «Согласно европейской традиции, во всех формах убеждающего и подчиняющего европейского знания заложено зрительное восприятие»[134].
В общем, можно утверждать, что строгая и стройная система классификации в XVIII в. окончательно еще не сложилась, принципы описания пока находились в явной зависимости от объема знаний о тех или иных народах – чем меньше сведений, тем в большем затруднении оказывался автор, тем более что часто он был довольно произволен в своих классификациях. Несмотря на отсутствие признаваемых всеми критериев этнической принадлежности, можно говорить о том, что уже зафиксирован перечень основных признаков, но еще без жестко определенной их иерархии: язык, внешний облик, занятия, обычаи, законы; ум, нравственность и характер (нрав).
Таким образом, этнографические описания российских народов во второй половине XVIII столетия можно определить как первичные, для них по-прежнему вполне равноценными были сочинения античных авторов, путешественников, историков, философов, т. е. очевидцев и историографов в равной степени. Как резюмирует М. Могильнер, «появлявшиеся начиная с XVIII в. типологии и этнографические описания народов России, подобно всем таксономическим просвещенческим проектам, направленным на упорядочивание и рационализацию видимой беспорядочности бытия (вроде зоологической системы Карла Линнея), не подрывали и не опровергали существующий миропорядок. Они фиксировали сущности, давали им имя, каталогизировали знание, утверждая приоритеты просвещения и осмысленного восприятия реальности»[135].
Романтизм: «свой» как «иной». В конце XVIII – начале XIX в. одновременно с интересом к нерусским экзотическим народам – «российским дикарям» – начинается осмысление собственно «русскости»; развивается идея культурной самобытности российских крестьян. Их разновидности еще пока не воспринимались как этнические группы, они рассматривались в контексте регионального своеобразия крестьянской российской культуры. Характерным примером смены ракурса может служить история изданий «Описания народов» И.Г. Георги, немецкий оригинал которого вышел в свет в 1776–1780 гг. Если в первом русском издании (1776–1780) отсутствовал раздел о «владычествующих россианах», то во второе (1790) он не только был включен в полном объеме, но и значительно дополнен фрагментом, превышающим текст Георги (написан М. Антоновским)[136]. Именно в этот раздел вошли, в частности, сведения о поляках.
Европейская философия романтизма XIX в. разрабатывала идеи духовной культуры, стремясь выявить «общий дух» народа (И.Г Фихте) как внесоциального единого организма (И.Г Гердер); влияние немецкой философии и мифологической теории братьев Гримм привело к преобладанию мнения о том, что изучение «своего» народа должно опираться на изучение жизни «простого народа» – крестьянства. Российские последователи Руссо и гегелевского романтизма начала XIX в. идеализировали народ, видя в нем воплощение истинного, незамутненного национального начала. При этом, как подчеркивал Ю.М. Лотман, «тяготение просветителя к человеку из народа определяется тем, что он „такой же", как и „я", а не тем, что „он – другой";… „стать как народ"» – означает измениться, чтобы стать самим собой»[137]. Приобщение к ясности, простоте и естественности народного духа и жизни виделось целью личностного совершенствования, в основании которого лежала идея значимости и ценности каждого отдельного человека.
Параллельно с усвоением комплекса теоретических и методологических установок, с которыми подходили к изучению народов в европейской науке, в русской культуре вырабатывался и другой пласт представлений, связанный с литературными и поведенческими идеалами и канонами. Это касалось, в частности, описаний обычаев и нравов людей, эталоном которых стала так наз. «литература путешествий». Травелоги имели давнюю европейскую традицию, но как сложившийся жанр приобрели осоую популярность в конце XVIII – начале XIX в., когда на него сложилась литературная мода. Ее определяли «Сентиментальное путешествие» Л. Стерна (1768), «Итальянское путешествие» И.В. Гёте (1818–1829), позже – сочинения романтиков (Ф.Р. Шатобриана, А. Ламартина, Г. Гейне). Говоря о «географических» путешествиях того времени – т. е. о дневниках и заметках о реально совершенных путешествиях с познавательными целями, – следует отметить влияние на них данной литературной традиции. Описания малоизученных или вовсе неизвестных земель и народов, содержащиеся в них, сформировали ряд клише, задающих структуру повествования о «другом», определенный канон этих рассказов, а также выбор объектов наблюдения[138]. Сентиментальная литература путешествий, в частности, способствовала складыванию Аркадийского мифа, чертами утопической Аркадии наделялись «плодоносные страны Юга» – в качестве таковых репрезентировались и государства Средиземноморского региона[139], и далекие земли, населенные дикими первобытными народами. В Российской империи ею легко оказывалась Малороссия[140].
Поэтика романтизма – с ее модой на экзотическое, необычное, «чужое», с вниманием к психологическим рефлексиям и с распространением идеи «духа народов» (Volksgeist) – способствовала расцвету жанра путешествий в беллетристике[141]. Описания других земель и их жителей стали весьма популярны у читающей публики, оказав серьезное влияние на формирование образов различных народов – как европейских и восточных соседей, так и экзотических «своих». Этот интерес был продиктован и другими побудительными мотивами: «интерес общества к иным народам… стимулировался назревшей потребностью в собственной этнической идентичности», а «центральное место в общественной мысли занимает проблема национальной самобытности»[142]. По мнению С.Н. Зенкина, культуру романтизма отличает не просто «интерес» к инаковому, а высокая ценность всего отличного, не включенного в систему «своего», поэтому две формы чуждости привлекали к себе особенный интерес: это изображение иностранца, который оценивался по нравственным, а не по культурным критериям, и мода на экзотизм неизвестных культур. Обе эти тенденции нашли выражение в литературе романтизма, способствуя, по мнению автора, формированию предпосылок для «настоящего плюрализма»[143].
П.С. Куприянов, рассматривая описания народов в текстах путешествий начала XIX в., утверждает, что «универсальной, разделяемой всеми концепции этноса» среди путешественников не существовало, но наиболее распространенными оказались две, условно обозначаемые им как «этническая» и «географическая», отличающиеся различной трактовкой понятия «народ»[144]. Первая определяла его как племенную общность, вторая – как территориальную. «Географическая модель» репрезентации этноса явно превалировала в европейских научных народоописаниях и более ранней эпохи – конца XVIII в., поскольку именно пространственный критерий обуславливал предмет и методы описания.
Поиски национальной самобытности в русском образованном обществе после войны 1812 г. не могли не отразиться на актуализации проблемы определения своеобразных черт не только русских[145], но и других народов Империи. Изучение самобытности различных этносов стало в некотором смысле источником интереса к «своему» экзотизму и программным для русского романтизма: «Столько различных народов слилось в одно название русских или зависят от России, не отделяясь ни пространством земель чужих, ни морями далекими. Столько разных обликов, нравов и обычаев представляются испытующему взору России совокупной»[146]. Характерно, что для О. Сомова, автора этих слов из статьи, ставшей программной для русского романтизма, понятия «народность» и «местность» выступают как соположенные, с одной стороны, и как задающие все другие особенности языка и литературы различных европейских народов, с другой[147].
Тогда же – в первой половине века – произошло некоторое разделение объектов этнического изучения или осмысления. Вопрос о народе-нации и народе-сословии (в значении Volkskunde) стал центральным в русской общественной мысли, в особенности в литературной среде. Размышления о «своем» в период романтизма строились в русле идеи «духа народа», которую никак нельзя было «примерить» или соотнести с «чужими» Империи – так как большая их часть не рассматривалась в категориях «народа /нации», поэтому описания других народов / этносов по-прежнему оставались «в ведении» географов и военных. Кроме того, если «этнографические» данные формировались исключительно на основании визуальной информации и методе сравнения, то категория «духа» предполагала обращение к более «тонким» материям – языку, словесности, мифологическим сюжетам, – и, как следствие, апеллировала к иным исследовательским процедурам – анализу, деконструкции и реконструкции. Разделение объектов исследования в первой половине XIX в., таким образом, было обусловлено различением «своего» и «чужого».
Поэтому в исследованиях по истории российской этнографии данный период рассматривается как значимый этап в собирании полевых материалов и издании текстов этнографического характера, но не в эволюции теоретических построений и методологических поисков[148]. Между тем, именно тогда вырабатывался научный лексикон будущей этнографической дисциплины, наиболее важными понятиями которого стали «народ» и «народность».
Народ и народность. В период 1820-1840-х гг. понятия «народ» и «народность», «тип» и «типичность», значимые для выработки категориального аппарата этнографической науки, оказались в центре внимания русской общественной мысли в связи с дискуссиями и размышлениями о национальной самобытности – «русскости». История формирования этих терминов хорошо изучена на материале литературной публицистики и общественной мысли[149], впрочем, с явным преобладанием исследовательского интереса к философско-эстетическим концепциям, поэтому необходимо рассмотреть некоторые тенденции, которые определили бытование этих терминов не только в русской литературой критике и философии, но и в естественных науках данного периода.
В складывании концепции «народности» важную роль сыграло несколько обстоятельств: 1) развитие идей немецкой философии истории и эстетики на русской почве (выражением чего стало, в частности, обсуждение проблемы интерпретации «типа», «типичного» и «народных черт» в искусстве); 2) дискуссии о том, что такое народность и нация, и создание С.С. Уваровым теории «официальной народности»; 3) поиски русской национальной самобытности в широком значении слова. Они в той или иной степени были инициированы научными народоведческими изысканиями и романтической философией, что хорошо понимали те, кто применял и интерпретировал данную категорию[150].
«Специфика национального» развивается в русской культуре под влиянием Гердера; в конце XVIII – начале XIX в. под ней понимается «старинность», «исконность» в широком смысле[151]. Вместе с тем, как отмечает А. де Лазари, после Великой французской революции представление о «народе» наполняется новым содержанием; термин «народ» (а не «нация») может пониматься как «сообщество граждан», как правовой субъект политической жизни.
Впервые, по мнению К. Богданова, слово «народность» в русском языке появляется в 1807 г. в значении «популярность»[152]. В ином значении этот термин впервые употреблен П.А. Вяземским в письме из Польши, где он тогда служил, к А. Тургеневу (1819), в котором «народность» обозначалась им как калька с польского «narodowo» (nationalit)[153]. В письме 1824 г. Вяземский указывал, что «слово народный отвечает двум французским словам: populaire и national»[154]. Он понимал ее как «проявление в литературе национального духа, выражение которого он видел в насыщенности произведения местными (национальными) чертами и красками»[155].
В польском языке слово «narodowo» появилось раньше, но центральной идеей польской историософии и культуры становится именно в эти годы – в том числе и благодаря литературно-философским трудам польского поэта и литературного критика К. Бродзиньского, который развил и популяризировал данное понятие[156]. Хотя оно и переводится как «национальность», но имеет некоторые значимые смысловые нюансы[157]. Его употребление в польском языке начале XIX в. еще не установилось окончательно, но различные варианты интерпретации объединяло отождествление народа и нации. Чаще всего под «народностью» (narodowo) подразумевались специфические черты культуры, этническая самобытность, традиции, национальный характер, мифы и предания. В частности, в словаре польского языка СБ. Линде (1808) «narodowo» определялась как «особенность, которая отличает один народ от другого»[158].
Как указывают российские исследователи, в России полемика вокруг «народности» в литературе началась в первом десятилетии XIX в. – т. е. еще до появления самого русского термина. В центре ее находился вопрос об идеальном образе народа, а также интерес к национальным обрядам и обычаям, существовавшим в славянском прошлом[159]. Из всего спектра сходных значений следует упомянуть отождествление «национального характера» и «народной образованности»[160].
Проникновение термина «народность» и его употребление в русском языке 1820-30-х гг. тесно связано с романтизмом[161], хотя содержание его имело некоторые особенности и даже явные отличия в различных литературных направлениях. Можно констатировать, что в русском языке «народность» с самого начала своего бытования обрела двойное значение в соответствии с пониманием слова «народ» (как «нация» и как «простой народ»)[162]. Однако еще в 1826 г. A.C. Пушкин в черновом наброске «О народности в литературе» сетовал на то, что при активном употреблении данного термина «никто не думал определить, что разумеет он под словом народность», и трактовал «народность в литературе» как «образ мыслей и чувствований», который «более или менее отражается в зеркале поэзии»[163]. Важно отметить, что и в русском, и в европейском романтизме (в частности, французском) народность понималась как отражение «народного духа» в его внутренних свойствах и во внешних проявлениях.
«Свой» как субъект народности: «физиономия» и «дух». Иногда, впрочем, эти внешние приметы заменяли внутренние качества, порождая так называемый «романтический этнографизм», который по отношению к российским сюжетам вполне справедливо можно именовать «протофольклористическим освоением крестьянской территории» (К. Богданов)[164]. В этих довольно многочисленных (и, кстати сказать, популярных) произведениях предметом художественного изображения стал образ жизни народа в узком смысле слова – русского (т. е. великорусского, малорусского и белорусского) крестьянства, мещанства, купечества. Под влиянием романтической эстетики «дикая» или не освоенная человеком природа окраинных земель легко «переписывалась» в литературе в новом качестве, а коренные жители наделялись патриархальными добродетелями не испорченного цивилизацией народа. Весьма значительная часть этой литературы изображала малороссийский и казачий быт[165], кавказскую экзотику[166]. Ориентальные мотивы российские пространства «поставляли» еще до завоевания среднеазиатских территорий. Была в Империи и своя «русская Шотландия», каковую воплощала Финляндия[167] и Аркадия сибирского изобилия[168]. Эти «чужие» пространства населяли «благородные дикари», пребывающие в состоянии детства, чье нравственное и общественное состояние находилось в согласии с природой[169].
В этом ключе весьма значимо – и характерно для романтической эпохи – стремление отождествить с детьми и собственное русское крестьянство (как находящееся на сходной с «дикими народами» ступени цивилизационного развития). И.В. Киреевский утверждал, что «у нас искать национального значит искать необразованного»[170]. Метафора «добрые наши детки мужички» часто встречается в русской литературе и критике 1820-30-х гг. Ее популярность принято объяснять обращением к теме народа на волне патриотизма и роста национализма[171]. Она, как показывают примеры и способы использования[172], является бесспорным аргументом в пользу того, что «само русское крестьянство представляло собой иной вариант образа „чужих"»[173], именно поэтому «свой» описывался как «чужой», как туземец – путешественником[174]. Некоторые исследователи усматривают в этой принадлежности крестьянства к миру природы, его пребывании в «детстве культуры» истоки властного патернализма[175], но так или иначе именно такое отождествление создало основания – в свете освоенной российской элитой руссоистской доктрины – для идеализации «русского мужика».
Хотя романтический этнографизм зачастую отрицательно оценивался так наз. «передовой» критикой, он играл важную роль в формировании представлений о широко понимаемой народности. Столь же этнографически ценными оказывались и сочинения с экзотическим колоритом, пьесы «из народной жизни», поскольку их авторы передавали как собственные реальные впечатления, так и воспроизводили ожидаемые публикой клише. Изображение внешних примет народной жизни часто становилось главным содержанием этих произведений: в них включались собственные этнографические наблюдения и авторски переработанные фольклорные тексты, что формировало круг образов «другого», в которых народность приравнивалась к этнографичности.
Иная трактовка народности в литературе предлагалась любомудрами, разрабатывавшими концепцию народности как отвлеченную идею, как важнейшее понятие, выражающее национальный дух и основания исторической жизни народа[176], хотя отождествление народности и национальности вызывало у них резкое неприятие. Так, И.В. Киреевский в 1832 г. писал: «Стремление к национальности есть не что иное, как непонятное повторение мыслей чужих, мыслей европейских, занятых у французов, у немцев, у англичан и необдуманно применяемых к России»[177], – такова была реакция на использование слова «народность» в качестве русской кальки французского «nationalit».
В контексте исследования лексикона этнографической науки важно обратить внимание на взаимосвязь понятия «народность» и словосочетания «физио(г)номия народа». A.C. Пушкин не сомневался в том, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию»[178]. Те же факторы и обычаи расценивал как составляющие «физиономию народа» В.Г. Белинский[179]. «Физиономия» народа трактовалаь как оригинальность культуры[180], неповторимая индивидуальность, часто объяснялась через категорию «души» или «духа народа»: «особенная идея и… есть душа народа»[181]. Еще один шеллингианец – Н.И. Надеждин – в рассуждениях о природе общечеловеческого и национального (1837) также обращался к понятию «народной физиономии» и интерпретировал ее как народный характер: «Различие народов состоит во множестве частных оттенков одной и той же природы человеческой, которых совокупность составляет так называемую народную физиономию, или, в более тесном значении, относительно только внутренних, духовных свойств, народный характер»[182]. Следует заметить, что и в польском языке термин «narodowo» означал «лицо народа». Например, в лексиконе К. Бродзиньского «narodowo» обозначалась как совокупность свойств, составляющих «индивидуальное лицо народа»[183].
Итак, словосочетание «физиономия народа» получило не только иносказательный смысл – как «характер лица или предмета»[184], оно приобрело пусть метафорическое, но терминологическое значение. Впоследствии оно будет использоваться в литературе о народе и для народа. Таким образом, «народная физиономия» выражала народное / национальное своеобразие, концентрировала в себе характерные качества внешности, поведения, обычаев этнической группы, отличающие его от других народов. Духовные же свойства получили аналогичное воплощение в национальном / народном характере. К этой интерпретации народного характера мы обратимся позже.
Постепенно понятие «народности» обретало оригинальные оттенки, в первую очередь в публицистике и литературной критике. Оно функционировало главным образом в двух значениях: как совокупность характерных черт народа и как отражение этих отличительных свойств в ком-либо или в чем-либо[185]. Полемика вокруг отражения «истинной» народности в искусстве вслед за Вяземским и Пушкиным была продолжена H.A. Полевым, A.A. Бестужевым-Марлинским и П.А. Плетневым, чуть позже – В.Г. Белинским, которые интерпретировали «народность» в более широком смысле. Однако следует подчеркнуть, что уже на этом этапе понимание народности осуществлялось через выделение «типических» черт.
Народность в развитии: национальность. Шеллингианские идеи, разделявшиеся членами кружка Н.В. Станкевича, также повлияли на видение народности в литературе[186]. Белинский, в частности, настаивал на том, что «народность» выражается не в темах, а в национальном «сгибе ума», в «русском образе взгляда на вещи»[187]. Он отождествлял «народность» с «самобытностью»[188] и разграничивал значения слов «народность» и «национальность», определяя их через соотношение видового и родового понятий[189], неоднократно подчеркивая их зависимость от первичных смыслов «народ» / «нация»: «Под народом более разумеется низший слой государства, – нация выражает собою понятие о совокупности всех сословий государства. В народе нет нации, но в нации есть и народ» (1841)[190]. Кроме того, Белинский объяснял народность и национальность через эволюцию: народность «есть первый момент национальности», она связывается им с состоянием патриархальности – «состояние в государстве естественной непосредственности», а отделение народа «от бар и бояр» означало его «взросление» – превращение в «нацию»[191]. Метафора детства и зрелости, как видим, по-прежнему активно использовалась для обозначения исторической динамики общественного организма. Белинский, впрочем, разводил «общество» и «народ», и если первое могло претендовать на то, чтобы быть нацией, то только второй, по его мнению, воплощал «народный дух». Важно подчеркнуть, что как «народность» выражала определенную стадию развития и состояние народного духа, так и «национальность» означала сложившиеся свойства нации. «Национальность», таким образом, выступала не как синоним «нации», а как качество ее формы.
Рассматривая соотношение народности и национальности в 1830-40-х гг. XIX столетия, необходимо упомянуть работу К.Н. Лебедева[192]. П.Н. Милюков оценивал ее как важный «показатель той совокупности идей, которая пущена была в общий оборот шеллингизмом»[193]. Лебедев разделял взгляд на народность и национальность как разные этапы жизненного цикла народа, движущей силой этого развития он считал совокупность природных и исторических обстоятельств: «физико-географические условия» во взаимодействии с психическими особенностями народа порождают разнообразие «местных историй», «итогом» которого «будет национальность»[194]. Национальность – это и дух народа, и его характер, это – «родимое пятно народа, в котором запечатлен его рок для отличия от других», «сознание нации» и «идея нации». Выражение сознания нации он видел в языке[195]. И Лебедев, и Белинский признавали существование национального характера народа, которое критик называл «ролью, назначенной провидением»[196]. При почти дословном сходстве дефиниций народности Белинского и Полевого, второй отказался от термина «национальность». H.A. Полевой выделял две «разновидности» и стадии «народности» – «детский возраст каждого народа», когда формируется его самобытность[197], и второй, высший ее этап – «государственность», создающуюся естественным путем. Таким образом, не вводя термин «национальность», историк, в сущности, сформулировал различие этнического («народность») и национального («нации» как единого организма в рамках империи).
Такая трактовка «народности» и «национальности» как ее соответствия на более высокой ступени развития позволяет предположить, что содержание понятия «народность» оказывалось довольно близким к современному значению термина «этничность» (в его общем значении) – как этнической и культурной отличительности[198].
Народность в уваровской триаде. Несколько сложнее, как показали новейшие исследования, обстояло дело с содержанием понятия «народность» в уваровской «триаде» (1833)[199], которая была названа А.Н. Пыпиным «теорией официальной народности». Именно третий элемент этой формулы, давший это наименование концепции, казался исследователям на протяжении XX в. ее наиболее «мутной частью»[200]. А.И. Миллер объясняет это новизной термина и общим характером всякой конструкции, связанной с официальной идеологией[201]. На наш взгляд, такое прочтение вызвано еще и тем, что термин для последней трети XIX в. представлялся вполне адекватным, но наш анализ его содержания и смысловых коннотаций (в 1830-1840-х гг. и в пореформенный период) показывает происходившие в нем изменения в области значений и в сфере применения. Следовательно, различные трактовки и вызванная этим неопределенность может быть истолкована как результат адаптации в общеязыковом и в научно-дисциплинарном дискурсе.
По мнению А. Зорина, основным источником уваровской концепции были лекции и сочинения Ф. Шлегеля, «в основе политических взглядов которого лежала идея нации как целостной личности, единство которой основывалось на кровном родстве и закреплено общностью обычаев и языка»[202] (при этом он разделял этнос («расу») как естественную общность и нацию как политическое образование, возникающее на его основе). Впочем, нельзя забывать и о том, что Уваров в 1801–1803 гг. слушал курс в Геттингенском университете, где тогда еще преподавал А.Ф. Шлёцер, отождествлявший народ и этнос в качестве предмета этнографического исследования. Вынужденный учитывать российские реалии Уваров, «объявил краеугольными камнями русской народности… господствующую церковь и имперский абсолютизм»[203]. Так он объяснил каждый из элементов триады через два других. Создается впечатление, что Уваров никак не «откликнулся» на уже сложившееся в русском языке, хотя и противоречивое, но вполне определенное, понимание народности.
И H.A. Надеждин, и П.А. Плетнев (часто именуемые глашатаями уваровской доктрины) вполне разделяли идею о том, что существует явная взаимообусловленность между формой государственного правления, конфессиональной принадлежностью и этнокультурной самобытностью. Так, H.A. Надеждин писал, что «только история народа русского могла открыться повествованием о добровольном предании… под спасительную власть единодержавия»[204], «в основание нашему просвещению положены православие) самодержавие и народность. Эти три понятия можно сократить в одно, относительно литературы. Будь только наша словесность народною; она будет православна и самодержавна!»[205]. Однако это замечание Надеждина, часто служащее подтверждением его единомыслия с С.С. Уваровым, не являлось, как мы покажем далее, единственным или наиболее значимым в ряду его интерпретаций «народности». Неопределенность уваровской «народности» может – высказываем это в качестве предположения – свидетельствовать о том, что значение этого понятия в его употреблении близко по смыслу к «физиономии народа» – именно так понималось оно в то время в наиболее распространенном варианте трактовки.
Отражения народности: Н.И. Надеждин. Проблему нации и народности Н.И. Надеждин рассматривал в двух дискурсах: в контексте литературной эстетики и применительно к этнографии империи[206]. Нам представляется важным более подробно рассмотреть эти два аспекта в творчестве и мировоззрении автора, поскольку его позиция обычно, в зависимости от точки зрения и специализации исследователей, освещается в каком-либо одном ключе. Между тем, вполне справедливо утверждение о том, что ссылка Надеждина оказалась важным рубежом не только в его судьбе, но и в эволюции его взглядов[207] – в том числе и на народность.
В 1830-х гг. Надеждин разделял взгляды Пушкина и Белинского на народность как выражение духа народа, в том числе и в его обычаях и нравах. В работе «О современном направлении изящных искусств» (1833) издатель «Телескопа» впервые высказал некоторые соображения, которые много после, уже в 1840-х, развил в программе этнографических изысканий. В частности, он связал понятие «народности» с естественностью, требуя «от художественных созданий полного сходства с природою»[208]. Под народностью Надеждин понимал «то патриотическое одушевление изящных искусств, которое, питаясь родными впечатлениями и воспоминаниями, отражает в своих произведениях родное, благодатное небо, родную святую землю, родные драгоценные предания, родные обычаи и нравы, родную жизнь, родную славу, родное величие», подчеркивая – как и все те, кто рассуждал о первопричинах формирования этнонациональной самобытности до него – «связь духа с природою».
Обращает на себя внимание последовательность в перечислении объектов действительности, на которых следует сконцентрироваться для полнокровного выражения народности. Во-первых, в основе его лежит личный опыт и эмоции художника (впечатления и воспоминания), роднящие его с представителями его народа. Далее следуют природные объекты (небо и земля) и святыни (святая земля). Затем речь идет о преданиях – т. е. исторических памятниках в широком смысле слова, ибо предания могут быть запечатлены и в фольклоре, и в летописях, – учтены также обычаи и нравы. Завершает перечень воплощений народности «слава и величие» (вехи исторического пути, свершения и герои), жизнь (быт) народа. В сущности, перед нами в свернутом виде не только зафиксированная сфера выражения народности в искусстве, но и своеобразная ее дефиниция, и программа ее изучения. Хотя задачи этой статьи ограничивались лишь одной областью – художественной, но весьма показательна метафорическая трактовка понятия.
В статье «Об исторической истине и закономерности» (1837) Н.И. Надеждин вновь обратился к проблеме народности, на этот раз в центре его внимания находился вопрос о соотношении ее с народным характером[209]. Интерпретация Надеждиным воздействия природных факторов на характер народа мало чем отличалась от объяснений Ш. Монтескье (люди «роскошной природы» ленивы и сладострастны, бедный натуральными ресурсами край формирует бодрых и предприимчивых), но он несколько детализирует эту зависимость, акцентируя генетический фактор: при длительном проживании народа в определенных условиях выработанные им качества передаются по рождению, даже если он переселяется в другую местность. Использовал Надеждин и известную просвещенческую и романтическую метафору, уподобляющую исторические циклы этапам человеческой жизни, при этом детство русского народа – в полном соответствии с романтическими трактовками – расценивал как залог будущего расцвета, когда цивилизационное несовершенство видится достоинством «детской чистоты»: «…мы дети, и это детство есть наше счастье. С нашей простой, девственной, младенческой природой, не испорченной никакими предубеждениями… можно сделать все без труда, без насилия: из нас, как из чистого, мягкого воска, можно вылепить все формы истинного совершенства»[210]. Здесь уместно напомнить этапы развития народности по Белинскому, которые были сформулированы им в категориях взросления[211].
Разбирая вопрос об «очевидном различии человеческой природы в разных народах», Надеждин призывал сформулировать это различие в «определенных, ясных понятиях»[212]. Как и шеллингианцы, он утверждал, что общепринятое основание «этнографического разделения» народов – это язык, представляющий собой «самое резкое и… прочное клеймо народной самобытности». «Но не язык один составляет отличительную черту народной физиономии», – продолжал он и перечислял другие: «образование тела, преимущественно лица», «особые отливы животного темперамента» и «особое сложение духовного организма». Последний, в свою очередь, производит «особенности в приемах ума и в движениях воли»[213].
Самобытность народа (т. е. народность) выражена, по его мнению, в следующих признаках: язык, внешний облик, врожденный темперамент и духовный строй (от которого зависит ум и воля). Далее Надеждин предлагал условную, но подтверждаемую примерами классификацию темпераментов (например, живые и воздержанные), умственной деятельности (смышленые и тупые, глубокомысленные и мечтательные). В этом перечне Надеждин относил к формам проявления интеллекта хозяйственную деятельность (искусство, науки) и «волю или собственно характер» (суровость, добродушие). Данная схема должна была служить подтверждением, что «этнографическая основа» жизни каждого народа может подвергаться внешним влияниям в процессе «сообщения» с другими народами.
Надеждин создал довольно четкую и по-своему стройную систему вопросов, ответы на которые выявляли отличительные признаки каждого этноса (причем с возможными вариантами); в ней та неуловимая сущность, которая именовалась народностью, и еще более неопределенный «народный характер» приобрели более конкретные формы. Сам Надеждин подчеркивал логическую стройность своей системы и обосновывал комплексный характер перечисленных им признаков в пространственных категориях: «Все эти начала должны быть употребляемы совокупно, как данные, неподвижные точки при измерениях неизвестного пространства. Я беру реку (времени) как географическую ландкарту, этнографическое разделение народов буду называть долготою, хронологическую последовательность времени широтою… так и историческая бытность факта определится для меня с такой же несомненной точностью широтою и долготою его на реке времен»[214]. Эта задача, как видим, адекватно отражает идею уподобления человеческих сообществ объектам изучения ученых-естествоиспытателей. Стремление выявить точные координаты этнокультурного своеобразия народа, поместить его в определенную классификационную «таблицу» – характерная примета научного мышления предшествующей эпохи («познание эмпирических индивидов может быть достигнуто в классическом знании лишь в непрерывной, упорядоченной и обобщающей все возможные различия таблице»[215]). Эта метафора может служить важным основанием для теоретических размышлений об исследовании народности в качестве предметного поля этнографии: расчленение ее на универсальные составляющие и разъятие на этапы эволюции. Тем значимее она в рассуждениях Н.И. Надеждина, целью которого в этой работе было установить главное содержание истории народов (в значении наций).
О прошлом народности: К.Д. Кавелин. Историк и правовед К.Д. Кавелин вошел в историю русской этнографии как автор новаторских идей, касающихся методов исследования русской народности по этнографическим сведениям о народном быте и нравах; его считают основоположником социальной (в том числе и этнической) психологии в России[216]. В сочинениях 1840-х гг. он предлагал изучать русскую народность (он также употреблял слово как синоним понятия «национальность») не только в синхронии (однородные явления у разных народов), как делалось чаще всего, но и в диахронии, устанавливая общие закономерности психической жизни народа в разные эпохи его исторического бытия. При этом признавал, что понятие народного «духа» неуловимо, непередаваемо, оно – то «чисто духовное, чем один народ отличается от другого»[217]. В рецензии на сочинение А. Терещенко «Быт русского народа» (1847), К.Д. Кавелин поставил вопрос об эволюции крестьянского общества, которое для Терещенко было неизменным и сложившимся социальным и этническим организмом.
Рассмотрение Кавелиным складывания русской народности осуществлялось по стандартным схемам и привело к выводам, схожим с мнением Белинского и Полевого, с тем только отличием, что главным свойством народности на этапе ее высшего, «духовного» развития (сменяющего господство внешних форм) Кавелин считал нравственность народа[218]. Поэтому Кавелин весьма критически отозвался об идеализации морали древних славян, доказывал общность этих добродетелей для всех народов в первобытном состоянии. Он доказывал, что формирование крестьянства как сообщества происходило на протяжении длительного времени и потому его подверженность изменениям, влияниям необходимо учитывать и исследовать: «Наши простонародные обряды, приметы и обычаи, в том виде, в каком мы их теперь знаем, очевидно, сложились из разнородных элементов и в продолжение многих веков», – и потому «…представляют самый нестройный хаос, самое пестрое, по-видимому, бессвязное, сочетание разнороднейших начал»[219]. Систематизировать их в том «хаотичном» виде, как полагал Кавелин, невозможно, а потому нужно «разобрать» эти «напластования» по эпохам. Ученый, таким образом, предлагал применить к этнографическим данным принципы исторического анализа и одним из первых предложил рассматривать этнографию в связи не с географией, а с историей: «Описать свойства народа значит написать его историю»[220], – заявлял он в этой же работе.
К.Д. Кавелин призывал корректно описывать категорию «дух народа»: «Народ представляет такое же органическое существо, как и отдельный человек. Начните исследовать нравы (народа. – М.Л.), обычаи, понятия, и остановитесь на этом, вы ничего не узнаете. Умейте взглянуть на них в их взаимной связи, в их отношении к целому народному организму, и вы подметите особенности, отличающие один народ от всех прочих»[221]. Историк, таким образом, призывал не ограничиваться описанием народности, а видел большую эффективность в обращении к функциональному подходу, к анализу народной самобытности.
Он был одним из тех, кто в 1840-50-е гг. наряду с другими сотрудниками этнографического отделения Русского Географического Общества (РГО) анализировал и систематизировал собираемые волонтерами материалы по русской этнографии. Именно в этот период он сформулировал и обосновал свое видение методов изучения народности как этнической самобытности, главным из которых стала мысль о возможности «объективного» метода изучения отличительных особенностей народа по памятникам культуры, фольклору, верованиям – по «плодам духовной жизни». Ему же принадлежит идея о том, что для определения своеобразия юридического быта русского народа необходимо ответить на вопрос, «как крестьяне понимают отношения между собой и к другим»[222]. Он первым обозначил не только важность взгляда самого носителя «народности», но и необходимость фиксации его представлений о самом себе изнутри. Впрочем, его идеи явно опередили время – последователи у Кавелина появились лишь в 1870-х гг.
Таким образом, спектр интерпретаций «народности» сложился к середине XIX столетия. Доминирующими среди них были представления о народности как «этнографизме» в искусстве, как форме выражения этнонациональной русской самобытности, воплощаемой либо одним (крестьянство), либо всеми сословиями (нация). В центре полемики вокруг содержания этого термина находились не особенности «русского духа», а вопросы исторического пути российского государства и связанные с ними поиски роли и значения крестьянства в репрезентации национально-имперского своеобразия. Новаторский на этом фоне взгляд на сущность и методы исследования русской народности К.Д. Кавелина оказался столь оригинальным, сколь и не принятым.
К середине XIX в., как видим, сложилось два направления, два вида интерпретации предмета народоведения, которые можно условно обозначить как «естественнонаучное» и «философское». Первое сформировалось под влиянием немецкой науки (различие Volkskunde и Vlkerkunde) и при участии немецких ученых. К ним восходит географический (географо-статистический) принцип описания Империи, здесь народ (этнос) воспринимался как неотъемлемый элемент природного геополитического пространства. Жесткие критерии этнической принадлежности окончательно выработаны не были. Наиболее важными казались язык, внешний облик и нрав народа. Особенности складывания научных школ в России этого времени привели к тому, что существовавшие образцы этнических характеристик применялись прежде всего к нерусским народам Империи.
Вторая тенденция в развитии народоописания была связана с появлением в русской лексике и общественной мысли понятия «народность» и с полемикой о его содержании. Общепризнанным стало заключение о невозможности дать дефиницию народности: «Национальность – слово глубочайшего значения, слово нашего времени, которое все знают, все чувствуют, но которое можно только чувствовать, а не определить»[223]. И хотя можно говорить о том, что четкого и, что важнее, однозначного определения понятие не получило, его значения, тем не менее, поддаются реконструкции.
Оформившись в качестве русского эквивалента «национальности», «народность» изначально имела двойственное значение: с одной стороны, выражала российскую национальную (государственную) самобытность, а с другой, сводила ее к адекватному выражению регионального или этнического экзотизма,исходя из отождествления народности с простонародностью. Рассуждения о народности / национальности сопровождались разработкой критериев «истинности» ее носителя. Она осмыслялась прежде всего в связи с проблемой русской (в значении восточнославянской группы племен) идентичности. Это обстоятельство привело к тому, что поиски русской «народности» могли осуществляться и в сфере «духа» народа, и в области выявления узнаваемого визуального и вербального образа, воплощавшего «физио(г)номию народа». Однако жесткая социальная формула «народа» еще не сложилась.
Глава 2
Обнаружить народность: дух и тело
Очень велика должна быть путаница мысли, когда с научными приемами хотят найти реализацию высшего единства, одним реальным выразить множество реальностей или отвлечений.
Д.И. Менделеев[224]
§ 1. Народность: дефиниции
Народность в 1840-50-х гг. – в полном и дословном соответствии с определением Надеждина – понимается как выражение и специфика «народного духа» и (или) антропологических черт. В словаре церковнославянского и русского языка (1847) «народность» определяется как «совокупность свойств, отличающих один народ от другого»[225], в словаре 1864 г. так же – «совокупность всех физических и нравственных особенностей, отличающих один народ от всех других одного племени»[226]. К.А. Богданов, анализируя содержание понятия «народность» в российской публицистике и литературе 1830-1840-х гг., справедливо оценил его как не соответствующее всему предшествующему дискурсу[227]. Это верно применительно к эволюции термина в литературной критике, однако уже в середине 1840-х он начинает функционировать именно в новом – т. е. «этнографическом» значении, и в этом случае указанная интерпретация вполне отражает его внедрение в научную сферу.
Словарь 1864 г. относит к народности также «темперамент, характер, язык, степень умственных дарований и физической ловкости, нравы и обычаи, религию»[228]. Показательно и ясно сформулированное различие между «народностью» и «национальностью»: народность «…отличается от национальности совершенным отсутствием примеси чужих элементов и тем, что предшествует ей»[229]. Таким образом, зафиксированное ранее – в 1840-50-х гг. представление о двух этапах народности как выражении степени ее «зрелости» закрепляется в словаре 1864 г. как устоявшееся.
Следует подчеркнуть, что народность понимается и как предшествующая национальности в стадиальном отношении, но не являющаяся этапом складывания нации (в привычной для советской схемы последовательности народ – народность – нация), поскольку трактовка и «народности», и «национальности» подразумевает комплекс отличительных свойств, т. е. качественную характеристику. Значения обоих понятий в этом словаре разъясняются взаимной ссылкой: «национальность – то же, что народность, но уже развитая, принявшая в себя общечеловеческие черты и элементы, и поэтому менее резко наружно разнящаяся от других национальностей, но зато более глубокая, чем народность, проникающая общечеловеческие элементы и черты»[230]. «Отсутствие примеси чужих элементов» не означает, как очевидно из определения «нации», изначальной моноэтничности народа, но связано с частичной утратой отличительно-особенных, этнодифференцирующих черт и приближением к наднациональному, т. е. универсальному (общечеловеческому – в терминах эпохи) цивилизационному статусу. Такое понимание национальности опирается на европейское понимание «нации».
Народность как этнографический объект. Представления о взаимодействии человека и природы, содержащиеся в географических трудах, активно воздействовали на этнографическую теорию и практику. Нерасчлененность, неразрывность – формальная и содержательная – этнографии, географии и антропологии привели к тому, что многие ученые занимались изучением вопросов, находящихся на стыке этих весьма различающихся сегодня наук. Поэтому основные термины и их трактовку этнография заимствовала из естественных и других дисциплин (истории и фольклористики прежде всего). Точнее, однако, было бы говорить не столько о заимствовании, сколько о развитии понятийного аппарата этнографии внутри двух отраслей знания – наук о природе и человеке. Для российского ученого K.M. Бэра еще в 1840-х гг. история и география, с одной стороны, и антропология, с другой, представляли собой малодифференцированное единое пространство отраслей.
Институциональное оформление этнографическая наука в России получила в 1845 г., с созданием Императорского Русского Географического Общества[231] (ИРГО, РГО), одним из его структурных подразделений стало Отделение этнографии. Так с момента своего организационного оформления этнография стала частью географической науки. Это во многом определило термины и понятия, круг задач и теоретические построения еще складывающейся дисциплины. РГО создавалось специально для завершения каталогизации ресурсов Империи, начатой столетием ранее. Сочетание географии, статистики и народоведения в едином предметном поле вполне закономерно: географо-статистические описания в Европе начиная со второй половины XVIII в. осуществлялись именно как комплексная репрезентация.
Уточняя задачи этнографических исследований в России, один из инициаторов создания РГО – Ф.П. Литке – пояснял их следующим образом: «познание разных племен со стороны физической, нравственной, общественной и языковедения, как в нынешнем, так и в прежнем состоянии народов»[232]. Таким образом, значение этнографической работы ограничивалось прикладными задачами и рассматривалось в том же ключе, что и в немецкой науке – как часть общей программы описания страны с географо-статистической точки зрения.
В 1846 г. были выдвинуты две программы этнографических исследований РГО. Одна принадлежала первому руководителю его этнографического отделения K.M. Бэру. В докладе «Об этнографическом исследовании вообще и в России в особенности» он так определил задачи новой дисциплины: необходимо изучить «физические свойства народа, умственные способности его, религию, предрассудки, нравы, способы к жизни, жилище, посуду, оружие, язык, поверья, сказки, песни, музыку и проч.»[233]. Он понимал предмет этнографии как антропологию в широком смысле и вне истории[234] – в прикладной плоскости, с акцентом на изучении нерусских народов Империи[235]. K.M. Бэр придерживался так наз. «немецкого направления» в российской науке, продолжавшего традиции академического исследования (в том числе и народов) в их просвещенческой трактовке. Ученый разделял европейские воззрения на роль государства в развитии науки и ее цивилизаторские функции. Вполне естественно, что задачи дисциплины он определял, исходя из понимания этнографии как «Vlkerkunde», что отражало представление об особенностях «строения» и задачах каталогизации ресурсов имперского организма.
Хотя план исследований народов Империи еще не стал формализованной программой описания, значима последовательность перечисленных элементов: на первое место Бэр ставил антропологические особенности и умственные качества, далее – вероисповедание, суеверия и нравы, после – «материальную культуру» и лишь затем язык и фольклор. Это позволяет предположить: то, что позже получило наименование «духовной культуры», не являлось для него решающим в описании народов, которые по большей части относились к «нецивилизованным».
Иное видение предмета этнографического изучения в рамках РГО обосновал Н.И. Надеждин[236] в докладе «Об этногафическом изучении народности русской»[237]. В отличие от Бэра, он предлагал сконцентрироваться на исследовании русских народов, под которыми в ту эпоху понимались восточные славяне (великорусы, малорусы и белорусы) – иначе говоря, Надеждин разделял представление об этнографии как «Volkskunde». Логика его рассуждений, как показал в своей работе Н. Найт, диктовалась идеей о том, что народы, более других затронутые воздействием цивилизации, быстрее теряют свои традиции и этническое своеобразие, поэтому необходимо начинать изучение именно с них. Найт рассматривает эти две концепции этнографии как, во-первых, проявление «столкновений в конфликте между немецкой и русской фракциями» в РГО и, во-вторых, как выражение «противоположного понимания места народности в науке»[238].
Исследовательская программа. В своей статье о задачах российской этнографии Надеждин выстроил программу этнографических исследований, главной целью поставив изучение «народности русской». Но трактовка народности в этой работе несколько отличалась от его прежних взглядов на содержание данного термина. Такое расхождение вовсе не связано с тем, что теперь термины «народ» и «народность» стали для него синонимичными, хотя в современной историографии бытует мнение, что «народностью» он называл «этнос»[239]. Надеждин разделял эти понятия: «…„народы” составляют предмет, которым ближайше занимается, а описание „народностей" есть содержание, из которого слагается этнография»[240]. Иначе говоря, под «народом» Надеждин понимал объект этнографического изучения – т. е. этнос. При перенесении наименования «народ» на другие этнические группы Российской империи, в том числе и «первобытные», он принимал смысловые значения «этноса» и применялся с некоторыми уточнениями («туземный», «дикий») или без них. Определение народности в ее новом, прикладном качестве соответствовало прежним воззрениям автора: «Под народностью я разумею совокупность всех свойств, наружных и внутренних, физических и духовных, умственных и нравственных, из которых слагается физиономия… человека, отличающая его от всех прочих людей»[241]. «Народность» – выражение духа народа, «живописание отечественных обычаев и нравов», «народного характера»[242]. Таким образом, соотношение народа и народности у Надеждина близко к современному различению этноса и этничности.
Понимание народности Надеждиным в 1847 г. приобрело и некоторые новые смысловые оттенки в сравнении с его работами 1830-х гг. Наиболее существенные отличия вызваны прежде всего общим контекстом рассуждений: статья посвящена предмету и задачам российской «этнографии как науки», но в центре внимания автора находится один – «русский» – народ. Поэтому народность, о которой Надеждин рассуждал в значении эстетической категории, применяемой прежде всего к анализу объекта художественного описания, теперь становится объектом научного изучения. Если ранее Надеждин рассуждал об адекватной форме выражения «народной» жизни в литературе, то теперь перед ним стоял вопрос о том, существует ли народность в реальной действительности и как «разложить» ее на составные части, которые можно описать языком науки.
Н. Найт, сравнивая позиции Бэра и Надеждина, приходит к выводу о том, что их разногласия – в «идее нации как органической целостности», разделяемой Надеждиным, но «не замеченной» Бэром, а также в их «интеллектуальном прошлом и национальном происхождении»[243]. Мы полагаем, что представления Бэра и Надеждина формировались в сфере различных мировоззренческих установок не только национального или научного свойства.
Надеждин попытался объединить две разнородные тенденции: выработанные признаки и методы описания «чужих» народов XVIII в. (связанные с просвещенческим представлением о внешних, физических проявлениях отличительных свойств «примитивных» народов, существующих как часть мира природы) со сложившимися трактовками «своего» (при всей разноречивости в них преобладала романтическая идея национального «духа», выработанного историей). Сочетание «видимого» тела (природы) с «невидимой» субстанцией духа (истории), нуждавшейся в реконструкции, не только осложнило концепцию «народности», но неизбежно вело к переосмыслению всех ее компонентов даже при сохранении прежнего терминологического комплекса.
Надеждин признавал этнографию «ровной, близкой и соответственной» географической науке и подчеркивал их родство: обе они, по его мнению, являются описательными дисциплинами. «Народность», таким образом, становилась, во-первых, объектом научного изучения, а не критерием обозначения тематического, жанрового или стилевого характера произведения искусства – в этом качестве она должна обладать вполне конкретными формами выражения и способами сохранения. Во-вторых, «народность» обретала совокупность конкретных и четко определяемых «свойств» – качеств и признаков, но не всех, а лишь отличающих народы друг от друга. Сам их «набор» не был оригинален, но его компонентам присвоен научный статус – и именно это придавало «народности» значимость научного объекта. Но если сравнительный метод в прежних этнографических описаниях (например, у Георги), предполагал выявление наиболее ярких особенностей народа через произвольное сопоставление, то в программе Надеждина предварительные сравнительные процедуры имели целью отделить собственно этническое – «чистое» начало, не замутненное внешними и разновременными влияниями соседних «отраслей» (родственных восточнославянских). Сравнение Георги допускало использование категории известное / незнакомое, а компаративный метод критического отношения к эмпирическим данным Надеждина предполагал наличие точных критериев – признаков этноса.
Еще одной немаловажной методологической посылкой Надеждина стало разделение функций «собирателей» («описателей») и их «критиков». Он полагал, что заниматься собственно анализом и систематизацией данных (полученных с помощью разработанной РГО под его руководством инструкции) должны не «собиратели», а другие исследователи; их задача – на основании изучения всего комплекса материалов выявить признаки, присущие «первобытной, основной, чистой, беспримесной русской натуре», и те черты, которые развились в ней в результате влияния соседей и завоевателей. Позже, в 1870-90-е гг., это требование Надеждина станет одним из принципиальных аргументов для разделения этнографии и этнологии – как двух разновидностей и этапов этнографического знания: первая ограничивалась сбором материалов по отдельным народам, вторая – исключительно анализом и сравнением данных по всем уровням этнической классификации[244].
Принципиальным отличием народности в этнографической концепции Надеждина от народности в его эстетической трактовке стало не только возведение ее в степень научного объекта, но прежде всего понимание ее в значении качественной характеристики этноса – именно это стало основанием различения понятий «народ» и «народность». Поэтому содержание «народности» у Надеждина, как и в русской научной терминологии XIX в. после него, не имело ничего общего с теми смыслами, которыми она наделялась в теории стадиальности развития исторических общностей (племя – народность – нация), господствовавшей в советской науке. Народность выражала этнодифференцирующие особенности народа-этноса, воплощала его наиболее характерные признаки и качества. Такая интерпретация получила широкое распространение в середине столетия, она отмечена и в словаре В.И. Даля: народность – «совокупность свойств и быта, отличающих один народ от другого»[245].
Приняв во внимание такую трактовку «народности», легко понять, почему под ее изучением Надеждин понимал исследование народного нрава, ума и быта, – т. е. он предлагал исследовать то, что выражает «физиономия народная», – оригинальные отличительные признаки. Само подобное соположение позволяло уподобить внутренние свойства внешним проявлениям, т. е., во-первых, обнаружить их визуально – в доступных взгляду формах и, во-вторых, четко зафиксировать взаимообусловленность всех элементов этнического: обрядность, язык, психика, речь, жилище и утварь – все понималось как элементы системы, которая обладала «плотью» и «духом». В такой интерпретации не было смысла подвергать ее деконструкции, как предлагал в эти же годы делать К.Д. Кавелин, требуя учитывать эволюцию форм народной жизни и предлагая вполне строгие способы обнаружения духовных и социальных констант в культуре.
Физический облик и язык в этом случае могут быть схожими или общими, но в системе Надеждина чрезвычайно значимое место занял «нрав» как комплекс черт общности, ибо он – так же как и другие элементы этничности – стал критерием, по которому определяется место народа в системе этнической классификации. В этом состояло еще одно существенное отличие концепций Надеждина и Бэра.
Важной особенностью «народности в этнографическом отношении» можно считать разрешение спорного вопроса о том, какое сословие представляет народность «вполне». В рамках этнографического описания русского народа его решение обрело статус научного тезиса: эта идея была оформлена и закреплена в инструкции по сбору этнографических сведений, в которой указывалось, что в отношении русского населения рекомендовано собирать сведения о тех «классах населения, в коих народные особенности сохраняются наиболее; таковы в племени русском: весь так называемый простой сельский народ, а также и средние классы горожан»[246]. Во второй половине XIX в. идея о том, что только крестьянство сохраняет в себе традиционный народный уклад и нормы жизни и, следовательно, быт и нравы именно этого сословия воплощают в себе «народность» в надеждинском значении, стала господствующей – и не только в этнографии. Крестьянство становится главным объектом народоведческих исследований. Важным обстоятельством, «законсервировавшим» такое положение в дальнейшем, стала популярность в 1860-70-е гг. народнических идей и этическая притягательность призыва служения народу[247]. Не последним аргументом в пользу сакрализации крестьянства как носителя истинно народного (в смысле национального) духа сыграли представления о предмете и задачах этнографии.
Новая – надеждинская – интерпретация понятий «народность» и «этнография» не сразу получила распространение. Даже десятилетия спустя А.Н. Пыпин называл позицию Надеждина «этнографическим прагматизмом», поскольку для него самого в этнографии на первом месте стояли задачи изучения «русского самосознания», анализируемого на материалах «просвещения, науки, поэтической литературы, публицистики, в общем ходе и развитии общественной мысли»[248], Надеждин же стремился определить прежде всего конкретные материальные формы их воплощения и полагал возможным установить их, ответив на ряд четко сформулированных вопросов.
Помимо перечисленных элементов «народности» в значении «этнографическом», в работе «Об этнографическом изучении народности русской» Надеждин определил три главных ее объекта (их принято называть «направлениями» этнографической дисциплины) – все они, однако, были выявлены еще в народоописаниях Просвещения: «лингвистическая этнография» (изучение народного языка), «физическая этнография» (или телесная, т. е. антропология) и «психическая этнография». Таким образом, среди главных этномаркирующих признаков для Надеждина наиболее неопределенным оказывается трудноопределимая субстанция – «психика» (но, в сущности, та же «душа») народа. К этой же субстанции он относил и собственно материальную культуру – «быт народный», так как, по его мнению, «он выходит за пределы чисто животной экономии, поскольку в нем выражается участие мысли и сил чисто духовных»[249]. Именно поэтому, на наш взгляд, С.А. Токарев интерпретировал «психическую этнографию» как собственно этнографию в современном смысле слова[250]. Хотя Надеждин и подчеркивал, что «под именем „этнографии психической" я заключаю обозрение и исследование всех тех особенностей, коими в народах более или менее знаменуются проявления „духовной" стороны природы человека, т. е. умственные способности, сила воли и характера, чувство своего человеческого достоинства и происходящее отсюда стремление к беспрерывному совершенствованию, одним словом, – все, что возвышает „человека" над животностью»[251], однако последующее уточнение сводит на нет границы данного поля: «Тут… найдут себе законное место: народная в собственном смысле „психология"… семейное устройство народа, домохозяйство и вообще промышленность, жизнь и образованность общественная… религия, словом – разумные убеждения и глупые мечты, установившиеся привычки и беглые прихоти, заботы и наслаждения, труд и забавы, дело и безделье…»[252].
«Психическая этнография» Надеждина, таким образом, объединяла в себе материальную и духовную культуру в широком их понимании на том основании, что первая – вполне определенная и описываемая по внешним проявлениям – позволяла выявить «психологию», поскольку выражала духовные свойства народа. Это, кстати сказать, весьма затрудняло задачу неискушенного исследователя – ведь следуя данной логике описания этноса, было необходимо определить и зафиксировать огромный пласт быта[253], хозяйства, образа жизни и т. п., одновременно выявив еще и черты народной психики. Обращает на себя внимание и то, что «собственно народная психология» – т. е. «психическая этнография в узком смысле» – включала в себя характеристики и интерпретации того, что принято было именовать «нравом народа» и его «умом»: «разбор и оценка удалого достоинства народного ума и народной нравственности, как оно проявляется в составляющих народ личностях»[254].
При этом соотношение общих особенностей и характера отдельного человека и этноса, к которому он принадлежит, характеризовалось неопределенностью и даже размытостью. Этот вопрос неоднократно обсуждался. Напомним, что существовала тенденция к отождествлению качеств (особенно внешности и характера) отдельного человека с этнической группой / народом. Этническая принадлежность, в свою очередь, определялась исключительно мнением исследователя-наблюдателя и не являлась предметом спора, поскольку путешественники, например, были склонны во всяком встреченном ими иностранце или туземце видеть черты, присущие той народности или культуре, которую они рассчитывали увидеть в этом локусе. Трудности разграничения общего и частного Надеждин предвидел, но не разрешил. Подчеркивая, что «народ действительно существует в бесчисленном множестве отдельных личностей, принадлежащих конечно к одному… корню»[255], в инструкции для Камчатской экспедиции он указывал, что описания «нравственного быта» представляют собой значительные трудности в связи с тем, что «еще труднее различать в них личное от общего, случайное от существенного, поддельное и притворное от настоящего…»[256]. Однако механизм этого различения на практике не был им установлен.
Позиции Литке, Бэра и Надеждина можно все же расценивать как схожие в одном: они полагали, что этнография есть наука описательная и является отраслью географии, при этом «описание „народностей" есть содержание, из которого слагается этнография»[257]. Это имело чрезвычайно важные последствия, тем более что в 1848 г. Н.И. Надеждин возглавил Отделение этнографии РГО и его программа исследований стала главной в российской этнографической науке второй половины столетия.
Таким образом, из предложенных Надеждиным признаков народности «нрав народа», или его «умственный и нравственный строй», оказывался наиболее сложным для определения и научного описания. В случае сходства всех иных признаков он единственный служил критерием выделения народа в самостоятельную «отрасль», или «племя», – свойством, доказывающим его самобытность. Но ни Надеждин, ни даже Кавелин еще как бы не замечали главную трудность определения свойств «нрава»: необходимость разделить позиции наблюдателя и объекта наблюдения. Если об отношении к «другим» и об их характеристиках часто судили, а потом записывали со слов представителей тех или иных групп (что, к слову сказать, делалось далеко не всегда), то черты «нрава» складывались из «общеизвестных мнений» или зависели от стереотипов и предубеждений самих наблюдателей: зачастую они опирались наличные первые впечатления. Автохарактеристики этнической группы во время «полевого» исследования и ее собственная этническая идентификация в первые десятилетия функционирования составленной Н.И. Надеждиным Программы сбора этнографических сведений не учитывались. Таким образом, наблюдатель мог руководствоваться собственными представлениями о нраве этноса – если обладал таковыми или ориентировался на то выражение его свойств, которое можно было самым простым способом обнаружить в явном: в словесности (литературе или фольклоре). Впрочем, это второе требовало навыков не только анализа, но и реконструкции. Между тем, источниковая база этнографии Российской империи формировалась именно на основании этой Программы.
Самый первый ее вариант Надеждин разработал в 1847 г.[258]; ее реализация и интерпретация легли в основу всей этнографической работы Общества в первые десятилетия его деятельности. Программа состояла из шести разделов: описание наружности, языка, домашнего и общественного быта и «умственных и нравственных особенностей и образования»[259]. В течение 30 лет программа Надеждина оставалась главным методическим руководством для собирания сведений по этнографии России. И в 1914 г. Д.К. Зеленин полагал эту программу вполне удовлетворительной с точки зрения современной ему научной этнографии[260].
Итак, именно Надеждин предложил остававшиеся долгое время неизменными набор и иерархию признаков этноса, определивших и его дефиницию: антропологический тип, язык, быт (общественный и домашний), нрав народа и памятники духовной культуры (письменность и фольклор). Акт описания и его структура задали категории, которыми оперировала этнографическая дисциплина в рамках географии, и саму иерархию этих категорий. Поскольку Надеждин ратовал именно за «систематическое» и «научное» изучение сведений, собранных по его Программе, можно предполагать, что и содержащиеся в ней пункты он отождествлял с информацией, которая могла бы претендовать на научную объективность уже в стадии описания.
Надеждин, таким образом, вывел термин «народность» за рамки философско-эстетической парадигмы и сделал его нормативным для этнографии, причем настаивал на включении ее изучения в исторический контекст. Благодаря Надеждину слово «народность» к середине XIX в. уже означало не только «совокупность характерных свойств народа и отражения их в чем-либо», но имело и собирательное значение, «характеризующее исторически сложившуюся общность людей»[261].
Народность / «духовная культура». Подготовка и реализация Великихреформ (1860-70-е гг.) поставила крестьянство в центр исторических штудий. Воплощение в жизнь программы изучения народности во всех ее проявлениях активизировало собирание и изучение русского фольклора, поскольку духовная культура, выраженная в произведениях народного творчества, доказывала не столько развитость в народе эстетического начала, как представлялось ранее, а стала источником для реконструкции прежде всего истории народности. Фольклор воспринимался как «общая совокупность народного знания», как «масса высказываний… о всей своей внешней и внутренней жизни»[262], позволяющая установить «исторические основания духовной жизни»; именно поэтому фольклор стал теперь важным элементом этнографических исследований[263]. Неслучайно и новое осмысление методов его собирания и анализа связано было с опытом применения этнографических программ и критики источниковой базы[264].
Сам термин, появившийся в 1846 г., долгое время понимался как синоним Volkskunde, а с 1880-х гг. объяснялся в качестве устной истории народов. Фольклор рассматривался как комплекс разрозненных элементов исторических эпох, превратившихся в суеверия и традиции низших классов[265]. Как указывает Б.Н. Путилов, введение термина «фольклор» и его «истолкования» вели к новому освещению знакомого материала, позволяя выявлять его «этнографическую сущность» и применять к нему иные методы изучения[266]. В.О. Ключевский так характеризовал перемену, внесенную «сравнительным изучением народности» в словесности: «научный интерес от отдельных памятников личного творчества перенесен был на народную массу»[267].
Филологические исследования имели большое значение для изучения народности в надеждинском смысле, поскольку «рассматривали народные верования и предания, поэзию, даже обряды и обычаи как разрозненные остатки… древнего полузабытого мировоззрения»[268]. Устное народное творчество и язык трактовались как форма выражения этнического своеобразия, т. е. как форма запечатления духа народа. На основании этих текстов делались выводы и о характере народа, причем речь шла не о реконструкции в строгом смысле слова, а о довольно одномерном отождествлении, например, положительных качеств фольклорных героических персонажей с этническими идеалами и нравственными устоями современного крестьянства[269]. Однако развивалось и другое направление в изучении древнерусской словесности и языка – мифологическое. Его исследователь А.Л. Топорков так характеризует методологические установки мифологической теории: «фольклорные тексты, записываемые в России того времени, проецировались в доисторическую древность, поэтическая образность фольклора отождествлялась с созерцанием архаической мифологии, а мышление русских крестьян сближалось с мышлением первобытного человека»[270].
В частности, Ф.И. Буслаев в «Исторических очерках русской народной словесности и искусства»[271], как и в других своих работах, пытался реконструировать способы мышления и мировоззрения «русского народа» в далеком прошлом через язык, анализируя различные тексты древнерусской литературы и фольклора. Для него «народность» (и ее синоним «национальность»), начало изучения которой он относил к романтизму, – это самобытность народа прежде всего как крестьянского сословия[272]. Историческое развитие, на каждом этапе меняющее «физиономию народа» – т. е. «народность» – «должна быть рассматриваема как совокупность разновременных, иногда друг другу противоречащих и противоборствующих результатов исторической жизни»[273]. Буслаев как бы «примерил» кавелинское замечание об исторических пластах народности, но только к одной области духовной жизни народа – его словесности. Он выделил три «отдела» – т. е. этапа, соответствующие трем ступеням народного образования.
Российские исследователи русской народности второй половины XIX столетия в таком понимании «духовной культуры» – на материале литературных и фольклорных текстов – сделали важный шаг на пути переосмысления понятий «народный» и «национальный», хотя подобная интерпретация народного творчества с этой точки зрения была общей тенденцией европейской фольклористики этой эпохи[274]. Особенности русской народности, выявляемые из нарративных источников и устных текстов, по-прежнему воспринимались прежде всего как комплекс идеалов, ценностей и элементов картины мира. «Фольклор, – писал В.И. Ламанский в качестве редактора журнала «Живая старина», – есть метод народной психологии»[275].
Гармоничное сосуществование социальных верхов и низов, не разделенных религиозными, языковыми и нравственными препонами, имевшее место в историческом прошлом, – выражало, как представлялось, этнокультурное единство русского народа, утерянное в петровскую эпоху. Оно трактовалось как основа для национального единения в рамках современной Империи.
В российской научно-популярной литературе получили распространение и идеи французского философа И. Тэна. Как и российские исследователи диалектов и фольклорных текстов, он исходил из того, что как в литературных произведениях отдельных авторов, так и в народном творчестве – не только отражается духовный облик народа и своеобразие его истории и материальной культуры[276], но и складываются присущие только им этнонациональные формы. Иначе говоря, от идей Монтескье концепцию Тэна отличала лишь более детальная разработка концепции характера (нрава) народа: он полагал, что его формирует раса, среда и их сочетание в каждую историческую эпоху. Он пытался отделить черты темперамента от способностей и инстинктов, в зависимости от доминанты выделяя отдельные типы – рациональный и чувственный. Работы И. Тэна оказали влияние на реконструкции национального характера или психического склада на основе комплексного рассмотрения текстов современной литературы (например, поляков и русских[277]).
Изучение языка в середине XIX в. осуществлялось и под влиянием идей немецкой антропогеографии, приписывавшей ему «свой особенный характер, сообразный характеру и истории того народа, который создал и развил его» – «каждый язык имеет свою самостоятельную идею о красоте речи, в которой выражается душевная красота народа»[278]. Примером такого подхода служит следующее поэтическое описание русского языка: он, «сообразно размашистому характеру народа, любит разливаться свободно», подобно источнику[279], сравнение русского языка и наречия «малороссийского племени» приводит к выводу о том, что русский язык – «бесконечное море, питающееся из бесконечного множества наречий»[280], а малороссийский «остался нетронутым в своих основах», не раздробился на разные говоры и эта «целость» есть признак «первобытности языка» и преграда к его дальнейшему развитию[281]. Основанием для такого заключения становится принцип прямого уподобления: однообразная местность («однообразная тучная равнина») порождает «столь же однообразное племя» и – как следствие – лингвистическое единообразие. Данная схема рассуждений весьма характерна для середины столетия: циркуляция соответствий всех названных выше признаков надеждинской народности позволяет, в сущности, весьма свободно оперировать дефинициями в отношении различных областей народной жизни, однако основанием всегда являются природные особенности местности. Российский социолог в начале XX в. так описывал этот – уже казавшийся ему архаичным – метод работы с языком: «слова языка свидетельствовали о первобытных психических и биологических процессах, которые для своего разъяснения создавали новые исследования психофизиков»[282].
A.A. Потебня, на первый взгляд, исходил из общепринятых в его время представлений об отражении в языке и – шире – в словесности народного мировоззрения. Как подчеркивает А.К. Байбурин, «язык для него… неразрывно связан с культурой народа. Следуя В. Гумбольдту, Потебня видит в языке механизм, порождающий мысль… Язык – порождение „народного духа". Вместе с тем именно язык обусловливает национальную специфику народа»[283], т. е. «народность» (ее Потебня понимал в духе времени: как то, что отличает один народ от другого). Исследователь углубил эту зависимость, установив взаимодействие между грамматическими категориями и категориями мышления. Важным теоретическим достижением Потебни стала его идея о влиянии языка на мифологическое сознание. Однако лингвистическая теория и теория мифа российского ученого обрели широкую известность и признание только в XX в., несмотря на то, что проблема взаимовлияния языка и национального сознания (с уклоном в этнопсихологию) получила развитие в трудах его современников[284]. Не оказала она определяющего воздействия и на этнографические описания нрава народов. Хотя стремление авторов выявить прямые соответствия между характером народа и его языком можно считать довольно распространенным в лингвистических и фольклористических изысканиях второй половины столетия, они более тяготели к мифологическому направлению, нежели к лингвистической теории Потебни. А в этнографических описаниях по-прежнему преобладало буквальное понимание зависимости языка и психологии (нрава) народа от природы. Идеи ученого оказались востребованными и были оценены как методологически новаторские лишь в XX в.
«Дух народа» и «народность» в истории. Стремление использовать в общественных науках методы наук естественных проявилось, в частности, во введении в предметное поле исторических и историософских исследований вопроса о природе человеческого поведения – в его индивидуальных и коллективных проявлениях. Этому сопутствовало освоение методов типизации, создание первых моделей исторических явлений и процессов – на основе сравнительного метода, суть которого понималась как установка исследователя на выявление существенно общих, сходных черт в жизни различных народов[285].
Стремление объяснить историю цивилизации географической средой было присуще исследователям в течение всей второй половины XIX в. Эта идея не отвергалась историками 1860-70-х гг., ведь и основоположники позитивизма – О. Конт, Г.Т. Бокль, Г. Спенсер – не подвергали ее сомнению[286]. Представление о прогрессе, а также конкретные перемены и преобразования в России периода модернизации подтверждали необходимость пересмотра концепции неизменности общинного строя (и, как следствие, быта, уклада и нрава) крестьянского мира и инородцев в России. Эта идея стала особенно актуальной в исторических объяснениях эволюции общественных процессов, которая вступала в некоторое противоречие с прямолинейно понимаемыми постулатами географического детерминизма, что отразили и курсы русской истории. Так, СМ. Соловьев, выделяя условия, определившие развитие Древней Руси, на первое место ставил «природу страны», на второе «быт племен», на третье – «состояние соседних народов и государств» и утверждал, что ход событий в России «постоянно подчиняется природным условиям»[287]. Он разделял известную метафору, уподобляющую народы отдельным личностям: «Народы живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные лица, как все живое, все органическое»[288].
Проблема этногенеза в широко понимаемом значении термина объединяла и историков, и географов в их поисках социально-культурной «физиономии» народа. Отказываясь от географической зависимости в отношениях природа-человек, с иронией относясь к идее «духа народа», которой были привержены исследователи фольклора и словесности, представители социальных наук пытались определить связь между природой и формами хозяйствования и только затем устанавливали их соответствие общественной организации или политическому строю. Поиски причин и последствий крепостного права – чрезвычайно актуальные для этой эпохи – стимулировали именно такую схему рассуждений. В этом смысле практическая роль этнографии была очевидной: образ жизни и мышления народа, его темперамент (в психическом и социальном проявлениях) понимались как находящиеся в прямой зависимости от быта, сложившегося в результате климатических и хозяйственных условий, они исторически обусловлены. Все это способствовало сближению этнографии и истории; складывалась тенденция воспринимать этнографические исследования в историческом контексте – во всяком случае, в историографии.
В понимании истории государства этническое разнообразие входящих в его состав народов всегда занимало важное место. К середине века, когда историописание Российской империи переживало расцвет, в целом была завершена работа по сбору фактов и определению последовательности событий, их закономерности. Были установлены и легитимизированы границы пространства, интерпретируемого как «свое», в котором эта история происходила. Наиболее острой оставалась задача переопределения или «назначения» – в духе новой историософской концепции – субъекта национальной истории, поскольку прежнее представление о народе как о едином организме, соединяющем правящую династию, церковь и дворянство, в пореформенную эпоху переживало кризис. Еще в трудах H.A. Полевого народ был провозглашен субъектом государственной истории – как носитель «духа народного»[289]. И тридцать лет спустя после работ Полевого, в 1867 г., Н.И. Костомаров по-прежнему считал наиболее важной «задачею исторического знания жизнь человеческого общества, и, следовательно, народа»[290], поскольку видел явное «противоречие меж государственностью и народностью в истории»[291].
После введения Надеждиным понятия «народность», поддающегося описанию и изучению научными методами, словосочетание «дух народа» постепенно уступает ему место и остается лишь одним из общих наименований сферы, которую начиная с 1860-х гг. определяют как «духовная культура». Иногда этот термин выступает синонимом «умственных, нравственных» свойств, выраженных в искусстве, литературе, науке, устном народном творчестве и т. п.
При этом слово «дух» продолжало использоваться и в описаниях свойств этносов / народов, но оно постепенно замещалось такими понятиями как «психика» или «психология» народа (весьма характерна эта замена в сочинении польского исследователя М. Здеховского, рассуждавшего в «новых» терминах о польском романтизме и мессианизме, которые до него всегда описывались через лексему «дух»[292]).
Иногда его применение связывалось с индивидуальным или профессиональным словоупотреблением. Примером могут служить работы генерал-лейтенанта А.Ф. Риттиха, начинавшего карьеру этнографа в статусе военного статистика в 1860-е гг. И в конце столетия – в лекциях по этнографии – он предпочитал рассуждения о «духе» дефинициям народности. «Дух» занимал его прежде всего как состояние индивида или общности разных уровней: как дух человека, войска, народа. Он описал не только сам дух, но и способы его воплощения в народах. Под ним он понимал «невидимое, но осязаемое качество высшего творения», проникающего извне и действующего на органы чувств. Действует оно следующим образом: «запечатлевается в мозгу, в уме, а последний в свою очередь влияет на прирожденную веками народов кровь»[293]. Механизм действия духа, таким образом, проявляет принципиально иную природу, нежели получаемый от рождения темперамент (нрав): ум влияет на него. Дух может падать, угасать, его можно поработить.
Одновременно с этим Риттих не отрицал и более «свежих» концепций географической обусловленности: «а поскольку человек остается продуктом своей земли, то она… нарождает миллионы одинаковых однообразных индивидуумов, которые под одним влиянием извне, при одном складе ума и одной крови… действуют столетиями однообразно, образуя народ»[294]. Таким образом, и дух, и плоть (земля) создают народ. Русский дух Риттих называл сильным, поскольку ему присуще единство языка, веры и признание верховной силы[295]. Подобная трактовка свидетельствует о сакрализации автором этих трех элементов.
В 1850-60-е гг., когда «народность» уже интерпретировалась как этническое или национальное своеобразие, – продолжалась критика ее прежнего, эстетического понимания. Я.К. Амфитеатров рассуждал о языке средних образованных классов как о хранилище истинной народности (1846)[296], М.А. Дмитриев осуждал тех, кто смешивал понятие народности и простонародности (1855)[297]. В 1860-е гг. расхождение в трактовках значений «народ» и «народность» обрело историософские и политические формы[298]. Необходимо подчеркнуть, что представление о «народности в искусстве» было тесно связано с процедурой выявления «типа» и «типичного». Как показывает А. де Лазари в своем анализе понятия народности в русской литературе, идея определения «типов» была центральной в формулировании критериев народности и после В.Г. Белинского. Детально она разрабатывалась в статьях Ап. Григорьева. Он создал и развил концепцию развития типов – исторических и литературных; размышляли об этом Ф.М. Достоевский, Н. Страхов и др.[299].
Значения понятия «народность в искусстве» продолжали активно обсуждаться вплоть до 1870-х гг. И.В. Забелин, анализируя главные тенденции современных ему дискуссий о народности, писал, что в них нет рационального зерна: народность «есть собственно идея естественности развития, идея свободной независимости от всего искусственного»[300]. Историк был склонен считать, что в России середины столетия существует «мода» на «народность», под которой понимается все то, что отличает русских от европейцев, включая суеверия, проявления невежества и отсталости. Он иронически характеризовал эту трактовку: «Мы открываем такие коренные основы русской жизни, коренные народные свойства, которые ставили в тупик всякого сколько-нибудь здравомыслящего человека… Эти основы и свойства по большей части составляли только отрицание положительных свойств западных народностей»[301].
Славянофилы и почвенники разделяли народ / нацию и простой народ, видя в нем носителя народности – как совокупности качеств, присущих русским. Анализируя их взгляды, А. де Лазари пришел к выводу, что в 1860-х гг. сложились две концепции народности, исходящие из понимания «народа» как социальной группы (простонародья) и как культурно-языковой общности.
Прежняя российская (имперская) модель истории подверглась в период 1860-70-х гг. корректировке. Своеобразной вехой в смене акцентов может служить, как считается в современной историографии, перенос внимания с истории политической на историю этническую, что нашло выражение, в частности, в актах публичного празднования важных исторических вех, внедряющих в общественное сознание новое видение российской монархии и имперской самодержавной истории[302]. Среди них – празднование в 1867 г. тысячелетия церковнославянской литургии и славянского языка, интерпретированное «как попытка воссоздать „утраченное" славянское единство»[303], и приуроченный к нему Славянский съезд. Интерес к древнему племенному прошлому народов, стремление воссоздать их корни и отличительные особенности – тенденция, которая в отношении славян обозначилась еще в романтической историографии 1830-х гг.[304], – после Этнографической выставки 1867 г. явно усилился и с 1870-х гг. был проявлен и к другим этносам Империи. Хотя на первом месте продолжало оставаться изучение прежде всего ее государствообразующего этноса – русских, которое было призвано «удревнить» российскую историю. Этнографический акцент в исторических штудиях можно расценивать в качестве основной тенденции исследований русской народности в 1870-1900-х гг.
Народность: русская и славянская версии. Именно в связи с изучением истории формирования русской народности проблема определения предмета и методов этнографии как отдельного научного направления волновала историков, занимавшихся вопросами материальной культуры и повседневного быта. Исторические особенности русского народа и истоки его самобытности и характера изучали в 1870-е гг. Н.И. Костомаров и А.П. Щапов. В докладе 1863 г. Н.И. Костомаров, бывший тогда членом РГО по отделению этнографии, обосновал необходимость введения этнографии в предметную область исторических исследований. Он поставил несколько важных вопросов, формулировка которых позволяет предположить, что надеждинская программа исследования русской народности определила довольно узкое ее понимание в этнографии.
У Костомарова не было сомнений в том, что не только социальные низы (крестьянство) являются носителем народности – но лишь на определенном ее этапе (т. е. в допетровской России). По всей вероятности, подобное убеждение все же нуждалось в обосновании: «Если этнография есть наука о народе, то круг ее следует распространять на целый народ, и таким образом предметом этнографии должна быть жизнь всех классов народа, и высших, и низших»[305]. Недостатки исторических исследований ученый усматривал в объекте изучения – это государство и социальные верхи общества, а не народ и народность в надеждинском смысле.
Возможность изменения сложившегося положения Костомаров связывал – следуя за Кавелиным – с объединением истории и этнографии, иначе говоря, в извлечении ее из сферы естественных наук и введении в область наук социальных: «обе науки должны быть изучаемы вместе и развиваться нераздельно одна от другой»[306]. Включение этнографии в историю могло помочь, как ему казалось, преодолеть идею природной обусловленности народности и ввести изучение ее формирования в социальный контекст, что позволило бы показать динамику развития, способность к изменениям под влиянием общественно-политических факторов. Таким образом, вопрос о степени неизменности этнических форм все еще оставался острым. В этом отношении выводы историка вполне могли быть отнесены и к исследованиям других народов Империи, многим из которых приписывалось вековое постоянство и неизменность форм жизни.
В статье Н.И. Костомарова «Две русские народности» (1861) понятие народности использовалось в уже привычном смысле – «особые черты народа», которые он именовал «духовной сущностью». Ее характеристика включала описание следующих элементов – «духовный состав, степень чувства, его приемы или склад ума, направление воли, взгляд на жизнь духовную и общественную, все, что образует нрав и характер народа, – это сокровенные внутренние причины, его особенности, сообщающие дыхание жизни и целостность его телу»[307]. Это определение очень важно с точки зрения эволюции понимания народности: Костомаров трактовал ее в надеждинском смысле, видя в ней качественные признаки народа, а не элемент синонимического ряда «народ» – «племя» – «нация». Но, в сущности, у него главной формой «физического» воплощения народности оказался нрав народа. Последовательно сравнивая различные сферы жизни, быта, истории и культуры малорусов и великорусов, историк обнаружил отличительные особенности этих народностей (не народов) во всех областях, – они, по его мнению, демонстрируют более несходств, нежели общности. Помимо обоснования «отраслевых» отличий двух племен одного народа отмеченные особенности двух восточнославянских племен в «духовных» и даже политических склонностях означали, что категория народности оказалась весьма эффективной для описания не только больших общностей – народов, но и их региональных вариантов, и отдельных этнических групп. Другими словами, возникали предпосылки обоснования идеи о том, что на обладание «народностью» (а значит, этническим и вероятным политическим статусом) могли претендовать не только народы, но и «племена», и их «отрасли». Этому в значительной мере способствовало то, что качества народности выявлялись при помощи поиска этнических отличий, а не сходств, которые при желании можно было обнаружить – как это зачастую и делалось некоторыми наблюдателями – в границах отдельных областей, районов, ландшафтных комплексов и отдельных селений.
Заметим, что во второй половине столетия редкий этнографический очерк о великорусах, малорусах или русских в целом не включал бы данных выводов Костомарова из этой и других работ. Сравнительная характеристика «малороссов» и «великороссов» вошла в учебники, в научную литературу и в энциклопедические издания о Малороссии[308]. Идея выявления народности посредством сравнения близких или родственных народов, провозглашенная Н.И. Надеждиным в качестве важной методологической установки этнографической науки, нашла в данной работе Костомарова свое полное воплощение и обнаружила возможные перспективы развития и интерпретационные механизмы.
В самом известном труде А.Н. Пыпина по этнографии – «Истории русской этнографии», материалом которой провозглашались главным образом «народно-поэтические воззрения и обрядовый быт», ей приписывалась главная роль в определении «народности»[309]. Следует обратить внимание на использованное автором словосочетание «народ и народность» – Пыпин, как и его предшественники и многие современники (1860-70-х гг.), отличал эти два понятия как номинацию и определение (качественную характеристику). Ученый использовал термины «народная психология», «характер» и «воля народа», видя возможности их исследования в народном творчестве, быте и обрядности. Они, по его мнению, создают «бытовые и политические формы»[310]. Однако понимание ученым народности и национальности не стало предметом отдельного изучения. Используя оба термина, Пыпин не до конца дифференцировал их употребление. В своей полемике со славянофилами он писал, что народность («народные начала», «содержание народных идей») не является постоянным признаком народа или этноса, а воплощает изменяющуюся в процессе развития племен форму[311]. Он признавался, что «скептически» относится к этим понятиям[312], полагая, в частности, что «народность» «придумана известной школою» (т. е. славянофилами) и потому ее трактовка несет отпечаток ненаучной доктрины. Кроме того, Пыпин указывал на «хорошие» и «дурные» (с точки зрения критериев цивилизованности) свойства «народных начал», но не отрицал «всякое историческое значение „народности"», т. е. «национальных свойств, которые определяют деятельность народа»[313]. «Элементами» народности учёный считал происхождение народа, закономерности его исторического развития, народного быта, преданий, обрядов и т. п.[314]. Формирование и развитие наций (особенно в поздних работах) он связывал с более широким спектром факторов, нежели складывание народностей: это язык, религия, обычаи, промышленная деятельность, война и государство, подчеркивая также значимость условий их экономической и политической жизни. Можно предполагать, что разделение Пыпиным значений «народности» и «национальности» было основано на идее стадиального развития; национальные интересы и национальное самосознание он так или иначе связывал с этнокультурной, а позже – и политической самоидентификацией, осуществляемой национальной интеллигенцией.
Особое место трактовка «народности» занимала в исторических сочинениях, посвященных славянским народам. Этот круг проблем хорошо исследован в российской историографии, посвященной истории славяноведения в России[315], поэтому отметим лишь несколько принципиально важных дефиниций этого термина, оказавших влияние на этнографические репрезентации славянских народов Российской империи.
А.Ф. Гильфердинг утверждал, что народность («как ее понимают западные славяне») «есть право каждого племени на свое индивидуальное существование, право быть самим собою, т. е. говорить и писать на своем языке, сохранять свои предания и быть управляемым как особое племя»[316]. Казалось бы, такое определение не отличается оригинальностью, если не считать введение условия «независимого политического» существования, что заставляет прочитывать народность в данном контексте не как «этнографическое состояние», а как национальное (по аналогии с предшествующими трактовками). Трагическим разъединением «нравственных и общественных начал», с одной стороны, и комплекса элементов народности («сходство языка, обычаев и преданий»), с другой, он объяснял отсутствие чувства славянского единства у западной ветви. Гильфердинг, в сущности, свел «народность» к этнической самобытности (т. е. с доминантой внешних признаков), которая никак не может быть ни условием, ни гарантом оснований, способствующих сплочению различных родственных элементов в нацию – ведь для нее необходимы «общественные начала» (политические формы). Понимание Гильфердингом народности свидетельствует о появлении важной тенденции: размышления о стадиях развития народности на этапе ее национального развития демонстрируют наличие пока еще не вербализованного критерия классификации, связанного с государственностью.
Весьма критично оценивал использование в русском языке термина «народность» В.Д. Спасович. В одной из рецензий 1872 г. на книгу о «польском вопросе» он так отзывался о ней: «Народность в каждом отдельном лице вмещает в себе два элемента: пассивный и активный. Пассивный состоит в известных привычках мысли, чувства и воли, которые присущи человеку вследствие воспитания, хотя бы он был отступником, и проявляется невольно в том, что мысль все-таки отливается в родные слова… Активный элемент в народности заключается в возлюблении народных идеалов, в проникновении себя этими идеалами до того, что человек готов ими жертвовать… Привычки сохраняет даже изменник… но патриотом не может быть человек без народных привычек, в особенности без привычек родного языка»[317]. Активная, т. е. истинная народность осмыслялась Спасовичем как сознательный патриотизм.
Не отрицая в народности элементов, обозначаемых как нрав (мысль, чувство и воля), он видел в ней не врожденные свойства, а социально формируемые качества (привычки, воспитание), разделяя, таким образом, внешнюю (объективную) и внутреннюю (субъективную) идентификации. Согласно этой логике, если человек не осознает – т. е. не признает – своей принадлежности к определенному народу, даже если по «объективным признакам» (язык) она не вызывает сомнений, и не стремится защищать интересы своей группы, то и говорить о его «народности» как отдельного индивида нельзя. Таким образом, интерпретация Спасовича оказывается еще одним звеном в новом осмыслении народности как этничности: его интересует самоопределение индивида, его осознание себя причастным к народности. Следует отметить, что кроме Спасовича главным критерием народности считал самоидентификацию и А. Д. Градовский[318].
Народность: между этнографией и «культурой». Еще на этапе собирания этнографических материалов в России с ее особым вниманием к духовной (в том числе и к религиозной) культуре народов этнографы во многом предвосхитили решение методологических задач сравнительного (кросс-культурного) исследования. Компаративный метод – как уже было показано – представлялся в 1870-80-е гг. важнейшим для установления этапов развития самых различных явлений во всех сферах науки – и в первую очередь в естественных и исторических дисциплинах. Его можно считать второй (после концепции географического детерминизма) – методологической – константой в исследованиях народности, которая не претерпела изменений за полвека. Эта доминанта обусловила ту особенность этнографических исследований, которая имела определяющее влияние на представление об этносе и нации: в этносе на первое место выходили этнодифференцирующие признаки, в реконструкциях национального – идеи этноцентризма.
В 1870-80-е гг. – также под влиянием эволюционистских идей – формировалась теория истории культуры[319], в которой «культура» понималась широко, и ее дефиниции отчасти совпадали с полем значений надеждинской «народности». М.И. Кулишер в 1887 г. отмечал, что сопоставление различных народов между собой в их развитии и изменении дает возможность избежать широко распространенного в науке и в обществе (не только в российском) заблуждения об оригинальности собственной народной культуры – «искони предопределенной, из века в век установленной национальной исключительности»[320].
Он развивал важную для эволюционистской теории идею о том, что все народы проходят определенные стадии формирования, и на каждой из них культура демонстрирует отчетливое сходство с другими; общее перевешивает особенное, поскольку все присущие данному этапу формы – и материальные, и духовные – развиваются в соответствии с универсальными законами. И хотя под «национальной исключительностью» автор, как явствует из его рассуждений, понимал именно «народность», он трактовал ее не как этнокультурную оригинальность: «Лица, которым случалось у нас встретить какую-либо неизвестную им дотоле черту народной жизни… принимали эту черту… за особенность, присущую исключительно русскому народу, и на этих мнимых особенностях сооружали целые здания, целые научные теории…»[321]. Логика автора проясняет последствия применения теории эволюционизма и идеи прогресса к этнографии: отличия между народностями связаны с возможностями человека в заданных природных условиях, но не с оригинальностью некоего Духа.
Неясно, однако, как именно меняется образ жизни народа, когда он начинает осваивать новые территории или в связи с вытеснением вынужден переселяться в новые области. Что в народности остается неизменным, а что легко изменяется под натиском внешнего воздействия? Эти вопросы приобретали особую, болезненную актуальность в условиях изменения традиционного русского крестьянского общества в период пореформенной модернизации. Сложности вызывал и вопрос, какие народы с какими сравнивать. М.И. Кулишер, например, ратовал за сравнение русских с родственными европейскими народами; известно, что в 1830-80-е гг. активно осуществлялись компаративистские исследования славянских народов и этносов финно-угорской группы.
Народность, таким образом, интересовала представителей многих дисциплин, но в подавляющем большинстве случаев они пытались трактовать ее прежде всего в отношении к «своему» – т. е. к русскому – народу, или, во всяком случае, подразумевали именно такое понимание. Применение понятия «народность» к другим народам-этносам не вызывало сомнений тогда, когда речь шла о реализации надеждинской программы их описания, но в других смысловых сферах оно сополагалось лишь с народами / нациями.
Мы не затрагивали, однако, вопроса о политическом значении, которое стало придаваться народности с середины столетия. А. Реннер пишет об этом процессе так: «В набирающем силу общественном мнении „народность", с одной стороны… была утрачена как концепт воспоминания элитарного дискурсивного сообщества. С другой стороны… „народность”, пусть даже с опозданием, оказалась в перспективе политики… Она представляла собой… легитимизирующую ценность все более политизированной или рефлектирующей общности»[322].
§ 2. На смену народности? Нация и национальность
Поле значений. Понятия «нация» и «национальность» в 1830-50-хгг. ХІХ в. – когда Надеждин только формулировал концепцию «народности» (как было показано ранее) – использовались наряду с лексемами «народ» и «народность», но не всегда трактовались как синонимичные. В словарях они присутствовали в качестве употребительных начиная с середины века, но в научно-популярной литературе встречались реже. Так, в Карманном словаре иностранных слов 1845 г. «нация» определялась как синоним слова «народ» («употребляется вместо слова народ»[323]). Оно использовалось «в тех случаях, когда имеют в виду обратить внимание… на племенную родственность членов какого-либо народа, на происхождение от одного общего родоначальника или указать на происхождение оттуда общности языка, обычаев и нравов»[324]. Далее следует важное уточнение: всякий народ (нация) находится в таком же отношении к человечеству, что и «вид в отношении к роду», т. е. представляет собой элемент антропологической иерархии человеческих сообществ.
Весьма показательна дефиниция «национальности». Национальность, как отмечено в словарной статье, порождена общностью указанных выше элементов, характеризующих народ, они порождают одинаковость и некий общий отпечаток на все лица, принадлежащие к нему. «Эти-то общие отличительные черты, по которым можно узнать, к какому народу принадлежит по своему происхождению известное лицо, и называются типическими или национальными признаками. Совокупность таковых типических признаков…, отличающих один народ от другого и дают ему как бы самостоятельное значение среди человечества, и называется национальностью»[325]. Таким образом, отличие «нации» от «национальности» заключено в области функционирования: наименование «нация» фиксирует «объективно существующую» общность, «национальность» же определяет ее своеобразие в сфере материальной и духовной. Другими словами, национальность сближается по значению с надеждинской народностью – т. е. является качественной характеристикой народа, но сводит проявления этой самобытности, в сущности, к особенностям проявления нрава.
Национальность неизгладимо отпечатывается на всех индивидуумах, принадлежащих одному народу, «так что в выражении физиономии, манерах, акценте всегда почти остаются некоторые особенности, по которым нетрудно бывает человеку опытному узнать, к какому народу… принадлежит лицо»[326]. Таким образом, в отличие от «народности», «национальность» более очевидна и визуально более отчетлива: «опыт» позволяет легко ее установить (внешность, манеры и т. п.). Не указаны и социальные отличия внутри этнокультурной общности. Однако краткое определение «национальности» очень близко пониманию термина «народность»: «Совокупность… типических признаков (как, например, образ жизни, нравы, социальные убеждения, религиозная настроенность духа, обычаи и т. п.), отличающих один народ от другого, и дает ему как бы самостоятельное значение среди человечества – и называется его национальностью». В таком толковании и «народность», и «национальность» выражают отличительные характерные черты и свойства отдельных народов.






