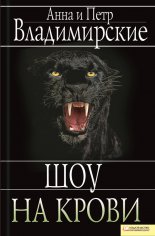Нецелованный странник Стамм Аякко

– Да? И что, приличный человек? Хорошо одевается?
– Мама, я же говорю, он просто чудо!
– Да? Ну ладно. Ты с ним переспала уже? Вы не предохранялись?
– Мама!
– Ладно, ладно, дочка. Но всё равно послушай свою мамочку, мамочка плохого не посоветует: проверь его, как он, хозяйственный мужчина, или нет? Пошли его в магазин, пусть картошку почистит, попроси мусор вынести, в конце концов. А то знаешь, как бывает? Потом воспитывать придётся, лучше сразу поставить всё на свои места. Он что сейчас делает?
– Спит.
– Спит?! Разбуди его! Только поласковей, ну там чмокни в щёчку, или ещё чего такого. Ну ты знаешь, ты уже взрослая. Они это любят. А как встанет, припаши слегка, пусть привыкает. А я скоро приеду, посмотрю на будущего зятя, тогда всё решим. Не отпускай его далеко, я скоро. Ну, пока, дочка.
– Пока, мама.
Он проснулся в благоухающем Едемском саду её меленькой квартирки. Открыл глаза навстречу яркому, ласковому солнцу, озаряющему всё бескрайнее пространство сада волшебным утренним светом. Поднялся с ложа любви, наполненного ароматом её тела, надел поверх ничего тогу, свободно висящую на спинке стула. Подойдя к зеркалу, водрузил на голову лёгкий венок, сплетённый из ветвей вечнозелёного лавра, и, взяв в руки серебряную лиру, полетел, почти не касаясь сандалиями пола, на кухню, из которой доносилось нежное воркование его голубицы.
– Любимая, послушай, я написал стихи, я написал их тебе, это лучшее, что я когда-либо писал!
Она в лёгкой белой сорочке тоже поверх ничего вспорхнула с дивана, бросив на мягкую подушку телефонную трубку, приблизилась к нему вплотную, так что он почувствовал упругость её груди, нежно обняла его и чмокнула в щёку.
– Дорогой, подожди со стихами, потом стихи…. Сходи лучше в магазин, дома хлеба нет ни крошки. Вот я подготовила тебе список, чего и сколько нужно купить. Да, на обратном пути, раз уж ты идёшь в магазин, заскочи в химчистку, а то я уже месяц никак не соберусь. Да, ещё, заодно уж, вынеси мусор.
Он вышел из подъезда на улицу с большим полиэтиленовым мусорным мешком в руке. По серому асфальту унылого города мимо высоких стен выцветших зданий двигались безликие автомобили, а по протёртым подошвами белёсым тротуарам семенили на коротеньких ножках бесцветные пятна прохожих, погружённых в свои будничные заботы, озирая тусклыми взглядами блёклый пейзаж прозаических будней. Он просто поднял руку, просто произнёс в опущенное стекло передней дверцы подкатившего таксомотора одно только слово «Пулково», даже не расслышав цену, которую назвал водитель, забрался в автомобиль, уселся на заднее сидение и погрузился в свои мысли.
– А это зачем? – спросил водила, показывая на мешок.
– Так…, осколки разбитого вдребезги.
На жёрдочке
Когда-то давно-давно Бог создал человека и, не найдя среди остальной твари никого подобного ему, разделил на мужчину и женщину, обрекая тем самым обе половинки на бесконечный поиск друг друга в толпе проб, ошибок и разочарований. Любовью этот многотрудный процесс назвал сам человек, Бог же под этим понятием подразумевал, судя по всему, нечто иное.
1
Петя Кочетков был, в общем-то, самый обыкновенный человек. Он ничем не отличался от других, не выделялся какими-то особенными талантами на фоне сограждан. Напротив, в общей их массе он как-то невольно стушёвывался, терялся, сливался с этой массой, так что вы ни за что не обнаружили бы его в разношёрстной гудящей толпе, будь вы даже на редкость внимательным человеком, а он при этом при всём находился бы в двух шагах от вас. Даже на работе, а работал Петя в одном престижном НИИ рядовым научным сотрудником, и причём уже далеко не первый год, он звёзд с неба не хватал, не блистал, что называется, пытливостью ума и пылкостью фантазии. Он добросовестно и скрупулёзно выполнял свою рядовую работу, получал за неё такую же рядовую зарплату и, в общем-то, пребывал самой, что ни на есть незаметной, серенькой личностью. Настолько незаметной, что мало кто из его сослуживцев даже знал его имя, а уж про отчество и говорить не приходится.
В быту он был тих, скромен, непритязателен и совершенно одинок, так что многие из его соседей даже не могли толком сказать, живёт ли кто-нибудь в типовой однокомнатной квартире за самой обычной, деревянной, выкрашенной типовой коричневой краской дверью, что на девятом этаже их типовой многоэтажки. Петя, конечно же, был когда-то женат, и даже дважды, но это было очень давно и очень недолго, так что старожилы его дома уже и не припоминали, было ли это вообще когда-нибудь. Первая жена от него ушла ещё в те стародавние времена, когда он был молодой и подающий надежды, вторая же и того хуже, уехала в Америку, да так и не вернулась. Причиной же столь обидных неудач в семейной жизни Пети была одна его странность. И не то чтобы какая-то очень уж вопиющая особенность его, в общем-то, незаметной личности, а так, пустячок. Но пустячок значительный, что называется, сам в себе.
Дело в том, что Петя Кочетков очень любил сидеть на жёрдочке, прочно вбитой в оконный косяк над карнизом своего окна, и смотреть через настежь распахнутые створки на копошащихся внизу прохожих и снующие туда сюда автомашины. А особенно на то, как по весне тёмно-серые скелеты деревьев, покрываясь свеженькими, молодыми листиками, постепенно окрашиваются в весёлый, радующий глаз зелёный. Как тёплый летний дождик омывает чистыми, прозрачными струями настрадавшуюся от зноя землю, освобождая её от пыли и городской копоти. На яркое, постоянно меняющееся, как в калейдоскопе, осеннее разноцветье, постепенно редеющее и тускнеющее в потоке затяжных ноябрьских дождей. На чистое и мягкое как пух снежное покрывало, укутывающее вдруг, за одну только ночь землю белым саваном, покойным и недвижным как смерть, но чуть проснётся город, закопошится снующими туда сюда тараканами машин, так саван, словно тонкая марля расползается на рваные, бесформенные лоскуты, чтобы за ночь сшитый невидимой рукой, снова укутать землю, даря ей покой и отдохновение. Петя мог часами, да что там, по целым дням, когда не нужно было идти на работу, предаваться этому своему увлечению, невзирая на погоду, на социальное переустройство жизни, на политическую обстановку в мире, на курс доллара, цены на нефть и газ. Эка невидаль. Он забывал даже поесть, а только курил одну за другой сигареты да время от времени шумно отхлёбывал из большой кружки с характерным коричневым налетом, остывший уже чай. Вот такой он был человек, Петя Кочетков.
2
Маша Ромашкина, напротив, была выдающейся личностью. Нет, конечно, её научные открытия не перевернули все веками утвердившиеся представления человечества о мироздании, её спортивные достижения не расширили существенно рамки физических возможностей человека, её романами не зачитывались целые поколения читателей из разных стран мира. А всё потому, что ни открытий, ни спортивных достижений, ни, тем более, романов, связанных каким-нибудь образом с её звучным именем, попросту не существовало. Зато Маша обладала яркой, действительно выдающейся внешностью и, вместе с тем, ранимой, тонкой душевной организацией, что само по себе в наш беспринципный век является исключительно редким и даже уникальным сочетанием.
Маша была на редкость красивой девушкой, но вместе с тем, не любила этой своей красоты, доставлявшей ей немало огорчений. Ещё с юности она мечтала о сцене, о главных ролях в кино, наконец, о большой, неиссякаемой любви. Но её путь к искусству оказался более чем труден и тернист, что же касается любви, то об этом и вспоминать не хотелось. Ещё в девятом классе она была изнасилована своими же одноклассниками, поэтому школу пришлось заканчивать уже в другом городе, и даже не в городе, а в небольшом посёлке, где жила её бабушка. Посёлок был маленький и скучный, без каких бы то ни было достопримечательностей. Люди в нём работали и пили, пили и работали, а когда в начале девяностых работы не стало, то просто пили. Маша как-то сразу не вписалась в серую будничность, в которой прозябали местные жители, поэтому, в конце концов, в один прекрасный день ей также напомнили, что она таки женщина, и на этот раз уже более авторитетно.
В Москве, куда она приехала, так и не окончив школу, её, слава Богу, больше никто не насиловал, то есть не использовал молодое прекрасное тело без согласия на то хозяйки. Но и другой возможности как-то устроить свою жизнь, без использования тела, ей не представилось. Поэтому, проработав какое-то время проституткой в одном из престижных борделей, но, не утратив природной тяги к искусству, она, наконец-то, нашла более-менее приемлемый компромисс.
Один известный скульптор ставил тогда в одном из многочисленных городских парков памятник поэту Александру Блоку и предложил Маше участие в этом своём проекте. Надо сказать, замысел автора оказался на редкость оригинальным и даже где-то революционным. В самой композиции места великому русскому поэту не нашлось, да и не могло найтись. Скульптор смотрел куда дальше и выше, чем простое копирование в бронзе фигуры знаменитого автора «Незнакомки». Он, стремясь передать сам дух бессмертного творчества поэта, изобразил в белом, как снег, мраморе круглую беседку с шестью колоннами по окружности, внутри располагалась деревянная скамейка, на которой восседала юная, грациозная незнакомка в лёгкой шляпке с вуалью на изящной головке и с томиком Блока в руке. Надо ли говорить, что кроме шляпки на незнакомке ничего более не было? А вся неподражаемая оригинальность композиции заключалась в том, что сама фигура девушки, по замыслу автора, должна быть не мраморной, как беседка, и даже не деревянной, как скамейка, а абсолютно, что ни на есть живой! Трепетной! Дышащей! Именно эта роль и была предложена Маше Ромашкиной, и она, подумав, согласилась. Ещё бы! Хотя, ещё не совсем актриса, но уже и не совсем проститутка.
Маша каждое утро добросовестно шла на работу к открытию парка, а вечером, как только его огромный кованые ворота закрывались, уходила домой, неся на себе печать блоковского гения, персонаж которого она играла одухотворённо и самоотверженно, как самая настоящая актриса. Она была очень хорошей девушкой, у неё, в принципе-то, был только один недостаток: Маша любила Филиппа Киркорова, любила искренне, самозабвенно, всей душой. Она посещала все его концерты, скупала все новые диски, не пропускала ни одного его выступления, или хоть даже интервью по телевидению, и однажды даже проколола шилом колесо автомобиля одной известной эстрадной примадонны. Но Филипп не отвечал ей взаимностью, он о ней попросту не знал. Вот так она и жила, Маша Ромашкина.
3
Они встретились случайно, в одном маленьком недорогом кафе, куда Маша всякий раз, идя с работы, заходила перекусить круассанчиком с чашечкой чёрного кофе. Пете не то чтобы нравилось это заведение, не очень чистое, не очень чтобы тихое и уютное, напротив, засиженное вечно пьяными завсегдатаями с кроличьими глазками, всегда шумно обсуждающими недавнее поражение «Спартака». Просто оно находилось по пути с работы домой, и ежедневное его посещение, чтобы пропустить пару стаканчиков недорогого вина да поглазеть на неизменный пейзаж за пыльным окном, возле которого стоял облюбованный им столик, стало уже укоренившейся с годами привычкой. Кроме того, в последнее время появилась ещё одна причина, влекущая его сюда.
Дело в том, что ежевечерне, в один и тот же час в кафе заходила прекрасная незнакомка и всякий раз, «медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садилась у окна», к тому самому столику, за которым уже сидел он, Петя. Она неизменно заказывала чашечку кофе с круассаном и, повернувшись к окну, принималась наблюдать тот же пейзаж. Девушка никогда не замечала его присутствия, что было само по себе вовсе неудивительно, он же с любопытством рассматривал её тонкие черты, бездонные, синие глаза, всегда подёрнутые оттенком какой-то мучительной грусти. Ему было хорошо рядом с ней, жаль только, что посещения её длились недолго. Спустя всего несколько минут она, докушав круассан, и допив кофе, уходила восвояси, а Петя, выждав паузу, допивал вино и отправлялся на свою неизменную жёрдочку. Так было всякий раз на протяжении целого лета, но только не сегодня.
Сегодня почему-то (такого не было ни разу, никогда) она, дожевав круассан, медленно перевела взгляд от окна к тому месту, где находился он. Долго и пристально незнакомка всматривалась в пространство, как будто на месте чёрной пустоты постепенно материализовывалось нечто, приобретая со временем человеческие очертания, и сформировавшееся, в конце концов, в него, в Петю Кочеткова, заинтересованно рассматривающего её.
– Ой! – произнесла она от неожиданности. – Вы кто?
– Никто, – ответил он смущённо. – Просто пью вино. А вы, наверное, актриса?
– Я…? Актриса…? Почему… вы так решили? – она засуетилась, как ребёнок, застигнутый врасплох за шкодой, и собралась, было, уйти, но вместо этого, почему-то, закурила сигарету. – Да, я актриса! Как вы догадались?
– Не знаю, может, мне так показалось, – он тоже закурил свою. – Вы так похожи на блоковскую «Незнакомку»…, вы её сейчас репетируете…? Вот и томик Блока всегда при вас.
– Да, я играю сейчас «Незнакомку», – она улыбнулась, ей, конечно же, было приятно. – А что, похоже, да?
– О! Вы так гармонично влились в образ…, что даже вне сцены…, как это сказать… продолжаете жить в роли.
Петя говорил искренне, и его искренность подкупала. По крайней мере, Маша буквально растаяла от этих его слов. И что ж тут удивительного? Она их слышала впервые.
– Спасибо! Вы не представляете, насколько мне это важно, – она улыбалась открытой, детской улыбкой, а глаза светились благодарностью. – Кто вы? – спросила она после непродолжительной паузы.
– Я? Никто…. Нет, в самом деле, никто, – он немного смущался, но, наконец-то, решился протянуть ей руку. – Петя… Петя Кочетков, если вас это устроит.
– А я Маша, – она вложила в его руку свою маленькую тёплую ладошку. – Мне очень…, нет, в самом деле, очень приятно.
4
Из кафе они ушли вместе. Почему? Но ведь ни с кем из посетителей никто из них больше не был знаком.
Они пошли к нему. А куда же ещё? Он жил тут неподалёку, почти рядом. К тому же, он умел чудно варить кофе, а уж как она любила этот напиток…. По дороге он купил бутылку вина, круассанов и маленькую белую розу – символ чего-то такого, чего они сами ещё не могли толком понять.
– Ты любишь Филиппа Киркорова? – спросила она, когда пустая бутылка уже стояла на полу возле столика, от круассанов осталось только несколько крошек, а кофе…, что ж, нужно было в который раз вставать с мягкого, уютного кресла и идти на кухню, чтобы сварить в турке этот чудесный напиток. На улице уже стемнело, в чёрном небе зажглись крохотные звёздочки, а по комнате, слабо освещённой мягким светом бра, медленно проплывали замысловатые волны табачного дыма.
– Нет, не люблю, – ответил он, вставая и беря в руку турку.
– Как это? Подожди, как это не любишь? – остановила она его. – Ты не любишь Филиппа Киркорова?!
– Нет, не люблю, – повторил он, снова усаживаясь в кресло, и глядя на неё слегка влажными от выпитого вина глазами. – А почему я должен его любить?
– Ну, как же? Как? Ведь он такой милый, такой душка, его нельзя не любить!
– А я не люблю, и не вижу в этом ничего странного.
– Этого не может быть, – она растерянно смотрела на него, искренне недоумевая, что он, именно он может не любить такого замечательного певца, и человека, и мужчину наконец. – Как же это? Этого просто не может быть! Петя, может, ты меня не понял, я говорю про Киркорова! Про Филиппа Киркорова!
– Ну и что?
– Как это что?! Ну, как это что?! Это же КИР-КО-РОВ! Ты что, не понимаешь?!
– Не понимаю, – просто и спокойно отвечал он. – Не понимаю, почему я обязательно должен его любить? И почему это тебя так удивляет? Ведь не любит же кто-то сладкое, кто-то не любит пошлые анекдоты, а кто-то не сходит с ума от телесериалов, вообще не смотрит телевизор, потому что там больше ничего не показывают. И никого это не удивляет. А я не люблю Филиппа Киркорова, вот и всё.
– Всё?! – она тяжело дышала, еле сдерживая, рвущуюся из неё наружу бурю негодования. – Ну, знаешь?! Ну, после этого…! Всё…! Да, теперь всё! И я ещё пью вино с этим человеком! Да я…! Я стыжусь, что ещё пять минут назад собиралась переспать с тобой! Теперь знай, между нами всё кончено! Всё!
Она нервно схватила со столика пачку сигарет, вытащила из сумочки CD-плеер с новеньким диском своего кумира, бросила сумочку на пол и, в негодовании хлопнув дверью, вышла из комнаты…. На кухню. А куда же? Не на улицу же ей идти среди ночи?
То ли на маленькой Петиной кухоньке было не так уютно, как в комнате, то ли неподражаемый голос кумира сегодня оказался не столь притягательным, как обычно, только уже через десять минут Маша, выключив плеер, и достав из пачки сигарету, вернулась.
– Я не нашла у тебя на кухне спички! – не желая уступать, с обидой в голосе сказала она, войдя в комнату. – Может ты дашь даме при… ку….
Она не закончила фразу, забыв о том, что хотела сказать. Недавнее раздражение тоже куда-то улетучилось, а сигарета, слава Богу, так и не зажжённая, упала из её тонкой ручки прямо на ковёр, расстеленный на полу.
– Петя, где ты? – еле выговорила она, озирая растерянным взглядом опустевшую комнату.
– Я здесь, – донеслось от окна.
Она чуть не вскрикнула, увидав в тёмном оконном проёме его маленькую, съёжившуюся фигуру, как бы зависшую между верхней фрамугой и подоконником.
– Что ты, Петя? Не надо. Ты что… задумал? – залепетала она, медленно подходя к окну и протягивая к нему руки. – Ты что? С ума, что ли, сошёл? Что ты? – и вдруг, когда до окна оставалось не более двух-трёх метров, стремглав кинулась к нему, схватила его своими цепкими руками и заплакала.
– Ты что, Машенька? Что с тобой? Ты испугалась, глупенькая? Ты думала, что ли, я в окошко хочу прыгнуть? Как Подколёсин? Здесь же девятый этаж…. Ну, успокойся, дурочка ты моя, ненаглядная….
Он утешал её, как только мог утешать человек, долгие годы проживший в одиночестве, и начинающий уже забывать, что же, всё-таки, такое человеческое тепло и ласка. Он как-то неуклюже обнимал своими сильными руками её хрупкие плечи, гладил её по голове и по спине, как гладят кошку, неумело страстно целовал её мокрые от слёз щёки, глаза, губы….
5
А потом, когда она уже немного успокоилась, он рассказал ей о своём увлечении. О том, что он чувствует, что вообще может чувствовать человек в такие минуты, когда не только над головой, но и под ногами, и слева, и справа, везде одно только бездонное небо. А ты свободный и вольный, как птица, нет, не птица, как Ангел, потому что птица всё же обречена вернуться на грешную землю, а Ангел… О! Ангел, это совсем другое дело!
– Я хотела бы остаться у тебя… с тобой? Навсегда. Но, к сожалению, я никогда, наверное, не смогу как ты сидеть на жёрдочке…. Я такая трусиха.
– А я никогда не смогу полюбить Филиппа Киркорова, – ответил он, смеясь. – Но разве это главное? Разве могут быть счастливы люди, всегда и во всём любящие одно и то же? Напротив, мне кажется, им должно быть скучно друг с другом.
А когда она уже сладко спала под мягким одеялом, заложив ладошку под розовую щёчку, он нежно погладил её по головке, легко-легко, чтобы не нарушать сна, поцеловал и, забравшись на жёрдочку, полетел по своим ангельским делам, очень важным и необходимым. Он не стал сегодня собирать других ангелов, таких же странных и незаметных в обычной дневной жизни, сегодня он всё делал сам. Это было важно для него и нужно для неё. Он хотел собрать этой ночью всё своё искусство, своё умение, свой талант только для неё одной, чтобы она, Маша Ромашкина, его хрупкая Незнакомка увидела сегодня свои самые замечательные сны, самые желанные, самые незабываемые. И пусть даже в этих её снах звучит голос Филиппа Киркорова, это не беда. Ведь каждый из нас любит кого-то, или что-то своё, и это хорошо, это правильно, в этом вся прелесть разнообразия, разноцветья жизни. Главное, и Петя Кочетков был в этом уверен, чтобы мы, люди любили друг друга, любили по-настоящему, принимая всё то, что ему, любимому, дорого, ведь нас осталось так мало на Земле. Тогда для каждого из нас найдётся его место… на жёрдочке…
Двое во вселенной
Они никогда не встречались. Однажды случайно познакомившись во всемирной паутине, они писали друг другу письма, рассказывали о себе всё-всё, делились самыми сокровенными, тайными мыслями, как старые, верные, проверенные жизнью друзья. И там же, в интернете он впервые сказал ей: «ЛЮБЛЮ». Не мог не сказать. Слово это, насыщенное огромным, как земной шар чувством, само вырвалось, выкатилось из его сердца и влилось в её, бьющееся в унисон. Они жили в разных городах, разных странах, удалённых континентах, не похожих друг на друга планетах, но стали вдруг близки одним этим неслучайным, недвусмысленным словом.
Он встречал её в аэропорту. Это была их первая встреча после многих лет удалённой близости. Он не знал, как она выглядит, потому что ещё задолго договорился с ней не открывать приметы друг друга – сердце само должно отыскать, выбрать из сотен прилетевших одну единственную его Девочку. Ему не нужно было знать, он представлял, как вот-вот из распахнутых настежь дверей приграничной зоны выпорхнет она – лёгкая, невесомая как бабочка, прекрасная незнакомка в платье июлькового цвета. Он, конечно, фантазировал по своей всегдашней привычке, но всерьёз ждал именно такую. И она выпорхнула… и именно в том платье, которое грезилось ему. Проплыв не спеша к центру переполненного зала, она пробежала взглядом по толпе приезжающих и встречающих, почти не касаясь никого, пока не остановилась на нём. Больше в этом зале для неё никого не существовало.
Они долго ещё стояли, обнявшись, посреди пустеющего аэропорта, боясь потерять, выронить случайно из рук так чудесно обретшую плоть Любовь. «Пойдём, на нас смотрят, – наконец еле слышно произнесла она. «Подожди, – ответил он одними глазами, – я так долго мечтал о тебе, дай мне почувствовать тебя».
А когда уже ранним утром следующего дня она сидела голенькая на огромной кровати, в которой спал, улыбаясь во сне, её Мужчина, и рассматривала большими, влажными от слезинок глазами его лицо, руки, всё его тело, немой, невысказанный вопрос звучал в её взгляде красноречивее всяких слов.
«Вот и всё произошло. Кто я для тебя теперь? Кукла, игрушка на одну ночь? Любовница, удобная тем уж, что не предъявит никаких претензий ввиду своей значительной удалённости? Жена…? Знаешь ли ты, понимаешь ли, что я сейчас сделала? Почувствовал ли, что я не просто отдалась тебе, как отдавались многие до меня и, я не сомневаюсь, многие после меня? Сегодня здесь я отдала тебе себя всю. Без остатка. Принял ли ты меня?» А он не слышал этих её вопросов. Он спал и видел сон, в котором вместе с ней бежал по горячему песку прибрежной полосы чудного дальнего острова, где зелёные стройные пальмы, ласковое тёплое море, высокое чистое небо, где никогда не заходит солнце, где вечно живёт и никогда не умирает Любовь.
Вечером того же дня он провожал её в том же аэропорту, в котором вчера ещё встречал мечтая, рисуя в кружевах фантазии легкую, невесомую бабочку в платье июлькового цвета. Она улетала в свою далёкую страну, в которую ему навсегда, по жизни заказан путь. Снова между ними образовались города, страны, континенты, планеты, галактики…. Но теперь они оба жили в одной вселенной – огромной, бесконечной, вмещающей в себя тысячи тысяч мирозданий. И в этой необъятности они были тесно близки друг другу. Ведь во всей вселенной и жили-то теперь только эти двое.
Свечечка на холмике под крестом
Сегодня полгода как умер Максим. Мой сын.
С утра я встал пораньше и засобирался на кладбище. Помянуть. Повидаться. В который раз попросить прощения. Он ушёл так рано, так внезапно, и я не могу примириться с мыслью, что не досказал ему, не сделал для него самого главного, что должен был. И буду должен теперь всегда, до конца дней своих. Вот и еду, чтобы ещё раз попытаться отдать неоплатный долг, хотя заранее знаю, что с кладбища уйду ещё более обременённый.
Сын похоронен далеко, в другом городе, в котором он родился, жил со своей матерью – моей первой женой, где умер, можно сказать, у неё на руках. Судьбы наши разошлись, разбежались как тараканы в разные стороны, когда Максимке было полтора годика. Он и пришёл-то в этот мир, будучи уже обречённым на сиротство, на безотцовщину при живом отце. Так, к сожалению, бывает. Так произошло и с ним. С нами.
Дорога длинная, а в виду московских пробок ещё и скучная, утомительная. Разумеется, к месту я добрался с приличным опозданием. Самым последним, когда уже все собрались вокруг аккуратного холмика, занесённого, словно лёгким пушистым покрывалом, свежевыпавшим за ночь снегом. Тишина и покой погоста, полное отсутствие какого-либо движения и чьих бы то ни было следов окрест обволакивало душу состоянием незыблемости и постоянства, ощущением близости, даже прикосновения к вечности. И только крещенский мороз, яркое, в полнеба солнце и резкие порывы холодного северного ветра возвращали к действительности, к жизни.
У нас есть такая традиция – зажигать на могилке прямо под крестом тоненькую церковную свечечку. Пока она горит – мы вместе с покойным. Разговариваем, рассказываем новости, которых он так и не успел узнать, сообщаем о невзгодах, теперь уже не способных нарушить его покой, о радостях, которыми искренне, как дети, делимся с ним. Кто-то молится, кто-то плачет, кто-то нервно курит в сторонке. А как догорит свечечка, растает в махоньком, но горячем, живом язычке пламени – тут и конец свиданию. Вот и в этот раз мать Макса запалила живой огонёк и поставила подле креста, как когда-то зажгла трепетный и жаркий свет его жизни естеством своим. Могла ли она тогда подумать о свечечке кладбищенской?
Огонёк вспорхнул, задышал еле-еле, оглядел новый для себя мир, в котором ему предстоит прожить короткую, но полную энергии, испепеляющую саму себя жизнь, и встал в полный рост, утверждая себя, заявляя о себе: «Аз есмь!». Вдруг незваный порыв студёного ветра налетел, заколыхал робкую, не окрепшую ещё жизнь, обрушил неумолимый диктат своей власти на слабенькую, неискушённую попытку пробыть на земле хоть сколько-нибудь полезно и важно для окружающих. И умчался восвояси истреблять другие несмелые нарождающиеся огоньки горячей жизни. Свечечка, похоже, погасла. Но уже через пару мгновений опять задышала, затрепетала, вновь обретая в неуёмной жажде бытия и силу, и стать, и смысл. Это повторялось вновь и вновь, и всякий раз крохотный, еле дышащий огонёк оказывался сильнее могучего, не знающего пощады ветра.
– Странно, – произнесла в изумлении мама Максима. – Несколько раз я зажигала свечку, и она неизменно гасла при каждом новом порыве ветра. А теперь живёт, не смотря ни на что. Хотя ветер сейчас вроде бы сильнее, а она горит себе, сопротивляется и не думает сдаваться.
Так огонёк догорел до конца, пока свечечка не растаяла от его жаркой силы. И ни разу не погасла.
Мы засобирались домой.
– Это Максим, наверное, тебя ждал и нас держал, – сказала она мне. – Не хотел, чтобы мы уехали раньше, не дождавшись. Хотел видеть нас всех вместе.
Через три дня, двадцать седьмого января ему исполнилось бы двадцать шесть лет.
24 января 2012 г.
Верность
Это лето оказалось на редкость жарким и засушливым. Настолько, насколько минувшая зима была снежной и морозной. Оставленный хозяином, внезапно бежавшим заграницу ещё осенью, брошенный медленно умирать в одиночестве среди людей этого большого, но оказавшегося вдруг чужим города, он сумел пережить зимнюю стужу, невозможный, смертельно ранящий его привыкшее к комфорту тело холод. Сможет ли вынести теперь изнуряющий голод, лишающий жизненных сил под палящим солнцем пустого, безродного лета? Он не знал этого, а только ежедневно возвращаясь на угол Вознесенского проспекта и одноимённого ему переулка1, он надеялся… сам не ведал на что – наверное, на необъяснимое, нелогичное, неоправданное никакими законами бытия собачье чудо. Он ждал не разумом, не чутким породистым чутьём, не инстинктом даже, а слабой подсознательной надеждой, неизменно толкающей его на это место не во имя, но вопреки. Вопреки всякой земной логике ему грезилось, что вот сейчас из парадного выглянет седая голова дворецкого и окликнет его (о Боже!) по имени, по тому странному сочетанию звуков, от которого всё тело наливается неистовой энергией и щенячьей любовью к произносившему эти уже забытые, но каким-то чудом сохранившиеся в подсознании звуки. Он конечно тут же вспомнит и откликнется на них всем своим пёсьим существом, а вспомнив, ломанётся неистово на голос и вновь окунётся с головой в домашний уют, в непреходящую, казалось, любовь, а главное, в так необходимую ему возможность излить на родное человеческое существо всю свою природную собачью преданности и верность. Но ничто не открылось, не выглянуло, не позвало, не окунуло. И самое трагичное, что такое положение вещей в окружающем его мире стало уже нормальным, привычным, естественным. Вот что поистине страшно.
За давно не мытым стеклом оконного проёма в доме напротив стоял человек и наблюдал за поведением пса. Безошибочным глазом знатока он видел породистость собаки, а по свалявшейся в клочья шерсти, по неуверенным усталым движениям, по опущенной, склонённой к земле морде, а особенно по печальным, мокрым от слёз глазам животного угадывал всю неказистость его теперешнего положения. Человек сочувственно взирал на зверя и в эту минуту ощущал трагическое единство с ним, как собственно и со всем сущим в этой стране в это смутное время. «Были когда-то и мы рысаками», – прозвучало в сознании человека, а уста независимо от воли произнесли еле слышно:
- Пара гнедых, запряженных с зарею,
- Тощих, голодных и грустных на вид,
- Вечно бредете вы мелкой рысцою,
- Вечно куда-то ваш кучер спешит.
- Были когда-то и вы рысаками,
- И седоков вы имели иных.
- Ваша хозяйка состарилась с вами,
- Пара гнедых, пара гнедых…2
Вдруг пёс, будто услышав сквозь стекло голос, а может, просто уловив безошибочным собачьим чутьём соучастие с человеком, вскочил на все четыре лапы, обратил горящую взором морду к окну и завилял нетерпеливо мохнатым хвостом. Точно как в те счастливые времена, когда скучая в жарко натопленной зале, мог почувствовать приближение хозяина за секунду до его появления. Человек улыбнулся в ответ, словно старому преданному товарищу, дивясь искренне непостижимой загадке бытия, в котором всегда, даже в самую лихую годину есть место Любви и единства друг с другом всякой твари Божьей. И как же жаль, что человечество, усвоив осознание себя высшей тварью, забыло вдруг, отвернулось от этого единства не только с иными созданиями Божьими, но и с самим таким же человеком.
– Ваше Величество, Государь, простите что без стука, но в сложившихся условиях я счёл необходимым сохранить свой визит к Вам в тайне. Стук может привлечь нежелательное внимание.
Человек оторвал взгляд от окна и обернулся на голос. Возле дверей комнаты стоял другой, судя по отменной выправке военный, но в штатском платье, лысоватый гражданин лет пятидесяти с аккуратной бородкой и в пенсне на интеллигентном лице.
– Что такое? Что-то с Алёшей? – забеспокоился человек у окна. – Вы осматривали его сегодня? Как он?
– Не беспокойтесь, Ваше Величество, с Алексеем Николаевичем всё в порядке, – поспешил успокоить его вошедший. – Я только что осматривал Его Высочество. Не скажу, что он абсолютно здоров, но жизни Великого Князя объективно ничего не угрожает. По крайней мере, с этой стороны.
Государь, несколько успокоенный, снова обратил взор к окну.
– Да. Времена нынче страшные, – произнёс он как бы в раздумье. – Старость и болезни, как причина смерти, отходят на задний план, уступая место вырвавшимся из преисподней, словно дым и пепел из жерла вулкана, ненависти и злобе. Умереть от шальной пули, стоя в очереди в лавку за керосином, стало явлением обыденным. И это в самой глубинке Великой России, куда никакая война не докатывалась со времён Ермака и Казанского ханства.
Оба какое-то время молчали. Царь, всецело погружённый в свои думы, нашедшие отражение где-то за оконным стеклом; его подданный, не решаясь прервать размышления Государя. Надеясь, впрочем, что Николай сам вернётся к незаконченному разговору. Он не ошибся.
– Евгений Сергеевич3, дорогой, – Император, как бы очнувшись от своих мыслей, отошёл от окна к столу, служившему одновременно и обеденным, и письменным. Его что-то тревожило, волновало не на шутку, но он никак не мог облечь свои мысли в слова, придать им нужное значение, уместное в столь неуместном сочетании своего природного статуса и действительной обстановки вокруг. Не находя таких слов, он уже пожалел было что вообще начал этот разговор. Но раз уж начал…
Пауза затянулась, а нужные слова так и не находились. В таком каверзном положении Николай не просто нервничал, но и позволил себе показать свою нервозность, чего с ним никогда не случалось раньше. Или почти никогда. Машинально он взял в руки лежащий на столе дневник, раскрыл его наугад непослушными пальцами и уткнулся взглядом в одну единственную фразу, оставленную им около полутора лет тому назад: «Кругом измена, трусость и обман». Разрозненные обрывки мысли, хаотично разбросанные в сознании, вдруг самопроизвольно сплелись и выстроились в простую, понятную цепочку. Речь полилась, будто и не было неказистости, невысказанности, обречённости на молчание при невыносимой потребности кричать.
– Евгений Сергеевич, Вы всё величаете меня царским титулом, а ведь я уж почти полтора года как не царствую в своей стране. Разве Вы не видите, что происходит вокруг? Разве не замечаете, как даже простой солдат, как самая обыкновенная кухарка из моего народа, для которого ещё недавно я был Отцом, первым после Бога в России, даже они смотрят на меня как на государственного преступника, как на каторжника. Я уж не говорю про знать, про дворянство, армию, присягавшую мне, – Николай снова задумался, опустив взор к столу, где лежал дневник, – Кругом измена, трусость и обман, – проговорил он в задумчивости.
– Государь…
– Подождите, Евгений Сергеевич, подождите, – не дал царь собеседнику ответить себе. – Поймите, мне правда нужна, я правду знать хочу, слишком долго я принимал за истину лицедейство, за любовь лесть и лицемерие, за преданность продажную угодливость. Теперь ведь не в чести прежние устои, на которых держалась тысячелетняя Русь, теперь за правду не накажет Николашка Кровавый, теперь можно, напротив, даже почётно. Слышал я, новая власть уже предлагала Вам свободу и даже должность в Москве в обмен на…. Так что же Вас держит? Что заставляет ежедневно повторять бывшему монарху Ваше Величество?
Царь замолчал. Молчал и Боткин.
– Ну, что же Вы не отвечаете? Не знаете, что сказать?
– Не смею спорить с Вашим Величеством. Если угодно Вам, Государь, видеть во всех, в том числе и во мне предателей, то не словами о преданности мыслю я опровергнуть Вас, а самой преданностью. Кроме того, по моему твёрдому убеждению бывших Государей не бывало ещё на Руси, да не будет. Присягнув одному монарху, я останусь верен присяге до самой смерти его. А коли надлежит разделить участь с Государем моим, приму за честь. К тому же далеко не все предали Вас, Ваше Величество, не один я такой уникальный герой. Да и не герой вовсе, какое уж тут геройство. Хочу напомнить Вам ответ Архиепископа Харьковского Антония на известие о Вашем мнимом отречении от престола: «От верности Царю меня может освободить только его неверность Христу». И таковых верных в России много.
Было много…. Когда-то…. Есть ли сейчас?
Нет больше ни Вознесенского проспекта, ни одноимённого ему переулка, как нет и самого Ипатьевского дома. Всё кануло в историю – переписанную, перечёрканную, обновлённую, удобную. Остался лишь перекрёсток, как крест на этом месте – для кого-то отменяющий всё и вся, для кого-то мученический, для кого-то поминальный. Должно быть, есть и пёс, который влачит по инерции жалкую собачью жизнь да, подобно своему забытому сородичу из славного революционно прошлого нет-нет да глянет мокрыми глазами на окна домов, за которыми всё ещё живут, стараются, решают свои никогда не преходящие надобы люди.
Ловись, рыбка, большая и маленькая
Вслед за разумом и душою, так щедро подаренными нам Господом, без сомнения можно поставить в один ряд дар слова, язык, украшающий человека, как брачный наряд пылкую неискушённую невесту. Выделяющий его из ряда прочих тварей земных тем уж, что не позволяет сокрыть от постороннего наблюдателя всю полноту неиссякаемой людской глупости.
– Феликс Эдмундович, батенька, как по-вашему, каясь тепей на муху клюёт, или на чейвячка?
Немолодой, невысокий, можно даже сказать маленький, изрядно плешивенький человечек в реденьких усиках и бородке клинышком, в поношенном, но строгом чёрном костюме и белой накрахмаленной сорочке с синим галстуком в белый горошек восседал на огромном кожаном кресле кремлёвского кабинета, склонившись над обширной – во весь стол – картой Российской Империи, сплошь изрисованной красными и синими стрелками, внимательно изучая её.
– Я тут пъиглядел одно чудненькое озейцо. И подумал, а не махнуть ли нам с вами на ибалку? Как вы полагаете, батенька?
Высокий, статный, красивый, ухоженный, в новом генеральском френче без погон, в новых же начищенных до блеска сапогах, с великолепной благородной выправкой человек с аккуратно постриженной и щегольски уложенной на пробор головой, но с бородкой таки клинышком стоял рядом и искал, что ответить.
– Владимир Ильич, вы же знаете, я не рыбак.
– Зъя, батенька, зъя. Чейтовски увлекательное мейопьиятие. А как вы полагаете, Феликс Эдмундович, уклейку лучше бъять на спиннинг или на бъедень?
– Увольте, Владимир Ильич, я предпочитаю ловить рыбу покрупней, посерьёзней. Тут вот опять эсеры голову поднимают, так я думаю…
– Да-а? А может, динамитчиком шаяхнем?
– Динамитом? Не думаю. Динамитом пол-Москвы разнести можно. Тут нужна игра аккуратная, осторожная – потихонечку сети умело расставить и…
– Сети говоите, батенька? Въядли, Феликс Эдмундович, въядли. Уклейку сетями не взять, уклейка иба хитъяя, скользкая. Это вам, батенька мой, не щука.
– Ну что вы, Владимир Ильич, тут, знаете ли, дело техники. Если умело сети расставить, то не только щуку, но и акулу взять можно.
– Не думаю, не думаю, Феликс Эдмундович, для акулы озейцо маловато, не тот язмах. Вот если бы тъяуллей где-нибудь экспъяпъииёвать да махнуть на Балтику, или, скажем, в Къим…
– Ну, Владимир Ильич, с таким размахом не только акул, кита – самого барона нашего с вами Врангеля поиметь можно. Затем собрать всех вместе, поставить к стенке да из максима…
– Вы полагаете, батенька? А чего ж, можно и Гойкого с собой взять. Он, пъявда, пъивеедлив слишком, всё, знаете ли, по осетъинке тоскует. Волгай, одно слово.
Тут диалог двух государственных деятелей прервал осторожный стук в дверь.
– Да-да, – проговорил маленький и поднял глаза от карты.
Дверь раскрылась, и в кабинет вошёл кучерявый еврейчик в маленьких кругленьких очёчках и с внушительных размеров маузером на поясе.
– А-а! Яша! Заходи, даягой, заходи. Как дела твои? Мацу пъислали? Вы знаете, Феликс Эдмундович, бычок так шикайно на мацу клюёт, ничего подлец знать не хочет, ни ветчины, ни сала. А на мацу, за милую душу, как к себе домой. Послушай, Яша, а бычок – не ваша национальная иба?
– Не знаю, Владимир Ильич. Вряд ли. Я не специалист.
– Да? А кто у нас специалист по национальным вопъёсам? Сталин? Этот Дейжимойда? Ну хоёшо. Спъявлюсь у Сталина. Ты чего, Яша, что хотел-то?
– Владимир Ильич, тут к Вам мужики пришли, просят принять.
– Мужики? Какие ещё мужики? Ибаки?
– Не знаю, Владимир Ильич, может и рыбаки. Ходоки, одним словом.
– Ходоки? А-а! Ну, тогда давай, пъяси. Да, Яша, там, у Луначайсого где-то художник один был, всё пъясился исовать меня. Знаешь, да? Так вот его тоже пъяси, я с ибаками буду язговаивать, а он пускай исует себе. Ну, вот и славненько, два дела съязу ешил. Ты иди, Яша, иди.
– Вы пъедставляете себе, Феликс Эдмундович, – в крайнем изумлении проговорил маленький, когда за кучерявым еврейчиком закрылась дверь, – а ведь по паспойту Свейдлов.
– Да-а! – согласился большой. — Удивительные вещи происходят в нашем отечестве.
Через минуту дверь снова открылась, и кучерявый с маузером ввёл в кабинет группу крестьян – человек пять, не больше, в зипунах, в лаптях да с котомками через плечо. Они неловко мялись, улыбались невпопад сквозь бороды и постоянно виновато кланялись, неистово теребя шапки в руках.
– А-а-а! Товаищи даягие, пъяходите, пъяходите! – маленький вскочил из-за стола с картой и, приветливо раскинув руки в стороны, посеменил навстречу мужикам. Но целоваться не стал, время ещё не пришло. – Пъяшу вас, пъяшу к нашему, так сказать, шалашу! Да, кстати, Феликс Эдмундович, – он вдруг отвлёкся, вспомнив нечто важное, и вернулся к большому. – Вы знаете, батенька, у меня в Язливе такой чудненький шалашик имеется, и ечушка такая, знаете ли, ядышком. Я всё думаю, а не махнуть ли нам с вами на ибалку, пъямо сейчас а? Такие там, знаете ли, каясики да уклеички иногда беют, пъямо загляденье. А? Ну что? Махнём?
– Владимир Ильич, – остановил большой маленького, указывая одними глазами на оторопевших от неожиданного поворота дела мужиков.
– Что? Ах да, – маленький снова направился к ходокам. – Здъявствуйте, здъявствуйте, даягие мои! Пъяшу, пъяшу к нашему…. Мда. Пъяшу садиться. Сюда, пожалуйста. Ничего, ничего, у нас запъясто. Яша, – обратился он к кучерявому, – соойганизуй нам, пожалуйста, чаю, – и снова к мужикам, – вы ведь ещё не обедали?
– Ще не, где уж, – отвечали виновато мужики, польщённые государевым вниманием. – Да ничё, ничё. Намедни кипяточку похлебали с сахарком, да и будя с нас.
– Да? Значит, чаю тоже не хотите? Ну и ладно. Яша, даягой, не надо чаю. Пъяшу, пъисаживайтесь, поудобнее, вот так. Эй, товаищ, – обратился он к художнику, расставившему уже мольберт с холстом и чинившему карандаш. – Как вам якуйс, свет, меня хоёшо видно?
– Владимир… Ильич…, – заметался растерявшийся художник, – благодарю Вас… хорошо… всё хорошо… свет тоже… только… простите великодушно, нельзя ли… ах… как же это… если Вас не затруднит… ах… нельзя ли Вам в центр композиции?
– Ни в коем случае! – заартачился маленький вождь. – Я в пъёфиль лучше смотъюсь. Мне Надежда Константиновна говоила.
Маленький достал из внутреннего кармана пиджака расчёску, тщательно причесал лысину, подул на расчёску и отправил её снова в карман.
– Так, ну что у вас? С чем пъишли? Ясказывайте, ясказывайте.
– Да мы это… на щёт… – начал было самый старший.
– Что? Говоите, сахайку у вас много? Сахай пъинесли?
– Дык, не то штобы много, но осталось ишо маненько.
– Давайте, давайте, вон Феликсу Эдмундовичу весь сахай сдавайте. Сахаёк детям, знаете ли. Да. Что ещё?
– Дык мы и гутарим…
– Что? А Антанта вас сильно беспокоит?
– Чё? Хто така?
– Енто они, наверное, об Аньке Тарахтелке сумливаются, – подсказал старшему другой, тоже осанистый мужик.
– А-а, ежели Вы, Владимиру Ильичу, об Аньке Тарахтелке сумливаетесь, то не извольте беспокоиться. Она таперя жэншина смирная, остепенилась ужо, помногу не гонить. Так для себя, да для мужика сваво, для Миколки. Вёдер шесть, аль сем, не боле. Да. И мужуки к ней в хату больш табунами не шастають. Так, один-два для хвасону токмо, и то, када Миколка, мужик еёйный дрыхнет, самогонки натрескамшись. Так што с ентого краю у нас усё гладко. Вот.
– Ну да, ну да. Славненько, славненько. Ну а если к вам пъидёт Кеинский с аужием, что тогда?
– Чё?
– Не иначе как о Генкиной супружнице говорят, – снова подсказал другой.
– А-а! Ну, тут воля Ваша, Владимиру Ильичу, тут недогляд наш, промашка, понимашь, вышла. Ну, уж коли так, то Генка и сам виноватый. Ну скильки ж можно бабу терзать?! Она ведь женшина ещё молода, ядрёна, тильки годок, как обжанились, а он как нарежется у Аньки-то Тарахтелки, домой воротится впополаме и давай Натаху, супружницу, значит, свою по хате да по двору с топором гонять. Ну хто ж енто выдержит? Вот она его веслом-то по хребтине и убаюкала, утихомирила. А он ничё, не жалится, Вы не подумайте чаво. Он, Генка-то, её таперя сам боится, Натаху-то. Вот.
– Ну да, ну да. Славненько, славненько. Ну а как у вас с контъеволюцией? Давите гниду-то?
– Чё?
– Да про гнид, про гнид спрашивають.
– А-а! Дык мы ж их керосином, керосином. А как же ж? Отцы наши и деды тако ж с ентой гадиной боролись. Вот и мы тож.
– Пъелестно, пъелестно! Ну, что у вас ещё? Какие пъосьбы, вопъосы?
– Дык мы, товарищу дорогой, на щёт землицы-то.
– А что, у вас земли много лишней?
– Да землица-то есть, а чё с ней делать-то не знам. Мы помещиков-то да богатеев повыгоняли, а чё таперя делать-то не знам. То ли земельку-то разделить на всех поровну, то ли обчую камуну учинить? Егорка-то наш – грамотей городской всё талдычит про камуну каку-то, а мы сумливаемся. А земелька-то стоит, её ж родимую пахать уж пора. Вот мы до Вас, значить, и пришли. Растолкуйте Вы нам убогим, как ужо нам быть-то.
– Ага! Пъелестно, пъелестно! Пахать, батеньки мои, пахать и ещё яз пахать, как завещал великий…. Мда. Ну это я не пъя то завещал. Вы мне вот что скажите, а как у вас ибалка?
– Дык чё ж, дело известное, река рядом. Рыбы в ей полно всяко-разной – и шилишпёр, и щука, и плотва, и уклейка…
– Что и уклеичка есть? Пъелестно, пъелестно! А как вы полагаете, уклейку лучше на спиннинг бъять?
– Чё?
– Да не иначе как про Генкину спину беспокоются.
– А-а! Не извольте беспокоиться, Владимиру Ильичу. Оклемался сердешный. Да что с ним станется-то с горемычным, проспался и не помнит ничё.
– А Натаха-то не б… дь. Это вы зря, товарищу Ленин, – вмешался в разговор другой мужик, что всё время подсказывал старшему. – Она хоча и ядрёна баба и оченьно дажа годная к ентому делу, но мужнину честь блюдёть. Енто вам кажный скажет. А что до Яшки-подлеца, так вы не сумливайтесь, бабьи сплетни всё то и больш ни чё. Он не токмо к ёй, он ко всем бабам шастаить спьяну-то. Да всё без толку, у яго уж и не стоить-то хозяйство, всё мужско достоинство-то пропил давно.
– Да-а? Чудненько, чудненько! А я гъешным делом думал, что на спиннинг лучше. Ну ладно, батеньки мои, не буду вас задейживать. Ступайте себе, сдавайте сахаёк Феликсу Эдмундовичу и пахать, пахать и ещё яз пахать! – маленький встал, давая понять, что аудиенция окончена, и направился к карте, но резко вдруг остановился. – Да, а Антанту с Кеенским гоните, бейте её не щадя вашей ябоче-къестьянской къёви! Тейёй, тейёй и ещё яз тейёй!
– Чё? – снова не понял старший мужик.
– Да пошли уж сахарок сдавать, – опять подсказал ему другой.
Все вышли в сопровождении большого. Маленький остался один и вновь погрузился в изучение карты Российской Империи, сплошь изрисованной красными и синими стрелками.
Через несколько минут большой вернулся.
– Владимир Ильич, сахар принял, что с мужиками делать?
Маленький оторвался от карты.
– С мужиками? С какими мужиками?
– Ну, с ходоками, которых Вы только что принимали?
Маленький подумал-подумал, воскрешая в памяти недавнее, и вдруг просиял.
– А-а, с этими? С ибаками? Ясстъелять, конечно.
– Как расстрелять? За что? – даже большой удивился столь неожиданному решению.
– Я же говоил: «Тейёй, тейёй и ещё яз тейёй!» Беспощадный тейёй! Всякая еволюция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться! Чёйт возьми, забавная мыслишка, надобно записать, – и снова склонился над картой.
Большой собрался было, но замешкался.
– Феликс Эдмундович, батенька, как по-вашему, каясь тепей на муху клюёт, или на чейвячка?
Большой не ответил, он отправился приводить в исполнение приговор.
Нецелованный странник
Моей жене, самому чудному, доброму, милому,
любимому и любящему Человеку посвящается.
«Прожить
врага не потревожив
Прожить
любимых погубив»
Руслан Элинин. Русский поэт.
I