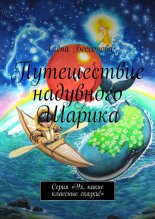Имя Твоё Богатов Михаил
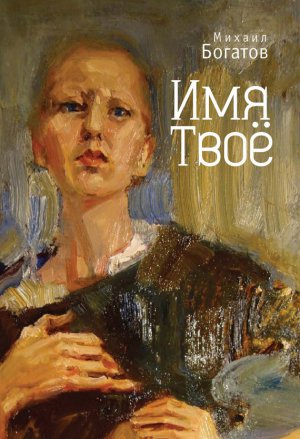
Ольга Седакова. Проклятый поэт
- Веками сотворенная печаль
- пришлась по вкусу веку: Fleurs du Mal
- залить слезами, пробежать страницы
- в запретный сад, где высохла едва ль
- одна слеза влюбленной ученицы.
- И К Лазарю твердящие уста —
- как Юлиан, приемлющий Христа,
- когда проказа пахнет адской серой,
- как на колени ставшая сестра
- перед сестрой, глумящейся над верой.
Вступление
в котором мы знакомимся с Марфой и узнаем о том, как непросто она засыпает
И когда Марфа засыпает, мечтать она принимается не сразу. А когда она начинает, то даже не понимает почему мечты её разворачиваются в приятные общем-то картины, в коих она принимает самое внимательное участие, почему разворачивается то через вздох усталости и разочарования даже, ставшего уже обыденным, ведь и в самом деле, день закончился и вроде бы она жива и здорова, и сестра её в порядке, сестре свойственном, и маменька, и папенька живы и внешне даже являют благополучие для взгляда родственного, ближнего или просто завистливого стороннего, да и она, Марфа, не желает ничего особенного, научившись желать исполняемого лишь, о недостижимом даже не помышляя, и уютно, и тепло в постели ей её, но тем непонятнее, тем сильнее действует на неё грусть отрешающая, оказывает влияние своё неблаготворное, и лучшее её самое перед сном вдруг окрашивается в тона мрачные вздоха тяжёлого, и звучит всё с эхом тоски будто, даже самое фантастическое мечтание её укутывается в тени печальные, и чем диковиннее, тем ярче кайма обрамляющая мрака, чем ярче цвета в середине, тем натуральнее по краям тоскливое обрамление, не понимает Марфа что же с нею такое, и корила прежде себя за натуру свою, недовольство неблагодарное хранящую, но то прежде, а ныне стали отвращать её от мечтаний её тени тоски и печали невнятные, и вместо того, чтобы мечтать беззаботно, размышляет Марфа теперь: почему мечтать даже не смеет ныне о приятном беззаботно, и себя понять в отношении этом стремится вечер каждый, на безнадёжность усилий этих и безрезультатность повсеместную, утром блекнущую до глупостей вчерашних хандрических, несмотря;
и когда Марфа засыпает, не в царство грёз погружается она думами своими девичьими, а к грусти, все-все мысли её сопровождающую подспудно, нисходит она и из под спуда совлечь чары её желает, и намерения собственные, но себе же тайные на свет очей собственных вывести, и причины к состояниям своим меланхолически беспричинным отыскивает, но не верит в них зато, а в то что причин быть не может или неподвластны ей они, не думает даже, увлекаясь, и причины не отыскивая, внимание на всякой подворачивающейся мелочи сосредотачивая, зато зная уже наверное, и вечером подтверждается то непременно, что хандра её вечерняя не такая уж и вечерняя, она и днём никуда не девается, так лишь, задремлет под лучами солнечными, зато днём Марфа не помнит даже этого о хандре вечерней повсеместной, не распознаёт её нигде и вечером кажется ей, будто днём она просто забывает самое существенное в себе, а днём кажется, будто по вечерам она краски себе намеренно сгущает от делать нечего или вовсе об этом не вспоминает, а днём-то делать есть что всегда, и не может иначе разобраться Марфа с этим, знает лишь, что дневная деловитая и вечерняя печальная уживаются в ней завсегда, а кто из них главная и кого из них кому подчинить, не гадает даже уже, ведь дневная всегда отмахивается от вечерних печалей вчерашних как от старья отсыревшего перед лицом дня всегда нового и всерьёз ничего не принимает, а вечерняя решений принятых не помнит утром, и остаётся теперь, ко сну уходя, третья, недавно появившаяся, которую обе прежних приняли сразу, та остаётся, которая знает: не решить этого спора печали и забвения никак, и жить с ним приходится, и что ужасное самое: дальше придётся тоже и может быть хуже, и оттого как удерживается эта третья во все времена суток, немного странно ощущает себя Марфа, и догадываться начинает вполне уже о том, что же именно третья изначально в себе внесла в жизнь её расколотую надвое: и первая вечерняя, и вторая дневная, обе суть одно, и были и есть и будут до смерти её, и одно это зовётся третьей, а вот о последней ничего сказать нельзя и вопроса ей не поставить, говорит и вопросы задаёт только она сама, и ничего не поделать с этим уже, такая вот безысходность, и с нею спать приходится так верно, как ни с каким мужем жена никакая ни разу ещё не;
и когда Марфа засыпает, не видит она, как в мечтаниях прежняя ненужность её для людей других сказывается, и каждое мечтание из ненужности этой в растения диковинные и экзотичные вырастает, и цветами оргазмическими раскрывается само собой будто, да и как Марфе это увидеть, ежели так хороша она собой, что никто не называл её уродливой или дурной, кроме случаев, редких впрочем, когда сказывающие такое теми словами в бессилии её красоту завоевать признавались лишь, и так поражение своё отмечали нестыдно для друзей, а к ней, напротив, не относилось это тогда никак, и для неё, и для подруг её дневных комплимент это был и не иначе, и говорящий это знал, яростнее ещё распаляясь, и кожа Марфы гладкая и упругая, настолько, чтобы даже знающий Марфу хорошо как сестру, такой кожи коснувшись, возжелал её будто незнакомую, и тело её страстно настолько, что кажется ей иногда, будто никто телу такому не нужен сторонний, и само собой оно довольствоваться умеет, а именно такие тела самое бурное желание со стороны и вызывают, и груди её небольшие такие, что рука любая, их коснувшись, тут же воли супротив не отпустит ни за что, знает это Марфа о себе всё, но не замечает каким всё это негодным в одиночестве хламом делается, все желания эти к ней, все прикасания и взгляды, среди людей будто назойливые мухи, успевай лишь отмахиваться то и дело, и Марфа отмахивается и в отмахивании таковом поднаторела, и редко кто цели достигает, но в одиночестве любое касание цели достигшего чуть ли не чудом вспоминается завсегда, и знает Марфа о себе людской желанной и неприступной, и догадываться уже начинает о себе одинокой и ненужной, и не может примирить этих двух, людская неприступная воли супротив в кокетствах игривых расплывается, одинокая ненужная хоть о ком, о любом, мечтает нежном, но неприступная смеётся на людях над ненужностью девичьей, а ненужная до того бессилием наполнена, что даже и не помышляет до себя боль свою донести и лишь жалеет неприступную ненужная, и себя в ней оплакивает, и сказать при всех не может, как никакая красота её ни на что не годится, и сыта ею не бывает она в одиночестве, а давится лишь, как ничтожны все эти ужимки и уловки, к себе заманивающие, оттолкнуть чтобы лишь сразу же, как они самоубийственны и унижают одинокую, и плодят лишь ненужность её, а одиночество гордостью не насытить, и самоудовлетворением не удовлетворить, и неприступностью перед одиночеством не похвалиться, аргумент жалкий, и пора бы уже не думать о том как о тебе другие подумают, коих в одиночестве рядом никогда не оказывается, а вот ненужность потоком нескончаемым во все поры кожи красивой и тела желанного другими наполняет Марфу, и ко дну печали безысходной тащит, а на дне том много рытвин и ухабов, и надежд затонувших и мечтаний детских несбывшихся, тайн и страхов собственных обретается, и не сказать желанной людьми себе дневной: пойдём со мной хоть раз, на дно наше, одинокая одна Офелией там бродит, всё чаще и чаще, и вновь и вновь узнаёт знаемое, и рыдает в подушку, от маменьки своей обряд нехороший сей перенимая, в то время как людская дневная всё более хохочет, глазки строит прекрасные умело и миленькие улыбочки всем подряд раздаёт;
и когда Марфа засыпает, начинает она охотиться за той дивной людской, ей вечерней одинокой не внимающей, и находит её тут как тут в мечтания диковинные погружённую: идёт Марфа дневная по Лос-Анджелесу какому-нибудь в туфлях красивых на каблуке высоком, по залитому солнцем непыльному тротуару, и в руке держит пакет бутиковый, где пеньюар нежнейший цветочный только что купленный обретается, идёт она к машине своей и во взглядах встречаемых людей даже зависти не усматривает: настолько она счастлива в безмятежности своей, настолько другие тоже счастливы и красивы счастьем своим, ей подобно, и никакого намёка на несчастье и бедность и злость от нищеты нет во взглядах их, её взгляд и их, встречных, все открыто смотрят и улыбаются, они все как одно целое, и она с ними там же, отзывчивые и благотворительные, но здесь они лишь покупают вещи красивые и дорогие для любви своей, и лишь если кто из них о помощи попросит, они все, и она тоже, поможет ему, конечно, бедолаге, но все знают и верят в то, что никто здесь в помощи не нуждается, и оттого легче на других глядеть, и оттого счастливее каждый здесь делается, а затем путь на машине с верхом открытым, когда ветер тёплый волосы ей развевает, нежно щекотит по шее обнажённой волосами её шелковистыми, и по плечам под тканью тончайшей, а машина вдоль побережья с левой стороны морского гладью солнечно-бирюзовой сверкающего разворачивается, и по эту сторону тротуар людьми беззаботно загорелыми и не специально красивыми полнится, они ей приветливо машут, и она им в ответ улыбается, очки тёмные на кончик носа сдвинув слегка, по правую сторону магазины с вещами дорогими, но красивыми, и с кафе под зонтиками пёстрыми для купающихся, где пьют они коктейли прохладные и о любви говорят на свиданиях долгожданных или случайных, и никакой России чтоб убогой здесь не мелькнуло, и дом на холме белый тогда встретит её воротами автоматическими, и снова вежливый пожилой садовник, отца ей её напоминающий, снова восхищённо скажет, что госпоже лучше всё-таки пользоваться услугами шофёра, на что она ответит, весело смеясь, это такое ритуальное приветствие между ними, ответит, что предпочитает сама водить машину, что ей это нравится, и садовник в шутку упрекающе закивает головой, молча поклонится и отойдёт снова вглубь сада её великолепного, а она душ примет, прохладных апельсинов выжмет в сок себе освежающий, и теперь время в бассейне поплавать, в саду расположенном, из коего вид открывается на гладь морскую бесконечную, но тут Марфа одинокая себя прерывает и, кажется, рушится всё;
и когда Марфа засыпает, она спрашивает у так мечтающей: а как же я, и не говорит ничего больше, и досаду испытывает, и в молчании длительном, в комнате, сумраком окутанной, в постели, теплом уютным пододеяльным согретая, неизвестно кто уже, какая из них, говорит: быть знаменитой и любимой, что в этом плохого, но ответа нет, и тогда поправляется Марфа: быть богатой и любимой, что в этом плохого, а любимой и небогатой, будто спрашивает тишина комнатная с изредка доносящимися из окошка издалека проезжающими машинами, тогда всё как в России будет, а я не хочу как в России, а что там нет бедных, не в России, хорошо, сдаётся на милость молчания, давящего своим упрямым сопротивлением и клонящего неизвестно к чему, мне всё равно где, но быть любимой так, чтобы бедность не мешала любви моей, и теперь молчание долгое, и не спрашивает уже ни о чём вовсе, и даже не кажется, будто спросить желает, но Марфа не вытерпливает, отвечает: нет, любовь не может длиться изолированно, но почему она не может, ведь любовь может всё, нет не может она всего, если Бог, Бог любовь, то Он может всё, а сама по себе безбожная она ничтожна, слышишь, Марфа, ничтожна, но Марфа не желает слушать, хотя и знает, что это правда, и что дневная в мечтах солнце тем ярче представляет, чем яростнее от одинокой хочет избавиться и заглушить её вопросы, и каблуков таких она никогда не надевала, да и надеть не сможет на людях реальных, лишь вымышленных;
и когда Марфа засыпает, она продолжает мечтания свои без энтузиазма прежнего, она в новом пеньюаре и входит в спальню к ней Он, и она даже не хочет видеть Его лица, и знать о Нём ничего-ничего не желает, кроме двух вещей, Он пришёл к ней, потому что её любит, и это именно Он, а не кто-то другой, но если Он здесь она и так это всё уже видит исполненным, всё это уже сложилось, если уж она это знает и лежит здесь, и потому она к Нему спиной лежит, и это здорово, что можно вот так вот быть здесь себе спокойной и затаённой одновременно, а там, позади, Он глядит на неё с желанием и некоторым опасением отказа, но желание побеждает, и Он к ней приближается, она Его не видит, и хотя ждёт, но всё равно неожиданным оказывается вдруг Его касание к плечу её;
и когда Марфа засыпает, она сама не ведая как, начинает под простынёй ласкать себе грудь, сначала двумя руками, но она этого не памятует, а затем уже одной рукой, потому как другая водится сама собойно по живота её глади и вниз готова спуститься уже вроде, но теперь Марфа останавливает себя не без трепета, а со стороны ещё и усмешку даже на лице своём клейко нацепленную видит будто: считаешь это недостойными фантазиями, спрашивает тишина Марфина у Марфы, а какие фантазии достойны были бы внимания твоего высочайшего, быть богатой глупой романтичной дурой плохо, хорошо, но быть не дурой лучше почему, скажи мне, почему, не потому ли, что все вокруг глядя на тебя дуру скажут: дура, а глядя на не дуру, скажут: не дура, да, но ни дуре, ни не дуре до окружающих дела нет особого, первая занята своими глупостями, вторая своими умностями, а ты, если ты думаешь об этом и себе сама мешаешь, не мнишь ли ты себя выше ума и выше глупости, или даже вне, по ту сторону, так сказать, но что это за сторона, знаешь, нет, чего же молчишь, а;
и когда Марфа засыпает, странно сменяются её мысли о фантазиях недостойных самими фантазиями недостойными, а руки её и тело её то удовольствие извлечь взаимно устремляются, а то покоятся как ни в чём ни бывало, и ежели кто спросит Марфу, мечтает ли она сейчас, и да и нет можно сказать, ласкает ли себя она, и да и нет можно сказать, и если кто спросит Марфу первое или второе, то в ответ она либо спящей притворится, либо ответит: а вам какое дело, и это зависело бы от того, кто именно спросит, и она снова о таком именно Нём мечтает уже, и ласкается, и вопросы неприятные задаёт, но помнит пока ещё, что никто не спросит её ни ласково, ни грубо, ни нежно, ни площадно, ни лирично, ни комически, а потому мечты её хоть и завлекают, да снова в тенях мрачных за светом их манящим маячат тоски унылые фигуры, но не смотрит она на них, и видит она их, и всё это сразу же;
и когда Марфа засыпает, в мечтаниях её Он именно и никто другой касается, а мечты прерванные вопросами неуместными, со стороны тишины шелестящими, выглядят уже не увлекательно, будто запах какой из мира исчез насовсем, а всё прежним осталось, и никто в мире всём о запахе том исчезнувшем не ведает и не ведал никогда, а кто ведал, тот не заметил, упустил невнимательно, и одна лишь Марфа по миру этому бродя, о запахе исчезнувшем помнит, и не исчезни запах этот, она до старости почётной и смерти спокойной через жизнь всю о нём не вспоминала бы, и даже не ведала о том бы, что жизнь её спокойна оттого, что в мире где-то есть что-то пахнущее так-то, а теперь, когда это исчезло, жизнь обеспокоилась, стала угнетать себя, и вроде ничего бы, всё как и прежде, ан нет, нет где-то этого запаха и вещи этой нет, и потому о ненужности этой постоянно помнить приходится, и необходимости черты она приобретает, и манит уже невыносимо, и тяжким делается всё остальное, прежде надобное, а ныне избыточное, и тогда понимает Марфа, что дело не в запахе этом поганом, ведь это запах мочи кошачьей быть мог, скажем, нет, не в запахе дело всё, а в полноте этого всего, и любая мелочь несущественная и ненужная полноту эту собой крепит, и какие глупые те, кто желает мир этот улучшить, от лишнего чего-то его избавив, об этом иногда перед сном Марфе тоже мысли приходят, но теперь фантазии остановленные мыслями, вернуться в них если, вдруг оказываются как бы запаха этого мочи кошачьей лишены, и хоть в фантазиях даже не было намёка на кошачье присутствие, и намёка не было на наличие отходов жизнедеятельности кошачьей, а мир фантазий распадается прямо-таки, и всё то в нём и не то уже, и тогда Марфа усложняет мир этот, возгоняет воображение и руки свои в интенсивность приводит, как раз от утраты силы фантазий возбуждающих, а не от возрастания оной, появляются любые элементы новые, лишь бы целостность вернуть былую, вопросами испорченную и печалями затенённую, как утром встаёшь, сон хороший прервав, который сам по себе снился, и силишься его вернуть, снова улёгшись спать, и не можешь, и всё, само собой что приходило во сне, насильно туда пихаешь, а запихнуть уже не удаётся, и не может также Марфа в мир фантазий своих вернуться, ибо целость его не она придумывала, не в силах она к тому и никто, кроме Бога не в силах, она лишь оказывается там случайно, но во всём сразу готовом, и единственное, на что способна она, это портить целость не ею созданную намерениями и вопросами своими, сомнениями и даже тишиной своею, и говорит Марфа вслух, хотя и тихо: всегда я всё порчу, всегда у меня всё так, и вздыхает тяжело, и фантазию искусственно выглядящая, ныне ещё бледнее делается оттого, и ещё больших спецэффектов требует, и в тягость она уже невероятную Марфе, а сна нет, и разрешения ещё не наступило хоть какого;
и когда Марфа засыпает, царапать принимается, что сил имеется, воображение своё, под гнётом другой Марфы изнывая, и кажется Марфе засыпающей будто та, другая Марфа, глядит на неё, эту: руки на груди скрестила и усмехается, и говорит она себе: ну почему ты всегда мне всё портишь, почему я себе сама всё порчу, и стыдно становится ей за фантазии свои, из-под надзора романтического ушедшие невесть куда, и теперь в доме её идиллическом, на берегу океана который, уже неразбериха начинается какая-то, даже непотребщина рода всякого: хотят её ныне не Один и Тот Самый, а множество случайных, хватают они её за тело повсюду, и уворачивается она от них, извивается покуда сил достаёт, но они не отступают, насилуют её по-разному, другую Марфу отгоняя, игнорируя взгляд её укоряющий; разрешается Марфа оргазмом от бремени ласк обременительных ставшими, и тут же преображается весь строй мыслей её, и, хотя тело распалённое жаждет продолжения, но нет, Марфа теперь не такая уже;
и когда Марфа засыпает, говорит она себе: нет, я готова продолжать диалог с Марфой другой укоряющей, но нет никого здесь, одна лежит она, и не было никого с начала самого; ну и замечательно, со вздохом говорит Марфа, не без удовольствия в голосе, тем не менее, я и была одна всегда;
и когда Марфа засыпает, молитву читает она про себя: отче наш, и старается ни о чём более не думать, да святится имя, глаза закрывает она и на бок поворачивается, да приидет царствие, и думает о Боге она тогда, даждь нам днесь, ничего не прося у Него, остави нам долги наша, но лишь благость в Нём усматривая, себе самой достаточную, не введи во искушение, и перед тем как в сон провалиться: не постепенно войти, будто в чертог ей уготованный, но с обрыва невысокого в воду тёмную реки какой прыгнуть, дна не ведая, ибо Твоё есть царство, во имя Отца, чудится ей: никакая она не Марфа, во имя Сына, и кто она такая не ведает она уже, во имя Духа Святого, и быть она может кем угодно, и жутко и спокойно ей делается от молитвы этой ею же досочинённой, аминь, но спит она уже; и когда Марфа засыпает, начинают ей сны снится.
Часть первая
в которой мы узнаем о том, что будет, если священника и офисного работника посадить на один необитаемый остров, как пьют пиво австралийцы, нужно ли делать другим добро, почему в автобусе было холодно, что значит умереть с головной болью – и кое-что еще
Началось всё с того, что отец Георгий нарушил тайну исповеди. Нет, конечно, началось всё с того, что вначале было Слово и оно было у Бога, а о том, стало быть, есть иная книга, не чета этой, Книга Книг. Но пусть раздвинутся столь плотно стоящие ряды книг, что в них нельзя вклинить даже тоненькую тетрадку в клеточку с первыми юношескими стихами, признающимися в любви к той, которая о любви этой никогда не узнает, к счастью для стихотворца, к счастью, о котором он сам узнает лишь повзрослев, а пока мнит себя в пучине страданий, которых не сносила еще ни одна человеческая душа до него, пусть раздвинутся эти пыльные тома, чтобы включить в себя ещё одну, всего лишь одну, и не столь поучительную, уж точно не в пример до сих пор написанным, историю. И пусть затихнет на мгновение, лишь на мгновенье, весь ор гремящих говорящих-переговоренных слов, которые настолько выговорили всё возможное, что уже даже невозможному некуда здесь приткнуться, и которые так заполняют весь воздух вокруг, что нельзя раз вздохнуть, чтобы не выдохнуть при этом что-нибудь чужое, сказанное кем-то всуе, пусть и искренне, но может ли быть чужая искренность таковой, пусть лишь затихнет на мгновенье, и в это мгновенье вместится начало этой истории, начало тихое и в наше нерелигиозное время вроде бы даже пустое и как будто ничего не начинающее, не способное зачать даже анекдота, но даже оно требует тишины, вопиет к ней, поскольку в тишине мыслей отца Георгия, мыслей далеко не святых, но мыслей, движимых искренним желанием помочь одному несчастному, всё и начинается. Повторим для непонятливых и расстанемся с ними здесь навсегда, ибо с ними далеко не уйдешь, повторим, что с мыслей отца Георгия, отнюдь не святых, началось не всё вообще, но началось всё всего лишь здесь. Это для нас всё здесь суть всё вообще, а для остальных – лишь продолжение того, что началось со Слова, которое было у Бога и которое было Бог. И у отца Георгия было слово Бог, хотя сам он отнюдь не был богом, и даже при этом, несмотря на эти далеко не библейские обстоятельства, началось всё тогда, когда в его мыслях был далеко не Бог, а как раз Бога никакого не было, а потому были лишь люди и их жалкая слепая судьба. И даже если и не существовал никогда Бог, то это обстоятельство вовсе не отменяет тайны исповеди, поскольку не Бог эту тайну устанавливал, но Церковь, и, коли уж на то пошло, для атеистов, с которыми нам тоже тут же придётся расстаться, так вот, атеистам можно сказать, что не Богу служил отец Георгий, а в Церкви; здесь-то уж должна быть понята разница, а точнее то, что никакой разницы-то как раз и нет, потому что, к примеру, работник конторы служит в конторе, но от этого отнюдь ещё не решено кому или, точнее, чему он в ней служит; если же кто-то желает избежать подобных измышлений и сослаться на замену слова служба словом работа как на более корректное словоупотребление, специально для них мы скажем, что, например, после работы можно не работать, а вот после службы вообще не бывает; служитель Церкви служит всегда, даже если многие считают его бездельником, будто он вообще не знает, что такое настоящая работа, так вот, служит он всегда, заботится о тех заблудших и ищущих душах, которые обращаются в прозрении своем и в помощи, а тем паче беспокоится также и о тех, которые вообще никуда не обращаются, почитая себя уже спасенными или же, что никакого спасения вовсе и не существует, а потому им оно и не требуется. И можно, конечно, ради забавы мысленно поселить на первый необитаемый остров служителя Церкви, а на другой, не более обитаемый, конторского работника, да и посмотреть кто из них быстрее по-настоящему взмолится, да только смотреть за этим некому, кроме как Богу, а стало быть, не будь Его, мы эту забаву даже в мыслях осуществить бы не смогли, не то что снарядить корабли или вертолёты наяву, тем паче, что на нём, на яву на этом, необитаемых островов для священников и конторских работников не хватит, даже когда их выдавали, то, помнится, на остров Святой Елены отнюдь не святой и не конторский работник был отправлен; не хватит островов на всех, даже если конторских работников куда больше чем священников, всё равно не хватит, потому что когда не хватает, спрашивают не о том, кому больше не досталось, но смотрят со всей очевидностью лишь на тех, кому больше остальных досталось. Да, так вот, если бы даже отец Георгий попал в привилегированное число тех, кому хватило, и, предположим, сказался бы на том острове тот самый конторский работник, в самом деле, почему бы не сажать их по двое на один остров, и будь при этом отец Георгий уверен, что никогда с этого острова никуда уже не денется, то было бы ещё очень большим вопросом, нарушил бы он течение длительных бездеятельных жарких дней и не менее длительных, но более деятельных для сугрева ночей, проведенных в пустяшных обсуждениях с этим самым конторским работником, нарушил бы он, мы спрашиваем, эту самую пресловутую тайну исповеди: спрашивать-то мы спрашиваем, и от этой настойчивости нашей должно сложиться впечатление. что, если мы так спрашиваем, то и ответ нам должен быть известен, да только для пущего эффекта прячем мы ответ этот в рукаве, чтобы вот тотчас, раз, и ответить им, покрыть, так сказать, перед изумлённым взором напряжённых игроков дыру собственного вопроса заранее подобранной пробкой деревянного ответа, или, чтобы уж не путаться, покрыть масть вопрошания джокером сильного от безразличия утверждения. Почему деревянным и почему безразличным; а каким же он может тут быть, где спрошено так, что и ответить-то можно лишь однозначно: да, нарушит или нет, не нарушит. Но если Бога нет, то мы даже этой примитивной однозначности дерева и безразличия усмотреть не сможем. А уж ежели Он есть, то, как известно, неисповедимы пути Его, а мы все этой самой неисповедимостью божественной и бродим под небом. Отец Георгий, напротив, некоторое уже время ходил с исповедимостью в душе, причем душа была его собственной, а вот исповедь, а вот исповедь, которую он в ней носил, чужая; не совсем, конечно, чужая, бывали и чужее, да не своя уж определённо; была изначально не своя, а как вместилась в душу, так впору пришлась, что никаким уж конторским работникам её оттуда не вырвать. Иначе говоря, стала она такой родной, исповедь эта, что отец Георгий стал с нею обращаться как с собственной; так и вышло, что тайну чужой исповеди он никогда бы не нарушил, ибо вмещает её в свою душу лишь на божественное усмотрение выставляя, а не для любопытных глаз, ушей и языков окружающих, прочь язычники, ушники и глазники от принятой в душу священника исповеди, чужую бы нет, не нарушил. Или, по-другому говоря, не пожелал бы зла другому, в то же время как в отношении себя бы зло стерпел, ибо Бог велел, да и характер позволяет. И стерпел бы отец Георгий это зло, из благих побуждений выложив третьему, а если учитывать присутствие Бога, которого отец Георгий в тот миг как раз и не учёл, специально не учёл, то – четвёртому заинтересованному лицу, то, что его, этого лица и не только его лица, касалось, но что вовсе не предназначалось для высказывания этому самому четвёртому, а без учета Бога, третьему лицу, а точнее даже не предназначалось ушам этого самого лица; а вот являются ли уши частью лица, хоть третьим его без Бога считай, хоть четвёртым с Богом, или же уже находятся за его, лица, пределами, отвечать мы не собираемся, ибо не в нашей компетенции такие фундаментальные и вечные вопросы поднимать и освещать ответствованием.
Куда туманнее выглядит для нас то, что наступило сразу же после нарушения этой самой тайны, туманно как в отношении отца Георгия, так и в отношении всего мира, из чего, тем не менее, вовсе не следует, что отец Георгий воплощает собой весь мир, или же, что интереснее, что весь мир этот наш только и делает, что воплощает собой отца Георгия, ведь было уже сказано, что отец наш Георгий не Бог, а Бог Отец наш, а коли даже и был бы отец Георгий Богом, откуда же нам знать, хватит ли мира на целого Бога или же достанет ли Бога на мир, будь Бог священником, в чём-чём, а в этом мы совершенно бессильны и некомпетентны. И даже так сказать, нам видится туманным то, что стало, с одной стороны, с отцом Георгием после нарушения им тайны исповеди, и, с другой стороны, что стало после этого события с миром, даже так сказать мы не можем, поскольку представить себе не в силах сторонами чего и кому эти, одна и другая, могли бы явиться. Кроме того, есть столько же поводов говорить о нарушении тайны исповеди как о некоем событии, сколько и расценивать его, это самое нарушение, как банальную случайность. Либо вообще как ничто. Ведь если отец Георгий и нарушил тайну исповеди, то он никому не нарушил само это её нарушение, а потому лишь Господь мог бы сказать нам это, но всё, что Он мог сказать нам, мы можем сами прочесть в текстах Священного Писания, уже упомянутой Книге Книг, где, из текстов этих мы с искренним изумлением и даже отчасти с негодованием узнаем о том, что про отца Георгия и его проступок Господь там ничего нам как раз и не говорит, вот и явилась нам ещё одна случайность, вроде как и совпадение тупое даже, какое бывает, когда кто-то нарушает закон и его, раз, и не поймали, либо же, два, и поймали. По-крайней мере, отца Георгия никто не поймал и ловить не собирался, но мы-то уже понимаем, догадываемся так сказать своими догадками, что если кто и не пойман, то вовсе из этого не следует, что не вор он, непойманный этот, а скорее наоборот из этого следовать может; в самом деле, с чего бы это кому-то невора случайно не изловить: глупости всё это одни и не более. Понятно только, что нечто произошло, вообще что-то произошло, из этого нарушения исповеди, даже если и не было его, нарушения этого, и даже если отец Георгий никакой никому не отец и никакой никому не Георгий, но мать шести детям почтенного весьма семейства, к примеру, в самом деле, откуда нам с вами, тут находящимся, все эти подробности смочь разглядеть, если, к тому же, мы с вами вообще непомерно разделены, да так непомерно, что даже померев, этого разделения не преодолеть нам с вами, никаких нас с вами не существует даже, лишь нас, вами, через запятую. Лишь здесь, возле отца Георгия, нарушившего тайну исповеди, столкнулись мы с вами лбами, сгрудились, так сказать, как случайно проходящие зеваки на кошмарно закономерную смерть, и нам даже не важно уже, и никогда мы этого отныне не узнаем наверное, отец Георгий, нарушивший тайну исповеди, не является ли он сонным и развалившимся в шезлонге, в тени, австралийцем, разглядывающим издали прыжки кенгуру потому только, что смотреть больше не на что, или же матроной, повелительно указующей своим толстым кривым пальцем, с дорогим перстнем, на дверь незадачливому похотливому другу незамужней и чересчур молодой её дочери; мы с вами не узнаем этого, и всё же, грудой нависли, каждый своей грудой, а если сказать нежнее, то грудкой или же грудью, представление того насколько непрочен и химеричен любой наш с вами союз, наверное, уже получено, покончим с этим и двинемся дальше, сгрудимся, солбимся и слоктимся, некоторые даже могут слоктаться потихоньку, не отвлекая остальных, двинемся так, чтобы узнать, что будет дальше. Но тут наверняка появляется он, тот кто всегда мешает следовать общему желанию двигаться дальше, и не тот, кто желает двигаться, напротив, ближе, но тот, кто вообще не желает двигаться, этот совершенно бессмысленный для любого, даже столь химеричного и несущественного, наподобие нашего с вами сообщества, человек. Он появляется и говорит: постойте, будто мы уже ушли, лучше бы нас вообще не было, постойте, но о чём тогда вообще можно говорить, говорит он, если даже отец Георгий, нарушивший тайну исповеди, единственное, что нам было известно до сих пор, о чём можно продолжать говорить и полагать, что движешься дальше, если даже это единственное может оказаться не тем, как оно нам уже предстало; прервать в клочья это возмущение можно единожды и лишь с первого раза: говорить можно вообще о чём угодно, мы это и делаем, полагаясь на литературу, даже Господь в Священном Писании своём на неё положился, но, обратите внимание, из этого вовсе не следует, что мы произвольны в своем именовании отца Георгия отцом Георгием, а тайны исповеди тайной исповеди. Мы к тому лишь, что всё так названное может затем или с самого начала даже оказаться совсем не тем, тем, что так не называется. Мы уверены лишь в том, что не изменится то, что мы, пусть и неверно, здесь называем. И у нас нет времени ждать, пока это само назовётся, к тому же само никогда собственно и не называлось с начала, и даже у Бога, как уже упоминалось, был не он Сам, но Слово, пусть оно и называлось Богом; само никогда не называется изначально собой, а лишь впоследствии отзывается словом Нет на свое всегда не то именование. Вещи и люди сами собой говорят лишь Нет, и воистину мудрым посчитаем мы того, кто видит это, не в пример вот этому, так нетактично нас остановившему. Вот и нам уже отозвалось своим Нет то, что мы тут назвали нарушением тайны исповеди и тот, кого мы назвали тут отцом Георгием, мы это отчетливо слышим, и потому честно предупреждаем об этом отозванном возгласе сразу. Но если кому-то нужно больше точности, пусть он на этом и остановится, на чём остановился, точнее Нет вещей и Нет людей, простите за это слово, начинает приедаться и припеваться, ничего точнее, значит, нет.
Но всё завершилось стремительно, да не по кругу, как водится у тех, кто оседлал коняшек карусельных, а под откос, и трудно себе представить, какие изворотливые вращения претерпевала душа отца Георгия, извращаясь самой себе супротив, какие томления измышляли его в терзаниях, под конец таки истерзавших его не под чистую, а в грязь мерзостную, и не понятно совсем уж никому, откуда здесь взялся взгляд похотливой девчонки, которая смерила своими тёмными очками рясу отца Георгия, очками, видящими лишь глянцевые оболочки пустых журналов, и даже не похотливый взгляд, ведь все видели журналы, но не становились от этого похотливыми, хотя, может и становились, кто же их знает, но просто не ясно, откуда отец Георгий почувствовал, что от неё вот, именно от неё, пахнет слиянием, потной постелью, откуда понял он это, ведь не думал до того ни разу, не о постели, разумеется, в которой каждую ночь засыпал, и не о постели с женщиной разумеется, даже с такой юной как эта девочка, о чём думал тоже, но мысли гнал, а о том, что может вообще такой запах быть, к тому же там, где он в принципе невозможен, девушка шла по другой стороне улицы и наверняка пахла духами, а отец Георгий, Боже упаси, не парфюмер. И если от этого Боже упас, то от остального совсем наоборот, даже если и не было ничего из только что сказанного, кроме извращений души, томлений духа и коловращений осиновых в сердце вампирском. Прежде чем не стало отца Георгия, дел он натворил своих в мире не меньше, чем в мыслях, покаяние коим лишь понимающие люди да Бог обрести смогут, а таких мало встретить можно, некоторых же вообще никогда, в то время как девушек, издалека раздающихся тленом постельного слияния, встречаешь куда как чаще, на каждом втором шагу, даже если шаги твои обряжены в шорохи черной рясы. Что натворил отец Георгий, повторяем, нам неизвестно, равно как и то, о чём он при этом или до того думал, а зарисовка, точнее заговорка с девушкой, невожделенно вожделение раздающей тут могла появиться просто так, поскольку какое дело, например, было бы до неё отцу Георгию, будь он той самой матроной с кривыми пальцами, особенно с указующим, какое, кроме завистливой ненависти? Или же, будь он тем самым вялым австралийцем, какое ему было бы дело, кроме слащавой и трусливой похоти? Но ни ненависти, ни похоти отец Георгий в своем сердце никогда не держал, а потому, почитай, и не испытывал. Так бывало, раз кольнет вспышка в груди ненавистью или в желудке похотью, но не даст им слиться отец Георгий воедино, не возбуждает его ненависть, и не испытывает он ненависти к вожделению, нет, отчаянием и болью, требующими исполнения молитвы, заполняет отец Георгий мельчайшие промежутки времени между тем и другим, такие мельчайшие, что даже лезвие ножа не вставить меж ними без помощи освящающей молитвы, как в случае камней пресловутых египетских, то есть языческих пирамид. Вот так и мазал раствором молитвы отец Георгий тесанные рабскими страстями булыжники ненавистей и похотей, так и создавал он для своей пирамиды вид и форму отчаянной боли, скрепляющей в человеке лучшим самое постыдное, так и порождал он день за днем в себе чувство, что всё, без молитвы бывающее, лишь отчаянием и болью крепится, и лишь молитва, пусть самая краткая даже, Иисусова, лишь молитва позволяет покаяние почувствовать и освобождение обрести, дабы хоть глазком одним окинуть величайший план пирамиды своей жизни, окинуть так, как никакой строитель сделать не смог бы, ибо умирает ещё до завершения постройки, аккурат в момент, когда упадёт на него камень последней страсти. Но посредством молитвы вознесение в мыслях отец Георгий обретал и созерцал величие замысла Божия в отношении никчемности его, отца Георгия, прискорбного прозябания в плотской жизни. И потому не причём тут эта девушка несчастная и пусть идет себе куда шла, с Богом, к чёрту.
А пока уходит она, посмотрим ей вслед, не с похотливым намерением, конечно, а мысленно благословив, как любую тварь должно благословлять, на земле обитающую и в греховную материю свою душу вместившую, ведь все заслуживают искреннего сострадания, и эта дева похотливая не меньше, чем отец Георгий в сострадании нуждается, и никто кроме Господа решать не в силах и делить живущих на сострадание достойных либо же нет. Никто, и даже отец Георгий, а смотреть вослед уходящей уже не опасно вовсе, подлинная опасность соблазна исходила от чёрных стекол глаз её, тут она похотливо вторгалась в душу всякого, кто мужеским полом наделён от природы своей, и, притом, этим наделом дел наделать способен нечестивых. Если же похоть не покинет отца Георгия, когда он вослед обратится к ушедшей и давно уже скрывшейся с глаз девушке, то верным свидетельством для всех будет, кто отца Георгия знает, что сам уже отец Георгий похотью воспылал, а девушка совсем не причём тут, поскольку станет она тогда жертвой чужих страстей, а не охотницей собственных удовольствий, что часто бывало не только с отцом Георгием, к примеру, коего повторять и примерять никому не следует, а со всеми и даже со святыми, и возможно с ними больше всего случалось, воспылавшими хоть раз в жизни страстью великой и преступной к изображениям девы Марии, или, что хуже намного, зато встречается реже, к обнажённому телу Христову взгляд непростительных желаний полный украдкой поднимавших, и тело
Христово, что понятно, это не хлеб тайной вечери, а вполне себе мужское тело. Но кощунственно вне всякого сомнения вязать в один узел тело Христово, вдохновением небесным в своем изображении освящённом, с исчезнувшей из поля зрения отца Георгия живой и даже непростительно живейшей девушкой, и хоть Господь и Сына своего, и девушку эту в равной мере к миру приобщил, но сделал он это с разными намерениями, если вообще о намерениях Господа мы сможем говорить осмелиться. А подумалось отцу Георгию, что вот поразительно похожа та, у кого он исповедь эту несчастную выслушал и принял, девушка чересчур почтенная, поразительно похожа она на вот эту, только что прошедшую мимо, похожа, да не она. И занялись мысли отца Георгия дивным изумлением полниться, отчего это между тем, что почти свято и тем, что почти нараспашку развратно, сходство дивное имеется, и стал думать отец Георгий, что сходство это вопреки божественным устремлениям в мире божьем пребывает, и что взгляд, усмотревший сходство любого рода между святым и развратным, не иначе как сатаной направляется, и не иначе как по его наущению видеть способен. А пока ужасается отец Георгий открывшейся ему очередной бездне страха, сколько он их уже вынес за последние дни жизни своей, пока страшится отец Георгий того, что он сам уже в самую глубокую бездну стремительно несётся, которую геенной огненной называет кто о ней знает, пока бормочет отец Георгий молитвы с просьбой защиты и спасения, пока припоминает он подходящие места в псалмах ветхозаветных, припоминает с всех сил и припомнить не в силах, зададимся вопросом и мы, поскольку можем себе наивно представить, что не касается нас суеверием внушённая опасность сатанинского искуса, поскольку полагаем себя достаточно защищёнными от всего этого тонким, но надёжным листом бумаги, на котором эти строки выведены, пока мы думаем, что нас-то ничего из тут говоримого нисколько не касается и коснуться лишь в целях развлекающих может, итак, пока лжём мы себе о себе и заблуждаем себя в книге, спросим: откуда же отцу Георгию настолько хорошо известна внешность той, которая исповедалась ему и чью исповедь он нарушил, ведь коли не видел её отец Георгий прежде, не смогло бы ему в душу сатанинским наущением запасть Богу не угодное сравнение и уличение в схожести греха и святости, уж не нарушил ли отец Георгий требование не видеть того, кто ему в сердце своем исповедуется, а коли так, можем мы возмутиться, непонятно почему правда, католическим нарушениям этим, и успокоиться на том, ибо принятая неподобающим образом исповедь исповедью зваться не может, а потому и нарушить её собственно никак не возможно. И здесь уже придётся вникнуть-таки в некоторые, почти пикантные подробности этой самой истории, вникнуть не с алчным интересом уже упоминавшихся любителей катастроф и смертей, равно как и не с интересом ещё не упомянутых, но куда же без них, любителей светской хроники и сплетен вокруг знаменитостей и богачей пускаемых, но вникнуть единственно ради того, чтобы сообщить окончательно и бесповоротно о том, что исповедь отцу Георгию была высказана даже не в пределах дома Господня и с нарушением почти всех возможных требований церковных, но, тем не менее, будучи так неподобающе принятой, оставалась исповедью, и, следовательно, могла разглашению подлежать, точнее, как раз, разглашению подлежать никак не могла, и, тем не менее, разгласилась. Здесь мы уже обратимся к некоторым особенностям положения отца Георгия, которое он в этом мире занимал, покуда его не призвал к Себе, а Кто его призвал, Бог или же дьявол, знать не можем, покуда его не призвал к Себе Кто-то в иной этому миру мир, в горний или же в геенну, которой так ныне и не без оснований на то опасается отец Георгий, можно сказать наверняка было бы, лишь установив Того, Кто отца Георгия призвал к Себе, что, повторяем, нам никаким ведом не ведомом, да и как мы могли бы установить этого Самого призывающего, если Сам Он нас всех вкруг Себя устанавливает и находится тут вечно?
Церковь Святого Иеронима, к которой в службе своей принадлежен был отец Георгий, слыла самым крупным приходом в районе Города, имя которого упоминать здесь смысла нет, не в целях ложных конспирации либо же кокетства, но лишь в силу несущественности оного, не знаем мы, воистину не знаем, как этот Город назывался и даже предполагать того не хотим, как он называться мог бы, не хотим исключительно в силу лености своей, на которую теперь имеем полное право, поскольку нет ничего зазорного в той лени, которая предотвращает нас от придумывания имён несущественным для истории деталям в несуществующем повествовании. Достаточно сказать только, что в истории этой мы той самой ленью руководствоваться повсеместно будем в полной мере, и доказательством тому пусть послужит отсутствие имён у всех людей, которые до сего момента упоминались, за исключением отца Георгия, несмотря на то, что все эти вышеупомянутые свои имена имеют и имеют на имеющиеся имена свои именные права, и австралиец, и матрона, и её дочь, и жених её дочери, и мать шестерых детей, и каждый из шестерых детей, и девушка, прошедшая по улице. Её имя мы, впрочем, еще может и узнаем, и даже вскорости, за остальных же ручаться не будем, они бы за нас и историю нашу точно бы не поручились, гроша ломаного не дали бы, а дали бы лош громанный, а вдруг придумается имя кому-нибудь из них вопреки плодотворным усилиям лени нашей, да и прорвётся словом на чистую страницу, кто же его, это имя, знает. Вот мы пока не знаем и знать не хотим, о чём и сообщили. Из этого не следует, правда, что то, что мы знать захотим, мы непременно и с необходимостью узнаем, и ближайший пример тому неизвестный путь души после смерти отца Георгия, путь, его душой проделанный, о котором нам очень хотелось бы узнать и изложить тут во всех подробностях, встав на полку к Данте, однако же нет, не ведаем, не знаем, несмотря на отсутствие лени и на присутствие хотения в этом самом направлении. Что же касается Города, то он в этой истории будет всего один, будет еще усадьба загородная и дача летом жарким, Деревня детства далёкого, да и Столица, возможно, когда-нибудь будет, а пока нет её, и не предвидится. Церквей в Деревне одна, в Столице имя им легион по числу, да и в Городе немало, хотя до числа зверя еще расти и расти, есть куда стремиться, вот только известно точно, что церковь Святого Иеронима в завидном географическом, точнее экономическом положении по отношению ко всем городским церквям находится, живут тут несколько сотен верных прихожан, а собственности и богатства на их души приходится столько, сколько у оставшихся тысячей тысяч нет. Похоже, не пристало нам здесь по меркам этим низменным мерить положение церковное, ведь будь даже церковь Святого Иеронима церковью Всех Юродивых, которая, напротив, находится в самом нищем квартале Города, служители её всё равно все были бы равны перед Господом в несении службы своей к спасению души призывающей и через путь отречения мирских богатств ведущий, но, видимо есть разница какая-то даже для руководства церковного в том, чтобы либо спасать души, за душой у которых гроши, спасать между делом и по случаю, либо спасать души, за душой у которых душок денежный веет, спасать усердно, днём и ночью, когда все бедные люди давно уже пьют в несчастиях своих и спят в беспросветной безнадёжности нищенства своего. Служитель Церкви служит всегда, о чём уже упоминалось в самом начале, более того, он служить так призван, чтобы служба его как можно лучше могла отправляться, а потому приходится считаться её служителям с прихожанами и их образом жизни, не чтобы угодить жителям богатого района, как о том помышляют жители бедного, но чтобы Господу угодить в душеспасительном деле Его, в спасении душ жителей богатого района, душ, которые так и норовят в бездушные золотые слитки обратиться, о чём благодаря языческому царю Мидасу всем христианам известно стало. Ведь даже служители церкви Всех Юродивых считаются с особенностью нравов своих ближайших прихожан, и тут уж, дабы лучше спасать приходские души, надобно постоянно заботиться о спасении своих священнических телес, и запирать на ночь церковь Всех Юродивых, предоставляя дело ночного спасения прихожан делам рук самих прихожан, рук и прочих органов правопорядка и не очень правого порядка.
Так и выходило, что отец Георгий имел постоянные беседы с жителями богатыми и знаменитыми, ежели со стороны глядеть, а по сути всё с теми же заблудшими овцами, не менее остальных нуждающимися в пастыре, да только менее остальных об этой своей нужде ведавших; а потому постоянно не достаёт у них времени на подобающее всякой христианской душе посещение служб церковных во время их проведения. Службу в угоду занятости мирской, естественно, никто не переносит, зато служение Господу тут выходило в силу этих обстоятельств за время непосредственного отправления службы, и выходило почти всегда за пределы самой церкви. Ходили священники часто по приглашению в дома своих наиболее влиятельных в мирском отношении прихожан, дабы не дать блуждающим окончательно в искушающем мирском блуде заблудиться, в грязи греховной погрязнуть и в плутовстве хитростном заплутать. И у всех девяти священников церкви Святого Иеронима, к благородному числу коих причислялся и отец Георгий до того, как ещё жив был, у всех девятерых были свои прихожане, коих посещать постоянно следовало. Можно даже сравнить эту надобность с закреплением за врачами определённых участков, где больные в здоровых посредством врачевания обращаться должны, всё так же, за тем исключением только, что врачевание души нельзя лекарством или же хирургической операцией раз и навсегда осуществить, что у врачей иногда с телом получается, и забота не о теле. но о душе постоянная требуется, и если врач теряет своих клиентов после их смерти, то Церковь воистину их обрести лишь тогда может, хотя удостовериться в приобщении души к горнему миру, как мы только что убедились на примере души отца Георгия, куда невозможней, чем зафиксировать смерть тела по завершению его медицинским освидетельствованием.
Марфа, пусть так будут звать ту, которая исповедовалась отцу Георгию и чью исповедь он нарушил, пусть так, подсказывает нам только что поминаемая наша лень, она да ещё кое-какие, не могущие тут быть упомянутыми соображения, Марфа была дочерью весьма знатного военачальника, который, уйдя на раннюю, как водится у военных, пенсию, ныне занимал весьма высокий начальствующий пост в городском Управлении, чин всем известный и по всё той же лени тут замалчиваемый; и видел потому отец Георгий Марфу два раза в неделю в доме её родителей, куда влекла его служба Господу, и почти каждый день в церкви, из чего, однако, не стоит делать вывод о том, будто все дочери высоких чиновников и старейших военачальников, тем более, отцы этих дочерей, каждый день в церковь ходили и почитали это своим нормальным распорядком. Нет, тут всё дело в самой Марфе, которая действительно весьма набожной девушкой слыла среди сверстников своих, родителей и служителей церкви, хотя основанием для её набожности могло послужить лишь частое посещение ею церкви и долгие беседы с приходящим священником дома. Знал её тут каждый, хотя бы потому, что сумела Марфа жизнь свою духовному ритму либо же видимости оного подчинить полностью, и видели её всегда идущей в церковь на вечернюю службу, ибо днём не могла она посещать дом Божий, равно как и по утрам, за исключением воскресных дней, поскольку училась она с утра в Университете, а днём, после учебы, посещала дополнительные курсы, преимущественно иностранных языков, пророчил её родитель к жизни заграничной, несмотря на то, что сам укоренился по самую крону в почве этого Города, да так великим дубом по всей стране слыл. Родитель пророчил, да только нам-то уже доподлинно известно, что неисповедимы пути Господни, а потому предполагания наши далеко не всегда с божественным распологанием совпадают в стройную линию судьбы счастливой, а уж ежели и совпадают, то так, что никто и предположить не смел; к примеру, можно предполагать свою дочь живущей за границей, имея при том на уме в качестве чего-то само собой разумеющегося границу географическую, а Господь распорядится так, что будет она жить за границей, да только границей здесь будет тонкая грань душевного равновесия, по одну сторону которой в миру расположились психологи, а по другую, в том же, но более странном, миру, психиатры расположились. Да и так всякому было понятно, что не сможет эта почти святая, её так в соседях сначала в насмешку, а затем вследствие уважения прозвали, не сможет она без веры нашей и без распорядка своего духовного в чужих землях и с иными нравами совладать достойно, да только родителю её никто почему-то не осмеливался эту ясность всякого донести, по особенности жёсткого нрава его военного да по высоте общественного положения. Вполне возможно, что отец Марфы был прав в отношении своих планов по обустройству её будущей жизни, ведь окружающие судили Марфу по тому, что им было известно, что у них было на виду в её деяних, ходила в церковь, но при этом нисколько не ведали о том, что она делала помимо церкви; и если можно было догадаться о том, чему её должны были учить в Университете, юриспруденции, то совершенно невозможным делом было бы узнать, чему именно она там училась и как именно она всё понимала; отец это, понятное дело, знал не больше остальных, а потому, вероятно, будучи человеком опытным, привык не полагаться в отношении других людей на то, что о них известно, равно как и на то, что о них не известно, чем собственно и занимаются все начальствующие чины, а потому даже если он был прав в отношении своей дочери, а другие не правы, то прав на собственную правоту он имел больше остальных в силу лишь одного-единственного обстоятельства, в силу того, что являлся Марфе не соседом и не ровесником, не священником и не грядущим коллегой, но банальным высокопоставленным отцом. Нам могут возразить и напомнить, что, поскольку отцов не выбирают, даже в детских домах выбирают не отцов, но детей, то есть куда больше людей, мечтающих хотя бы умереть в надежде родиться в следующей жизни у такого обеспеченного и начальствующего отца, каким был отец Марфы, людей, прозябающих в нищете и унижениях, людей, с трудом сводящих концы с концами. А потому, если мы не равнодушны к судьбе этих людей, то следует уважать их мнение и посчитать вслед за ними, что называть отца Марфы, уважаемого всеми Льва Петровича, банальнейшим есть непростительная оплошность или же намеренная коварная ошибка с нашей стороны. Ну, во-первых, к судьбе мнений таких людей, прямо скажем, мы равнодушны, во-вторых, уважая их, что мы вполне и по мере возможностей исполняем, не стоит путать, как обычно не говорится, любовь с постелью, ведь уважать страдание, это одно, а уважать мнение страдающего совершенно другое, и не стоит думать, что нищие телом пренепременно богаты духом, статистически, так сказать, всё обстоит наоборот, а в отношении нищих телом статистическое это самое верное средство, покуда только в цифрах нищета в уме у нас спокойно существует, а с глаз мы её в единичном выпячивании её мерзостном и постыдном гоним дальше, отворачиваем нос и затыкаем уши, хотя и выпячется она снова и снова, так и бытует, выпячиваясь вовне скандально и пребывая в статистике покойно. А потому не будем поддаваться соблазнам и повторим: отец Марфы не такой как все отцы, банальные в своём отцовстве, но так сказать особенный среди всех банальных, банальнейший. Ведь банального отца, ежели он от ребенка что-то требует в жизни его, ребёночьей, до собственного гроба распоряжаться отец ежели намерился, ребёнок этого самого отца не послушаться спокойно может и аргумент выдвинуть: всё, к чему ты меня можешь привести своими намерениями, если я твоими словами всецело руководствоваться буду, в лучшем случае доведёт меня до такой же жизни, какая у тебя случилась, но, поскольку она у тебя банальная, будь добр, предоставь мне возможность свою хоть чуть лучше устроить, скажет так ребёнок, даже вопреки тем убеждениям своего родителя, что как раз улучшить жизнь можно лишь от поколения к поколению укрепляя заложенное предками подражание старшим. Так и бывает у либеральных детей с отцами банальными, если, кроме прочего, дети еще и сыновьями уродились. С дочерью отцу сложнее, тут мать на подмогу придти должна, а уж если отец такой как у Марфы, то такая ещё пропасть между ним и дочерью его зияет, что ни одного возражения не смеет произнести отцу дитя его, а если ещё отец начальник и хотел бы сына на место своё, жизнью собственной выстраданное, посадить, а сына у него, так сказать, никак не сложилось, а лишь дочь сложилась и та набожная, так вообще дело худо. И было бы Марфе худо, если бы как раз не то, отчего ей худо дополнительное должно было в глазах отца быть, если бы не эта самая, непонятная всем остальным, её набожность, позволяющая родительские провокации в качестве не руководства к действию, действию, которое должно убедить в итоге спровоцированное дитя в изначальной правоте родителей, а правота эта меняться может со временем, только изначальность под сомнение не ставится, не в качестве провокации, но креста чужого на плечах своих нести, подобно киринеянину Симону, который от Иерусалима до лобного места сроднился с крестом Христовым, за что благодать ему в выси небесной; Марфе же от креста чужого лишь ярость родителя её за облегчение и спасение души её, которое в смиренном послушании обреталось ею через молитвенные слезы, ото всех скрываемые. Только мать ведала влажность утренних подушек своей дочери, ведала, да не говорила о том с дочерью, поскольку сама всю жизнь плакала и до сих пор плачет, и с отцом не говорила, от которого у обеих слёзы те как раз и лились, с той лишь разницей, что у одной слёзы эти были голым страданием, а у другой к Господу нашему возносились и облегчение несли, облегчение не психологическое, но духовное, а кому как не нам знать о том, что ни одна психология не задавалась никогда целью путь к духу подлинному найти, но, напротив, так подкопать его стремилась, чтобы рухнул он в бездну страстей анонимных.
А пока мы тут вдаёмся с вами в описания многозначительные, отца Георгия бесы уже окружили и не отпускают никуда, и ведут к пропасти. Что же это такое, воскликнет в недоумении самый терпеливый читатель, ибо остальных уже не осталось, а у оставшегося недоумение уже выдержано как хорошее вино и подобно вину хорошему в голову ударяющее, что же это, всего лишь какая-то псевдорелигиозная фантастика, причём псевдо поставлено от недоумения лишь, неосознанно, от гнева люди образованные ведь часто множат бесчисленные псевдо, лже и архи ко всяким словам, что больше об их эмоциях говорит, нежели о словах, которые и так, безо всяких приставок неплохо звучат, например: религиозная фантастика, или ещё лучше: религиозный реализм; впрочем, отвечаем мы, и впредь лишь с этим читателем будем говорить, ибо других вовсе не осталось, история же эта в любом случае беседа и не более того, ведь, если не ради беседы, то ради чего стоило бы здесь это выговаривать, мы сами-то уже почти знаем чем всё закончится, ну, хотя бы смутное представление о том имеем, а вот высказываем только лишь ради этого самого негодующего читателя; так вот, впрочем, это смотря что противопоставить фантастике в недоумении своём; вот, ежели появление бесов, окруживших отца Георгия и влекущих его в бездну, можно счесть проявлением фантастики, то стало быть надо счесть вообще всё сущее фантастикой, что некоторые, кстати, еще в античности делали, поскольку бесы эти появились не просто так, а для самого отца Георгия очень даже обоснованно, ибо предал он служение своё Господу нашему Всевышнему, да и оступившись, что может со всяким случиться, ибо человек грешен по своей природе есмь, не исповедал своего греха на исповеди сам братьям своим по вере, а почему не исповедал сам не ведает того, ибо всегда всё рассказывал и чистосердечно признавал в откровенности речей своих, даже куда как страшнее греховные помыслы до себя прежде допускал, хотя, то ведь помыслы лишь были, а тут дело, да ещё какое. Если же следовать Христу, то помысел греховный ничем не легче деяния по вине от греховности своей, а посему в более тяжких грехах, совершённых пред лицем Господним, отец Георгий всегда исповедывался, и Господь, наверное, прощал его прежде за всё, а коли так, то и теперь простит, и грех, и то, что не раскаялся за него ни перед братьями своими, ни пред собой, ведь достаточно раскаяться пред собой, как перед кем угодно уже можно всё высказать, поскольку совесть чистая позволяет признание делать, а признание помогает совесть свою в очищение привести; вот такая оправдательная казуистика свистопляску свою в мыслях отца Георгия завела, и в шуме её не мог отец Георгий успокоиться и заткнуть её не смел, иначе поскольку не выдержит он свершённых тягот и не свершённых искуплений; вот и взвинчивал себя отец Георгий всё сильнее, и уже ни на миг не хотел, не мог останавливаться, а ежели что и обещало покой, то бежал от обещанного еще шибче, как бы не заманили его созидательные и возвратительные помыслы в тишь уединённой успокоенности, которой стал отец Георгий опасаться более чем геенны огненной, поскольку та еще неизвестно когда, известно-известно, скоро-скоро, пляшут мысли в голове, а эта, вот она, тишь эта, например даже в сегодняшний послеобеденный отдых; всякий отдых опасен, особливо ночной, ибо оставляет всё больше с собой наедине, а уж этого гостя отец Георгий ни за что уже привечать не желает, вот и гонит родную душу, с которой прожил, как говорится, душа в душу, от самого светлого младенчества и полного больших надежд детства своего до вот этого самого срама не такого уж и престарелого возраста.
И ещё, что стоит сказать нашему нетерпеливому негодующему читателю, чтобы он ещё потерпел немного, поскольку терпение есть самая величайшая добродетель, которую только можно испытать в себе при встрече с этой и подобной этой историями, каковые, впрочем, нам не встречались доселе; так вот, стоит сказать то, что могло бы требовать отлагательств или вовсе умолчания, если бы то, о чём мы говорим случилось бы раз за всё время или два хотя бы, так нет, мы хотим предупредить о намеренном повторении спутывания и прерывания всей истории этой, в которой прерываемся мы не для того, чтобы ввести некоторый элемент, который мог бы поспособствовать дальнейшему лучшему пониманию происходящего и выстроить гладкую историю, которую можно затем было бы друзьям пересказать, не специально, конечно, а по поводу лишь, и то, когда другим вовсе не подвернётся случая какой-нибудь анекдот вставить или случай из вчерашней своей жизни, так вот, мы прерываемся не для того, чтобы сгладить то, что мы говорим в линию или параллели, а для того лишь, что так всё и складывается; например, день длинный, а вон поди припомни, что ты весь день думал, и ведь в любом случае можешь быть уверен, что не падал без сознания и вроде бы был при уме своём, и думал о чём-то, что-то примечал, откладывал, анализировал, а тут вот раз, подытоживаешь, и впечатление такое складывается, что все подуманное к вечеру можно уложить в ход трехминутного размышления, а куда делось всё остальное время непонятно; так вот и с нашей историей, и это не единственное, почему мы излагаем так, как излагаем, но пока достаточно одного повода: случается в ней что-то, вот мы и рассказываем, не случается и не рассказываем; какой же смысл говорить о том, что не случилось, не лучше ли говорить о том, что первое придёт в голову, например: за окном зима, и выдалась она в этом году чрезвычайно малоснежной и при том очень морозной, так, что земля промерзла до основания; зачем мы это сказали, к чему; а вот к тому, что мы полагаем происходящее происходящим к чему-то, но, когда итог собираем, оказывается, что как будто цветы случившегося с нами выросли на самых каменистых местах, да так, что никаких оснований к их росту не было; вот и мы не будем искать никаких связей, и как можно прыгать в повествовании от жизни Марфиной к бесам непонятным у отца Георгия, а затем еще и выдавать первое подвернувшееся, и это мы про зиму, чтобы сказать, что цветы растут на камнях: негодование и терпение, и вот, что мы пестуем, вот камни, которые породят самые прекрасные цветы, не бросайте только на камни навоз, дабы размягчить их, поскольку цветы на камнях вырастают не потому, что камни дерьмом коровьим измазывают, но потому только лишь, что так хочется, камням этим, цветы вырастить, а цветам, стало быть, ответить камням ростом своим. И всё это под одним солнцем, к которому, впрочем, мы ещё вернёмся, не особо собираясь от него и ныне удаляться.
Ищет отец Георгий спасения в неисчислимой и неиссякаемой силе, даруемой Священным Писанием, словами Иисуса и апостолов Его, Церковь основавших, которой жизнь отца Георгия доныне принадлежала, хочет найти да найти не в силах; и дело не в том, что усомнился священник в силе слова Господня, нет, напротив даже, именно теперь как никогда сияющей в нетленной славе своей видится отцу Георгию чистота и незыблемость советов ко спасению Христовых, однако же, вместе с этим уверованием разрастается бессилие отца Георгия, который совсем уже не может, никак не способен силой новозаветной свою душу подпитывать, поскольку дело не в голоде души его, а в том, что отравлена она; истощённый организм на глазах впадает в кому, коей для отца Георгия стала ныне греховность множащаяся беспрепятственно по всей прожитой жизни его, по всей памяти и даже в ассоциациях закрепившаяся, впадает в кому стремительно, притом, что лекарства все имеются и спасти бы можно, да нет уже у организма хотя бы ничтожнейшей силы лекарства эти принять; и ежели лекарства намеренно потому изготовляют так, чтобы ввести их помимо воли и душевных настроений больного, и так, чтобы они действие сумели при этом необходимое оздоровительное возыметь, то это только к лекарствам для оздоровления тела относится, а вот со средствами спасения души иначе всё обстоит и не только потому, что оздоравливающее не означает непременно спасающее, а иногда даже наоборот, о чём образом трагическим Ницше догадался, и о чём намеренно скептически Паскаль ничего знать не хотел, а именно: прекрасно знал то, чего именно знать не желает, стало быть, выдохся отец Георгий в отношении своей способности помощь новозаветную ко своему спасению приять, и никакая сила, в самом Завете заключенная, ничего с этим поделать не в силах; также, впрочем, как и мы полагаем, что нас защищает лист бумаги от того, что тут сказано, поскольку это всего лишь развлечение и не самое лучшее, а потому мы силу свою спасение принимать так давно не тревожим уже, что стали в этом отношении бессильными до предела, почти импотентами, как это иногда врачи называют, а священники нет, ибо Христос не позволял относится к какому-либо человеку как к окончательно бессильному, нельзя нам решать этого, человек ведь творение Божие и потому образ Божий и подобие Его не могут бессильными быть. Напротив, в этой способности заключается свобода человека, от которой никуда не деться ему в жизни своей: Бог оставил человеку возможность для того, чтобы силу приятия спасительного для души источника оставить, так сказать, в силах самого человека; ведь и Христос, помнится, говорил о том, сё, стою и стучу, так вот, не было уже мочи у отца Георгия подняться в себе самом и подойти к двери, дабы отворить её для вхождения Господнего, и это несмотря на то, что знает отец Георгий: имя подлинное Христу есть Спаситель; но не чувствовал себя у себя отец Георгий дома, стал беженцем самому себе и единственное что оставалось, так это терпеть негостеприимство хозяйское, и приходил заранее в страх от гнева хозяйского, когда представлял себе как такой никчемный постоялец у самого себя, как он, вдруг ещё осмелится кого-то в дом чужой пускать, даже если это и Господь Бог, который создал всё сущее; и тяжелее ему от этой своей немочности становится при знании отчётливом о том, что Господь рядом и спасти его, именно его равно, как и всех вообще, желает; и в этой немочности своей, и нигде более, земля обетованная бесам предназначена от времени сотворения мира; и обступили они из пустыни неспособности душевной, и кривляются, и танцуют, и в ладоши хлопают.
Так это не фантастика, о бесах-то, но метафора только, догадается догадливый собеседник, и додумается додумчивый, на что мы можем сказать лишь так: нет в нашей беседе метафор никаких, а ежели принять их наличие, то мы должны быть готовы к тому, что всё здесь одна метафора, ибо язык метафоричен, что значит: вещи метафоричны, и стало быть, мир метафора лишь, а отца Георгия можно в матрону и австралийца обращать очень даже несложно, чего нам теперь, и это в положении-то нынешнем отца Георгия, и делать совсем уж никак не хочется.
И начал отец Георгий вести деятельность столь активную, что его братья по вере усмотрели в этом прямо-таки некоторое возрождение чувствования религиозного, некоторое озарение, чуть ли не благодать божественную, как это у послушников молодых стариками умилительно с ностальгией и грустью наблюдается; отец Георгий только и поспевает посещать своих прихожан, и предельно внимателен ко всем мельчайшим подробностям происходящих с ними событий, которое, безусловно, событиями настоящими только сами прихожане с их меркой жизненной почитают, слушает всё это чужое внимательнейшим образом отец Георгий, лишь бы отвлечься от своего вконец, да вконец-то понятно, что отвлечься можно будет так, что ни к чему впоследствии уже привлечься никогда и не сможется; в доме одного банковского управителя так усердно отец Георгий выслушивал и выспрашивал о приключившейся у собеседника головной вчерашней боли, выяснял все подробности столь скрупулезно, что в конечном итоге всегда занятого для посещений Храма Божия прихожанина действительно одолела головная боль и куда пуще, нежели это было в обсуждаемом случае; и если бы некоторый заграничный доктор, Зигмунд по имени, сделал из этого обстоятельства некоторые, возможно даже не безосновательные выводы о природе этой головной банкирской боли, связанные, возможно, с замужеством той служащей, на внимание коей уповал всегда негласно от самого себя банкир, о чём отцу Георгию ничего не сказал, поскольку и себе ничего об этом не думал, и если бы доктор этот Зигмунд что-нибудь бы понял, то отец Георгий лишь несколько чрез меры раздосадовался, и не нашёл ничего лучшего, как покинуть этот дом, чтобы несть свет службы своей непростой для нашего, да и для любого, как то показывает история веры Христовой, времени в следующее жилище. И вновь видел тут отец Георгий ту самую похоть, разительно Марфу ему напомнившую несколько дней назад, на сей раз однако отец Георгий был не один, но в компании невообразимой, окруженный невидимым и немыслимым, делающим отца Георгия немыслящим, легионом собственных бесов; это сообщество, как ни странно, позволяло отцу Георгию чувствовать себя не только в безопасности особой, но даже и сделало его готовым к дьявольски дерзким для него прежнего поступкам. Вообще-то, конечно, нельзя здесь говорить так обобщённо, будто отец Георгий стал этаким заправским повесой или хотя бы даже почувствовал себя таковым; нет, дерзких поступков он осуществил всего лишь два, если не брать в счёт нарушение тайны исповеди, совершённое до всякой дерзости душевной, но, напротив, своим свершением в душу отца Георгия дерзость привнёсшую, два, повторяем, поступка: первый и второй, и черёд первого уже вот сейчас наступил, а до второго, если это вообще поступком мы дерзостным сможем впоследствии счесть, мы ещё доберемся в его, поступочное и дерзостное, время; дерзостность отца Георгия, кроме прочего, была таковой лишь для него и в его нынешнем состоянии; ежели кто-то спросит, откуда нам знать чем были для отца Георгия его поступки, ведь упоминалось уже, что в голову мы ему залезть раньше патологоанатомов не сможем, а когда с ними сможем, то ничего там из интересующего нас не найдём, а найдём лишь то, что даже и патологоанатомам неинтересно, ибо насмотрелись за годы практики на всё это одинаковое у людей всех, ежели кто спросит так, мы сможем вдаться в схоластические построения или же ответить просто-напросто: не знаем, но сейчас не собираемся ни того, ни другого делать, поскольку никто об этом не спрашивает, и потому около нас блаженная тишина устанавливается, чего не скажешь об отце Георгии, который сам для себя стал своим вокруг, средоточие же души его поющие и танцующие дьяволы населили; шумно отцу Георгию и весело даже немного, разве что досада берёт от этой ерундовой головной боли банкира, которая вчера, как понял отец Георгий, и сама случилась, а сегодня, и это тоже точно, при посредстве отца Георгия, точнее же: от бесов его весёлых, чего банкиру неведомо совершенно, не ведает он о том курьёзе, что священник с компанией бесов ходит вместе, а потому и полагает банкир, что боль вчерашняя возобновилась сегодня и не более того; вот и досадно отцу Георгию, что сам не поведал банкиру о том, что это не возобновленная боль случилась, а первая, от дьяволов полученная; и не успокаивает отца Георгия то, что банкир про замужество коллеги молодой и красивой, которую банкир даже пальцем ещё не тронул, ничего не упомянул; не успокаивает, поскольку всё равно отцу Георгию до счастья этой девушки, нет, конечно, пусть живет и радуется и пребудет в семейном покое, да только в соотношении с головной болью прихожанина нет никакого дела до этой свадьбы священнику, а если доктору Зигмунду дело было, так самого доктора здесь никогда не было, нет и не случится, и даже всё равно отцу Георгию от того, что доктор Зигмунд предполагать не мог: хотел, быть может, избавиться банкир от визита священника в редкий выходной день, вот и сболтнул про головную боль; неважные всё это для отца Георгия мелочные обстоятельства, а досадно, что не сказал банкиру об этом всём своём окружении незримом; ведь не сказал не потому, что лишь слушать должен других, а говорить своё нет, но потому, что он вообще многое теперь никому не говорит из того, что сказать обязан, да не просто сказать а кричать о чём обязан, а это вот именно такое, ко сказанию обязывающее, но не говорит отец Георгий того, что обязан, отчего и селится в нем досада, будто икота мёртвой от заглушения совести его, совести, шумом дьявольским убиенной. Зато начинает отец Георгий свою способность настоятельную чувствовать всё более к сказыванию того, что говорить не обязан, и даже, в первую очередь, обязан не говорить, и это вот дерзостью-то он для себя и называет. И свершит такую именно дерзость отец Георгий всего лишь единожды, и затем другую, и единожды и бесповоротно, и именно теперь первую, когда выходит он из одного дома, дабы в другой войти, а на его, теперь уже его, стороне улицы, навстречу ему похотливое искажение образа Марфы в тех же тёмных очках, или в других, кто их разберёт, и запахом постели шествует. Отец Георгий, в некоторой кажущейся растерянности, которая действительно лишь кажется, поскольку под бесовские шум и пляски он может ощущать лишь некоторую приглушённость и ошарашенность, с которыми он останавливается напротив девушки; она, заметив эти его намерения, несомненно, останавливается в нескольких шагах от него, и, вероятно, спрашивает: в чём дело, святой отец, или же: что вам нужно, или же: я вам могу чем-нибудь помочь или ещё что-нибудь в этом роде, когда мужчина немолодой преграждает дорогу молодой девушке; можно было бы сказать: когда священники обычно на улице перегораживают дорогу молодым девушкам, но трудность состоит в том, что как раз обычно священники этого почему-то не делают, а ходят либо украдкой поглядывая, либо с чувством собственного достоинства смотря сверху вниз, но в любом случае не соприкасаясь с незнакомыми, особенно это невозможно, если бывает особенно невозможное по отношению к просто невозможному вообще, здесь, в старой части города, где отца Георгию знают по имени если и не все, но уж точно все местные обитатели знают, что это местный священник, знают, даже те, кто в Храм Божий не ходит вовсе, хотя таких в этом месте, и в силу обеспеченности и модных поветрий времени, и здесь все меньше и меньше; особенно это невозможно, архиневозможно, псевдовозможно, лжевозможно здесь потому что, если даже сюда случайно и забредёт некоторая молодая особа, и даже если захочет преградить ей дорогу местный священник, то за это время мимо наверное пройдет кто-нибудь из тех, кто скажет: добрый день, отец Георгий, и должно быть совестно отцу Георгию, и надеяться на то, что никто из таких знакомых мимо не пройдет, конечно можно, но рассчитывать на это твёрдо никак нельзя, поскольку рассчитывать на это может лишь тот странный священник, который будет ходить по улицам в ночное время, но было бы чрезвычайно странно, чтобы священник ночью бродил по улицам, да и молодая девушка, достаточно вульгарно выглядящая, должна была бы перейти на другую сторону, ежели только она не искала бы себе в ночное время клиента, что, опять-таки странно, чтобы таким клиентом стал бродящий по ночам священник, они, конечно, могут пользоваться всевозможными услугами подобных барышень, однако не в рясу облаченные и не в месте жительства своей паствы, и это притом, что появление такого рода девушек в этом районе города ночью вообще-то маловероятно, поскольку вульгарность ночная оживает ближе к беднейшим кварталам, там, где вотчина церкви Всех Юродивых находится, но мы-то помним, что тамошние священники не только не покидают пределов Церкви, но к ночи и вовсе запирают храм на тяжелые деревянные засовы, служащие не одну сотню лет защите Святого Духа от особо рьяно верующих, верующих исключительно по ночам и в не совсем вменяемом состоянии, хотя вопрос о вере во вменяемом состоянии выходит за пределы любой компетенции вообще. В любом случае нам неизвестно, что сказала девушка, можно лишь говорить о том, что что-то наверное она сказала, но нам это нисколько неважно, и не потому, что мы тут такие бессердечные и несердобольные говорим всё это, хотя мы бессердечны и несердобольны, если уж положить руку на сердце и сердоболие, сё сущая правда, но теперь нам это нелюбопытно потому только, что отец Георгий либо не расслышал, что она сказала, либо проигнорировал сказанное ею, и второе вероятнее первого, поскольку отца Георгия служба в послушании и выслушивании состоит, а первое вероятнее второго, поскольку служба отца Георгия в игнорировании чужих слов лишь в случае нападения на веру истинную состоит, но мы точно знаем, что двойник Марфы в тёмных очках своих никак на христианскую веру нападать, на словах по крайней мере, не собирался, а ежели и нападал, то лишь внешним обликом своим, сам того не ведая; скорее наоборот, это христианская вера, в лице отца Георгия, а точнее: в лице всего его тела, продемонстрировала своими действиями то, что любой из находящихся на месте девушки воспринял бы как нападение или намерение оного; особенность же в том, что отцу Георгию никто другой на месте девушки не нужен теперь был, но лишь она одна, да и не она сама даже, а то, что знал он о ней, а знал он о ней то, что она очень похожа на саму Марфу, тайну исповеди которой он нарушил и из-за чего теперь в геенну огненную в компании бесов катится непременно и безостановочно. Отец Георгий снял с лица девушки тёмные очки, которые, кстати сказать, были довольно не по сезону ею одеты, ибо на улице осень поздняя, довольно холодная уже, стояла, да, собственно и девушка была сама довольно легко одета, видимо жила рядом и ходила недалеко, либо же любила похоть вызывать у ближних своих, имея руку правую и глаз правый целыми и невредимыми вопреки заповеди Христовой; так или иначе, а точнее, очень властно и резко отец Георгий, совсем не по-отечески и не по-георгиевски, сорвал с лица тёмные очки, зеркальные кстати сказать, и потому видел перед этим себя в них отражённым, отчего ещё больше уверился в необходимости избавиться от этого предмета, властно и решительно, не иначе, а именно так, сорвал очки, и внимательно глянул в глаза девушки, бесы ударили в тромбоны и начали скакать канкан, в котором тромбонов никаких нет, но что им до того, отец Георгий стоял поражённый: перед ним предстала Марфа, та самая Марфа, которая всегда выглядела скромнее монашек; но она не узнавала отца Георгия, и тому оставалось сделать так, чтобы она узнала его, и отомстить ей за все свои страдания и неисполненные ею надежды, платой за возложение которых на неё стало его окончательное падение. Отец Георгий схватил девушку за руку и потащил за собой в Храм Божий, со всем этим необходимо было разобраться раз и навсегда. И ведёт отец Георгий чрезвычайно податливую девушку, сам более неё удивленный тому, хотя и по иному поводу удивляясь, она-то, она могла бы удивиться тому, что её на улице хватает за руку священник и ведёт куда-то, а его удивляет, что такая девушка, привлекающая внимание мужчин иного толка, нежели он, хотя он даже и не знает, оказывается, какого толка он мужчина из-за рясы своей и есть ли в нем вообще мужской толк, а теперь и вовсе не время выяснять это, хотя это-то его и удивляет теперь более всего, только это и удивляет, что девушка, привлекающая даже не мужчин, а толк в мужчинах, столь бестолковый и беспутный и во всех мужчинах столь похожий в том, что касается его направленности на женщин её рода, женского, стало быть, должна бы она теперь удивляться и сопротивляться попыткам бестолкового для неё мужчины, да что там попыткам, самому овладению уже фактически свершённому, ан нет, не сопротивляется, и это немного удивляет отца Георгия, но лишь немного, поскольку видит он в этом правоту бесов своих, и поскольку правы они, то и не зря они там играют похабные мелодии, столь по духу различающиеся от правоверных песнопений церковных, правоту, говорящую, что любая девушка на месте этой должна непременно сопротивляться ему, но эта-то не любая, что видно по согласию её, видно отменно, а самая что ни на есть Марфа, которой дьяволы не менее его овладели, с той лишь разницей, что её дьяволы в ней изначально сидели, а теперь, наружу выйдя, овладели ею так, что она преобразилась телом и душой, да до того в этом преображении дошла, что даже отца Георгия не признаёт, а отец Георгий тело свое вон по-прежнему в рясу облачает, да и душой, точнее сердцем, Марфу тогда признал, когда та себя не признала сама, хотя и он себя узнавать не очень-то жалует, и потому всё это, что бесы эти не иначе как изначально в душе её были, а отец Георгий лишь поспособствовал их выходу на свободу скорейшему, целью имея, дело понятное, свободу, а не дьяволам способствование, а его, отца Георгия, дьяволы получились захожими и оттого такими неуважительными к нему, и паршивыми, вон же как она к своим приноровиться смогла, будто для них и была Творцом создана, чего конечно в мире Божьем случиться никак не может, он же от этих пришлых вследствие нарушения тайны исповеди получил нынешних, от коих страдает лишь неимоверно. Встречают они, конечно, на улицах людей, которые говорят: добрый вечер, отец Георгий, и вроде даже как-то не удивляются, что идёт отец Георгий с девушкой за руку, или же удивления своего умеют не выказывать, а ежели захотели бы выказать, ответил бы отец Георгий, что не к здоровым пришел Христос в мир сей, но нет, не спрашивают, знают люди тихий и доброжелательный нрав отца Георгия, а о дьяволах его ведать не ведают, зато двойник Марфы узнаёт точно и наверное, что зовут её спутника странного отцом Георгием, и спрашивает этак беззаботно: значит Вас отцом Георгием величают, или же: отец Георгий, значит, или: хм, отец Георгий, на что отец Георгий лишь улыбается почти не таинственно и бормочет так, что она слышит его или не слышит его, непременно-непременно, отцом Георгием, а то как же, или же: а то тебе то неведомо, или же что-то в том же роде; вот уже и Храм Божий, церковью Святого Иеронима именуется, и входят они через центральный вход, да только затем сразу сворачивают к левому приделу, где по правую руку икона Спасителя, а по левую Божьей Матери, свечи горят редкие, но горят. Здесь уж отец Георгий руку двойника Марфы отпускает, поворачивается спиной к ней и поднимает взор ко взгляду Христову, долго смотрит Ему прямо в глаза и говорит что-то вроде: отвратительная работа с художественной точки зрения, не находишь, на что двойник Марфы говорит, что не разбирается во всём этом, но насколько что-то понимает, священники обычно так не выражаются, как впрочем и девушек незнакомых на улице не хватают, и в Церкви не волокут, а ежели Церковь сегодня прихожан среди молодежи теряет, то дело такими средствами не исправишь, надо признать, упадок нынешнего положения церковного и из него в дальнейшем исходить следует, а не ловить людей на улицах, подобно противным разным там мормонам и иеговистам; сказала она всё это и тут же поняла, что отец Георгий вовсе не слушает её, и не потому что она на веру его нападает, а потому что нет ему до веры сейчас никакого дела, точнее до того, что она за веру его понимает, ибо говорит ей отец Георгий, что прекрасно понимает её намёк, когда она упомянула только что то, о чём священники обычно не говорят, что значит, что помнит она всё и напрасно теперь выдаёт себя за не ту, которая есть, выдаёт так окончательно и с пристрастным самозабвением; да, говорит отец Георгий, размещаясь между нею и ликом Спасителя, я в самом деле сказал нечто, что упомянуто никак всуе быть не может, но хотел ведь помочь, а ты, дочь моя, посмотри во что ты дарованную тебе свободу облачила, и проводит рукой по обнаженной линии живота её; ничего не понимаю, может она сказать ему, а может и: как интересно сказать, но ему всё равно, надо выговорить отцу Георгию ей всё, а уж затем будет он чист перед Марфой, а Спаситель пусть сам решает, будет ли это очищение предсмертной также достойной небес речью исповедальной, которая может прощение отцу Георгию даровать, и не только от этой заблудшей отроковицы, но и от Сына Божьего; да только, видят бесы, менее всего отец Георгий об этом ныне помышляет, а потому, видят бесы, чист он перед Отцом Небесным как никогда: никаких задних мыслей, всё наперёд выкладывает.