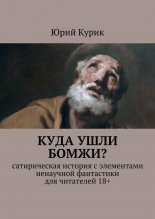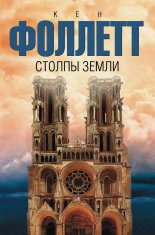Сибирская любовь Мурашова Екатерина

– Где же она? Как? С кем? – заторопилась с вопросами Оля Камышева. Ирочка бросила пяльцы и торжествующе подняла палец:
– Я же говорила!
– И что? Она действительно с Дубравиным бежала? Какой скандал… – лицемерно покачала головой Мари.
– Запомните все! Софи уехала совершенно по другой причине и совершенно в другом обществе, – голос Элен звучал по-прежнему ровно, но внимательному уху послышалось бы в нем какое-то подозрительное дребезжанье.
– И что же, никакой любовной истории там нет? – разочарованно спросила Кэти – совсем юное существо с едва заметной косиной в правом глазу.
– Есть. Софи действительно повстречала свою любовь, – к удивлению всех присутствующих сказала Элен. Тон, которым она сделала это заявление, удивительно не соответствовал его содержанию.
– Как же так? Почему ты об этом говоришь, а у меня по коже мороз? – растерянно переспросила Мари. Потом испуганно зажала рот ладонью. – Он ее обесчестил и бросил, да?!
– Нет, он умер, – отвечала Элен и разрыдалась, уткнувшись лицом в недоконченную вышивку.
Глава 11
В которой Серж Дубравин видит себя мухой, а читатель подробнее знакомится с Машенькой Гордеевой
Сержу Дубравину снилось, что он – муха, увязшая в меду. Настоящая муха: с крылышками, глазками, тонкими лапками. В мушиной этой сущности не было ничего кошмарного, наоборот – приятно вспомнить, как носился в воздухе, среди невесомых солнечных пылинок! Кошмаром был мед. Пронзительный запах, ненавидимый с детства. Клейкая масса, в которой он барахтался, теряя силы, понимая уже: все, конец. Здесь и зароют, на бережку, под кедром… И еще – гигантская темная тень, наплывающая сверху, то ли туча гнуса – ну да, мухи вроде него, правда, без мозгов, зато с жалами, – то ли… Мухобойка! Маменькина мухобойка, вот что это такое. Ведь прибьет сейчас и не узнает, что это я, наследничек! А если и узнает – что, дрогнет рука?..
– Аришка! Дура, куда глядишь! Мухи, паразиты, все блюда засидели. Гости увидят – обплюются, все суаре насмарку… И полно, – маменькино визгливое сопрано вдруг поехало вниз, стремительно превращаясь в добродушный бас, – полно, однако, почивать-то, казенная лавка – не перина, бока пожалейте!
Серж удивленно вздрогнул и проснулся.
Первое, что он почувствовал, было облегчение: медом не пахло! Чем угодно другим: деревом, дегтем и сапогами, табаком и перегаром, даже плесенью – но не медом. И прекрасно. Он шевельнулся, пытаясь по этим запахам определить, куда попал, – бока и впрямь заныли, и не только бока, все тело! Да так, что он сразу все вспомнил.
Бессильное щелканье выстрелов, белое, будто из тонкой бумаги, лицо мертвого инженера. Стволы, стволы, сизые, бурые, черные. Круглые лакированные листочки, под которыми прячутся ягоды – невесть какие, то ли тотчас от них помрешь, то ли через час. Выставленные во все стороны сухие острия коряг. И – тьмы, легионы толкущейся, гудящей, жалящей пакости! Точно, мухи вроде меня, и тоже без мозгов.
Господи, это ж и в самом деле со мной было, пробормотал он, машинально проводя ладонью по опухшему лицу.
– Вы, ваше благородие, – снова забасил кто-то рядом, – на нас обиды не держите. Места, однако, дикие, народишко лютый. Чуть недоглядишь…
– Лучше перебдеть, чем недобдеть, – буркнул Серж, опять таки машинально. Протер глаза и огляделся.
Увидел бревенчатую стену и в ней окошко, маленькое и до того заросшее грязью, что, кроме тусклого света, ничего в нем не разглядишь. Сбоку – низкий дверной проем, и в нем, согнувшись, ибо иначе не влезал, – могучий дядя, больше всего похожий на мужика только что от сохи, по недоразумению наряженного в полицейский мундир.
– Извиняйте, ваше благородие, – вздохнул мужик, – однако, пора. Иван Парфенович ждать не любят.
Иван Парфенович! Тот самый Гордеев.
Сержу до того стало не по себе, что все болячки заныли вдесятеро. Немедленной встречи с Гордеевым ему, однако, не предстояло. В просторном помещении, где мирно уживались закапанная чернилами конторка и по-домашнему закипающий самовар, Сержу предстал не он, а становой пристав. Вчерашним вечером (или днем? – последние часы до Егорьевска всплывали теперь в памяти невнятной мутью) сей господин, крепкий, как орех в тугой скорлупе, держался весьма сурово. Орать не орал, но верить на слово пострадавшему отнюдь не собирался и все буравил его проницательным взором, тщась разглядеть под покусанной комарами личиной не иначе как самого Климентия Воропаева.
Сегодня все было по-другому. Сержу предложили кресло, чашку горячего чая с колотым сахаром, сочувственно объяснили, что в местной гостинице его ждет нумер, а в нумере – господин Пичугин, лекарь весьма знающий, не хуже петербургских. Расспросов о нападении вести не стали.
– Вам, Дмитрий Михайлович, нынче не до того, вам отойти надо, так сказать, душой-с, – объявил пристав, глядя на него едва не с любовью, – а там, глядишь, изловим молодчиков, так и вовсе вас тревожить не станем. Попутчика вот вашего жалко… как бишь его, – пристав покопался в бумагах, достал очень хорошо знакомый Сержу паспорт, – Дубравин Сергей Алексеевич. Ну, земля ему пухом. Это хорошо, что вы, Дмитрий Михайлович, догадались документики-то сохранить, не дали человеку сгинуть бесследно… Говорите, так они все бездыханные и лежали? И Дубравин этот, и кучер, и казаки?
Один казак, хотел поправить Серж – но промолчал. А любовный взор пристава сделался вдруг по-вчерашнему проницательным – на миг; и тут же вновь погас, расплылся. Сержу стало совсем неуютно. Он подумал, осторожно берясь за чашку саднящими пальцами: и какого черта я все это затеял? Сибирские валенки, похоже, здорово себе на уме. Каков-то окажется Иван Парфенович?..
…Маша потянулась за шалью. Книга упала из-под руки – на пол, развернулась, посыпались по сторонам листочки, ленточки, сухие цветочные лепестки. Зачем они там? Ну, да – есть у нее дурацкая привычка отовсюду, где удается побывать, привозить какую-нибудь местную травку и засушивать. Вон тот бледно-розовый цветок – с иван-чая, что растет возле Мариинского прииска. Он там высоченный – вдвое против человека! И могучий, хоть топором руби. Папенька говорит: золотом питается, оттого и сила. А вон – сквозной листок, вроде папоротника, только нежный, тоненький. Заговоренная пижма. Алеша добыл у ненецкой шаманки – этой весной, когда Маша болела. Надлежало эту пижму особенным образом сжечь и окурить больную – что и было сделано; однако вот этот листочек сохранился.
Маша соскользнула с кресла. Стоя на коленях и придерживаясь за подлокотник, собрала рассыпанные листки. На глаза попались мелкие, налезающие друг на друга строчки:
- «Гаснет на ветру свеча,
- галки носятся, крича.
- Вот опять пришла весна.
- Я одна, одна, одна…»
Ох, Господи! Маша почувствовала, как загорелись щеки. Вот растяпа-то. Знай, марает бумагу да рассовывает глупые вирши куда попало. А ну, тетенька увидит! Объясняйся потом. И не с ней – это бы ладно, так ведь она, тетенька Марфа, сама не прочтет – неграмотна! – побежит к отцу… На миг Маше стало вовсе муторно, она решительно скомкала листочки, хотела порвать… но вместо того вздохнула и аккуратно разгладила. Хоть и ясно, что вирши глупые, а рвать все равно – жалко. Убрать надо получше.
За низким окошком послышался шорох и дробный стук. Маша повернула голову. Синица! Бьет клювом по подоконнику, зажав лапками рябиновую гроздь, – а сама нахохлилась, будто от холода. И впрямь ведь – еще и первый снег не выпадал, а до того зябко. Надо сказать Аниске, пусть нарежет для синиц сырого сала. В саду и развесить…
Маша дотянулась до шали, укуталась, тяжело поднялась на ноги. В маленькой спальне было сумрачно, а на стене – чистый пунцовый отсвет заката, что горел за окнами, за переплетением рябиновых веток. Маша слегка поморщилась, глядя на закат. Этот свет ее завораживал… и в то же время – хотелось немедленно от него избавиться, задернуть занавески, зажечь свечи, попросить, чтобы принесли душистого чаю или кофею, меду, свежих пышек – чтобы стало уютно и весело. А для полной благости развернуть какое-нибудь сочинение, скажем, графа Ивана Чердынцева – и погрузиться в лабиринт необычайных похождений злополучной Вареньки…
Она так и сделала: тщательно задернула занавески, вышитые васильками и незабудками, зажгла свечи – сперва в спальне, а потом и в соседней комнате. Эту комнату отец велел именовать будуаром, но Маше почему-то было смешно и неловко, и она звала ее горницей. Главное место здесь занимал рояль: огромный, благородного исчерна-шоколадного оттенка. Вся горница отражалась, как в бездонном зеркале, в его идеально отполированной крышке. У Маши этот рояль вызывал глубокое почтение. Во-первых, он много повидал – куда больше, чем сама Маша. Сделали его в славном городе на Рейне, а потом через полмира, сушей и водой – везли, везли, везли… Маша представляла, как ехал он на палубе парохода студеным северным морем. Хмурый, чужой всему, что вокруг, – точно, как и здесь, в доме. Сизые волны, низкое серое небо, чайки, выныривая из туч, садятся на ребра громадных ледяных гор. Приходит ночь, полыхает в черном небе радужное полотно северного сияния… И все это отражается в темной полированной крышке. Оседает и просачивается глубоко… В звуки, которые кто-то когда-то, может быть, оживит.
Отец выписал этот рояль позапрошлой весной. Маша как-то обмолвилась: хорошо бы… И – вот, пожалуйста. Привезли, взгромоздили, – в верхнем чулане стену пришлось разбирать! – играй, Марья Ивановна, радуйся. А как играть?..
В Егорьевске нотной грамотой, кроме Леокардии Власьевны да Евпраксии Александровны Полушкиной, никто не владел. К Полушкиной не подступишься, а Каденька-то и не сказать, чтоб так уж владела. Все эти дамские, как она говорила, штучки – танцы, рисованье, вышиванье, – в ее глазах были презрения достойны. Любочка, Надя и Аглая – те, ясное дело, пришли в восторг и вместе с Машей рьяно взялись постигать секреты музицирования. Секреты, однако, оказались уж слишком упрямы. И восторг сестер Златовратских скоро поугас.
И осталась Маша один на один с этим черно-шоколадным зверем. Нет, она вовсе на свой счет не обольщалась. Имелась, конечно, французская книжка мадам Деже «Волшебные звуки или Как самостоятельно сделаться виртуозкой», объяснявшая, что нужно сделать так да эдак – проще простого! – если у тебя талант, а иначе лучше и к фортепьяно не подходи. Маша бы и не подходила… Но уж очень хотелось – во-первых; жалко было рояль, проделавший такой длинный путь и теперь вынужденный молчать – во-вторых. А в-третьих… узнает папенька, что ничего у нее не выходит, – огорчится ведь, поднимет шум, возьмется выписывать учителя откуда угодно, хоть из Парижа!
Маша знала – так и будет. И сознание того, что отец ради нее горы свернет, – оно, может, и грело, и радовало… но куда больше – пугало. Как пугал и сам отец – огромный, могучий, бесконечно любимый. Полный той неукротимой жизненной силы, какой в ней самой никогда не было.
Никогда, никогда. Даже в раннем детстве, когда у нее были вполне нормальные, прекрасно бегающие ноги. Она хорошо помнила это время. Как лазала по деревьям. Не сказать, чтоб с утра до вечера, но – лазала! И кидала сверху еловые почки в тетеньку Марфу. Тетенька причитала, а отец хохотал и подманивал:
– Эй, белка, белка, слезай, дам орешка!
Она, ухватившись за толстую ветку, глядела на отца и раздумывала: сейчас хохочет, а когда слезешь, не надерет ли уши-то? От ветки пахло смолой – так сладко, что прижаться бы лицом и вдыхать… а снизу плыл запах не менее замечательный: свежих стружек. Ими в тот год был, казалось, усыпан весь Егорьевск: Иван Парфеныч Гордеев строился! Строил вот этот самый дом. Споро, во множество рук. Венцы так и взлетали к небу, словно сами собой. На лугу возле училища – там, где нынче хоромы для общественных собраний, – ставили столы плотникам и всем, кто пожелает присоединиться: праздник же! Стройка – всегда праздник. Жарили и пекли в основном лосятину да птицу, набитую местными эвенками под руководством вездесущего Алеши. Да… Алеша как раз тогда появился. Тихий был, по-русски едва-едва. Вырезал Маше из кедровой чурки медведика. Как живой: зубы скалит, башкой мотает, только что не рычит. Жалко, Петруша его потом разломал. Отец как-то сказывал – обмолвкой, – что Алеше многим обязан. Тот его на большое золото навел. Место, где теперь Мариинский прииск – это ж были глухие болота, гнилая чащоба непролазная. Никому и во сне не являлось там старательствовать, даже вездесущие золотничники[1] эти места стороной обходили.
Топей-то там и нынче хватает. На сто шагов отойдешь от поселка – и готово: со всех сторон трясина, только и остается, что по своим же следам назад – если сумеешь, – либо со всей мочи звать на помощь. Нет, имеются в тех местах, конечно, тропы – для тех, кто знает. Кто вон третьего дня почту на дороге остановил, кучера с казаками да с пассажирами убил, а приисковое жалованье – отцовы деньги – забрал до копейки.
Маша перекрестилась, глядя на огонек свечи, отражающийся, как в черном озере, в крышке рояля. Денег-то жалко… то есть не их – папеньку. Он ведь рвет и мечет, а потом (думая, что никто его не видит, а не тут-то было) за сердце хватается. Не дай Господь, повторится болезнь – что тогда?
Маша, зажмурясь, потрясла головой: не думать, не думать! И не убили там никого, все целы – побродят по тайге, да и объявятся! Ты, Машка, как птица страус, – объявил ей однажды, презрительно выпятив губу, Николаша Полушкин. Есть такая в африканской земле: как что не по ней, так она головенку в песок, и готово дело – спряталась. А все потому, что головенка-то маленькая, мозгов нет.
Может, он и прав, Николаша. Хотя давно прошли те времена, когда Маша любое изреченное им слово с открытым ртом брала на веру. Но даже пусть и прав. Каждый, в конце концов, живет как умеет. Она, Маша, хочет, чтобы эти люди были живы. И чтобы отец не болел. И как она хочет, так и будет, надо только помолиться покрепче. Не раз уже сбывалось. Она ведь знает, о чем молиться: не о том, что совсем невозможно (например, о том, чтобы ноги не болели!); а только о реальном.
Она шагнула к двери, чтобы позвать Аниску, но тут заскрипели половицы в коридоре, дверь открылась, и вошла – увы, не Аниска, а Марфа Парфеновна. Маше при виде тетенькиного черного платья и скорбно поджатых губ тут же сделалось, как всегда, неловко, будто только что ее любимую чашку разбила.
– Что свечей-то нажгла, – тетка почти с болью поглядела на бесполезно оплывающие свечки, потом – на Машеньку, – глаза все одно испортишь, вон, буквы-то у тебя в книжке каки маленьки… Молоко-то пила на ночь ай нет?
– Я Аниске скажу, она принесет, – пробормотала Маша, надеясь, что тетка пришла только спросить о молоке и сейчас уйдет. Но Марфа Парфеновна, по широкой дуге обойдя рояль, отодвинула от него венский стул и уселась, аккуратно сложив на коленях квадратные жесткие ладони. И сразу стало ясно, что у нее – дело; просто так, на секундочку, тетенька никогда не присаживалась.
– Определяться нам надо, – заявила она, выждав полуминутную паузу, во время которой Маше полагалось задать вопрос. Но Маша никакого вопроса не задала и после ее заявления тоже промолчала.
– Определяться, – с отчетливым упреком повторила тетка. Отклика вновь не последовало, и она выразилась пространнее:
– Непорядок, что живем вот эдак-то. В дому хозяйка нужна. Я стара, за всем не услежу. Да и не здесь мое место.
Маша опять промолчала. Конечно, по-хорошему надо бы возразить, дескать, что ты, тетенька, какая старость, наш дом только на тебе и держится… Да к чему лишние слова? Теткины планы давно были известны. Женить отца, а не его, так Петеньку, сдать невестке хозяйство и, с легким сердцем – в монастырь! И точно так же давно было известно, что с легким сердцем тетка хозяйство не отдаст. И с тяжелым-то не отдаст. При том, что в монашки и впрямь хочет.
Ну, и к чему она опять об этом?
– Хозяйка нужна, – продолжала Марфа Парфеновна, – в прежни-то времена сынов не спрашивали. За ухо да в церковь, венчаться. Потапова Татьяна чем нехороша? Вот что, Маша, я твоему отцу думаю сказать… Да ты меня слушаешь?
Маша кивнула, глядя не на тетку, а на вязаную салфетку, прикрывавшую подлокотник кресла. Красивая салфетка, монастырской работы. Сквозные снежно-белые узоры, холодные, как воздух в келье.
– Я ему скажу: пусть Петра женит, хоть силком, хоть как. Ежели сейчас посватать, так на Покров бы свадьбу… А к Рождеству я и отбуду. Невмоготу мне, Машенька, тут, – теткин голос вдруг расплылся, утонул во вздохе, и Маша вскинула голову.
Нет, показалось. Марфа Парфеновна – такая же, как всегда. Прямая, скорбно-недовольная. Руки ровно лежат на коленях, из-под черного подола выглядывают широкие босые ступни. Господи, с растерянным удивлением подумала Маша, да что ж ее всегда так жалко-то? Чем жизнь-то плоха? Здесь – в тягость, а там будет ли лучше?
Она снова опустила голову – чтобы скрыть от теткиных острых глаз эту жгучую жалость, с которой ничего не могла поделать.
– Ты-то – со мной али как?
Вопрос – ожидаемый, и ответ на него у Маши был. Еще отцу ответила – весной, когда задал его напрямик, испугав нежданной болезнью. И тетке бы надо сказать: не хочу, не пойду, в миру еще не нажилась! Но как скажешь? Вот ведь грех-то.
Марфа Парфеновна умолкла. Видно, решила таки дождаться ответа.
И Маша начала было говорить – о том, что сватовство дело нескорое, а Татьяна Потапова за Петеньку едва ли пойдет, так что покамест и решать нечего… наконец, прервавшись на полуслове, махнула рукой:
– Тетенька! Разве ж это по-божески – неволей? Потому только, что – надо?
– А то не по-божески? – тетка чуть подалась вперед. Лицо сделалось живым; и Маша поняла, что сейчас она выскажет то, зачем пришла.
– Надо, Машенька, так оно и есть: надо, – запнулась на миг – перевести дыхание, – я тебя пугать-то не хочу, да ты и без меня знаешь, что отец нехорош.
Маша встрепенулась – тетка заговорила снова, не дав возразить:
– Сам-то он себя не отмолит, как ни старайся. Да ведь и не старается, вот в чем беда… С меня тоже толк невелик. Что я? Стара, глупа, Богу помеха. Худо отцу-то на том свете будет, Машенька, худо!
– Тетенька! – Маша, не выдержав, повысила голос. – Вы же сами говорили, нельзя так! Накличете! И вообще… Почему ему будет худо? Он, что, злодей?
Она быстро встала, ухватившись за спинку кресла. Марфа Парфеновна теперь смотрела на нее снизу вверх – непонятным взглядом, то ли торжествующим, то ли жалобным.
– Золото, Машенька, золото! Ты за него кару приняла, крест несешь – ты и отмолишь!
– Ну, это уж совсем… – Маша едва не сказала «глупо», да вовремя осеклась. Вот, оказывается, что тетеньке вошло в голову. Богатство! И ведь не убедишь теперь. Все точно по Писанию: богатым в Царство небесное вход заказан.
Но почему – кара?
– Болезни-то твои с чего пошли, – тетка будто услышала ее мысли, – ты не помнишь, дитем была, а я-то…
– Я помню, – быстро перебила Маша. Ей вдруг стало страшно и невыносимо захотелось прервать тягостный разговор. – Только никакая это не кара, и золото не при чем. Тетенька, давайте мы потом решим, ладно? До Рождества еще далеко!
– Время пролетит, охнуть не успеешь. И решать, хошь не хошь, а придется.
Глупая птица страус, растерянно подумала Маша, глядя, как Марфа Парфеновна поднимается со стула. Зажмуриться, сунуть голову в песок, и – все, нет никаких забот и опасностей. Вот так их всех, этих страусов, и перевели. Наверно, ни одного не осталось.
…Осень в тот год выдалась поздняя – к Покрову снег еще не лег. Ветры да солнце, да короткие дожди, от которых таежные пути не успевали размокнуть. Отцова таратайка бодро неслась вперед, подскакивая на кочках, Игнатий встряхивал вожжи, громко чмокал, погоняя лошадей, а отец еще и подзадоривал:
– Наддай, наддай пуще! Не бойся, белка, дорога хороша, авось не перевернемся!
Перевернуться? Это с отцом-то? Маша смеялась, жадно вдыхая пряный осенний ветер. Быстрые облака бежали над головой, хотелось ехать, ехать и ехать – вот так, прижавшись к отцу, все дальше и дальше.
Они ехали на прииск. Маша в свои пять годков не очень хорошо представляла, что это такое. Вернее – кто: огромный мохнатый зверь, которого отец нашел в тайге и приручил. Звали этого зверя как ее: Мария. Значит, плохого ждать от него не приходилось. Тем более, что и отец относился к нему с особенной любовной гордостью.
– Погоди, белка, сейчас глянешь – о-го-го, голова закружится!
Но поглядеть – так и не пришлось. Вернее, Маша только много времени спустя поняла, что груда громоздких неуклюжих строений, возбужденные люди, крики, грязь под ногами – это и есть прииск. У нее и впрямь закружилась голова, и она растерянно смотрела по сторонам, выискивая взглядом: где же зверь? Спросить у отца никак не выходило: его тут же взяли в оборот, кто-то что-то доказывал, размахивая руками, и отец отвечал азартно и весело. Маша потихоньку отошла от него и двинулась вдоль дощатой стены, остро пахнущей свежим деревом – в надежде все-таки отыскать зверя.
Где же он есть? Может, вон там, – где стена обрывается, под высокой плоской крышей из бревен, что опиралась на могучие кедровые сваи? Сидит себе в тени, а подойдешь, так возьмет да укусит! Маша вздрогнула и остановилась, потому что в тени за сваей и впрямь обозначился кто-то. Нет, не зверь! Она перевела дыхание – облегченно и разочарованно. Это был человек, обыкновенный мужичок в ободранной заячьей шапке и в армяке, подпоясанном веревкой. Лицо у него, с пушистой бороденкой, улыбчивое, взгляд – ласковый.
– Ты чего гуляешь-то, а, малая? Гляди, зашибут.
Маша фыркнула. Ее-то – зашибут? Да разве отец позволит? Мужичок, поняв, засмеялся:
– А, так ты ж у нас Гордеева Марья Ивановна! Царевна Ишимская. Наше почтение!
Маша, почуяв насмешку, нахмурилась. Хотя с чего бы – насмешка-то? Как он сказал, так и есть. Мужичок протянул руку:
– Хочешь поглядеть, как тут чего? Давай, покажу. Видала, машина какая большущая? Вон по тем желобам вода течет. Ладно дело, моет породу, да золотишко-то на свет и проявляется…
Он говорил часто и гладко, голос журчал, как вода в желобах. Маша не успевала вникать в смысл речей, да и не пыталась. Просто было приятно, что ее водят как большую, показывают. Еще бы: царевна Ишимская! Задрав голову, она заворожено смотрела, как медленно крутится громадное колесо, вода, посверкивая на осеннем чахлом солнышке, срывается с лопастей, а над колесом – дощатая будка так ходуном и ходит, вот-вот обвалится, словно спичечный домик. Может, вот это и есть – прииск? Да вряд ли, машина – она неживая. А у зверя – коричневая шкура как у медведя, густая, теплая, и маленькие ласковые глазки. Вот как у этого мужика.
Сверху на них закричали: поди, не суйся! Мужичок потянул Машу за руку, она послушно пошла за ним, оглядываясь: где там отец? Он успокоил:
– Батюшку выглядываешь? Да куда ж он денется, батюшка-то твой, чай, он тут – главный! Все тут – его, и машины, понимаешь, и людишки, и самородки, и песочек золотой…
Мужичок вдруг запнулся – будто всхлипнул. Маше, невесть почему, стало не по себе, она дернула руку, и он сразу заторопился:
– Ладно дело, пошли, пошли к Ивану Парфеновичу… А вон, видишь: птица на ветке? Это, я тебе скажу, особенная птица, в самые что ни на есть ядреные морозы детишек выводит, и сам черт ей не брат. Давай-ка подкрадемся поближе да гнездо-то и углядим…
Мимо них проходили и пробегали люди, тянулись лошади, запряженные в телеги с тяжелой поклажей… а потом как-то вдруг оказалось, что – ни людей, ни телег, одни деревья, и звуков никаких, только шуршит под ногами палая листва, да голос мужичка частит ладно и гладко:
– Птицу-то мы споймаем… Иван-то Парфенович тебе и жар-птицу принесет, коли захочешь. Ладно дело! Он – все может. Золотишко вот открыл… Ты думаешь – он открыл? Или Алешка косоглазый? Они-то тебе так и скажут, а ты слушай! А Коську Хорька не слушай, у него, у Коськи, мозга за мозгу еще когда зацепилась, вот и мстится невесть что…
Он вдруг остановился и – уселся прямо на землю, в грязь, не выпуская Машиной руки. Она снова услышала всхлип, но на сей раз не испугалась. Стало ясно, что у мужичка этого какая-то беда, и она, Маша, нужна ему – чтобы пожалеть. Потому и зазвал ее в это безлюдное место, приманил птицей. Птица и впрямь трещала где-то в кедровых лапах, да до нее ли. Маша заморгала, чувствуя, как невыносимо щиплет глаза.
– А ведь мое золотишко-то, – мужичок поднял голову и поглядел на Машу снизу. Лицо у него было мелкое, красное и растерянное. – Если кто спросит, ты так и знай: я нашел. А они меня вот эдак, – он, отпустив Машину руку, сделал короткий судорожный жест, будто хотел обломать себе пальцы.
– Не надо! – Маша схватила его за руку, он тут же накрыл ее ладошку своей, корявой, как еловый корень.
– Да не буду. Не буду, вишь что – пороху не хватит.
Он поморщился и отвернулся.
– Поначалу-то – с ножичком ходил. Примеривался… Да ведь, если рассудить – кто виноват? Алешка-змей, что опоил? А не пей! Насильно-то не толкал. А против твоего отца-то, малая, и вовсе теперь зла не держу. Он – большой человек, у них повадка такая, все под себя грести – а как иначе? Нашел, понимаешь, старичка из благородных, оформил на него все. И старичку хорошо, и у Гордеева руки развязаны: добывай себе золотишко, хоть и не того сословия… Я б разве так смог? То-то, – он тяжело поднялся. Взял Машу за плечи и, повернув к себе спиной, подтолкнул:
– Давай, беги. Видишь, тропа-то к прииску идет. Хотел я отцу твоему беду учинить, да разве ж можно… Беги, беги.
Маша качнулась от толчка, еле устояла на ногах и, обернувшись, увидела, что убегает – он, мужичок. Да так споро, будто вот сейчас на эту самую полянку, окруженную темными кедрами, выскочит зверь! Зверь – какой зверь? Маша испуганно огляделась. Зверь – добрый, у него шкура коричневая, мохнатая… Она дернулась было – за мужичком, жалость и страх захлестнули так, что перехватило дыхание! Догнать его, ведь не убережется – зверь сожрет! Она побежала. Мужичка уже не видно было за деревьями, и Маша не знала, куда бежать. Ясно было только, что – надо, обязательно надо догнать его, иначе будет плохо всем, а больше всех почему-то – отцу.
Бежала она недолго – пока не споткнулась. Упала, сильно ушиблась о корягу, спрятанную в бурьяне, и заплакала. Жалко было, невыносимо жалко бедного пропащего мужичка, которого теперь уж не спасти. Съедят! За себя ей почему-то совсем не было страшно.
Само собой, ее отыскали бы в пять минут – отошли-то они с Коськой Хорьком совсем недалеко от прииска. Да на беду, когда Иван Парфенович спохватился: где дочь? – тут же нашлась добрая душа, готовая услужить, и сообщила что вот только что видали Машеньку там-то – совсем в другой стороне. Туда и побежали. А Маша, наревевшись, встала и пошла было к отцу, – да следочки-то в грязи разве разглядишь, а все стволы и пни оказались на одно лицо…
Найти-то ее нашли. К ночи, когда совсем стемнело. Кто-то вспомнил, что видел хозяйскую дочку с пропащим пьяницей Коськой Хорьком; а потом уж Тришка, приисковый пес, привел взбудораженных рабочих к маленькому комочку, утонувшему в груде палых листьев. Этого Тришку Иван Парфенович потом кормил и холил на своем дворе до конца его дней. Хорек же с тех пор так и сгинул. Искали его, конечно, да не сказать чтоб с большим усердием. Указания такого Гордеев не давал. С Машенькой-то ничего опасного поначалу не случилось – так, вялая простуда, ночной страх да слезы непонятно о чем. Потом вроде поправилась… а спустя недолгое время поднялся вдруг жар, и отказали ноги.
Доктора и знахарки говорили разное. Остяк Алеша мигом собрался и привез шамана Мунука – тот уже и тогда славился тесной дружбой с добрыми и злыми духами. Мунук определил: костная гниль, злющие нгамтэру постарались. Дело трудное! Алеша рассказывал потом Машеньке, как Мунук ходил в страну мертвых – Бодырбо-моу – за ее душой.
Маша этим рассказам верила. Даже и потом, когда стала постарше. Она ведь и сама помнила, что побывала где-то… Там были сумерки и сырой туман – и много народу, только в тумане никого разглядеть невозможно. Маша ходила и вглядывалась в тени – искала. Этого мужичка с жалким лицом и пушистой бородой, в рваной заячьей шапке. Он там был, конечно, но она его не нашла.
Глава 12
В которой Иван Парфенович дает наказ слугам и готовится представить обществу нового управляющего. Здесь же рассказывается история семьи Златовратских
Для общественных собраний выстроен вплотную к училищу добротный сруб из огромных лиственниц, с крыльцом, сенями и клетью для всяких припасов. Тесовая четырехскатная крыша выкрашена веселым суриком. Две большие печи с изразцами позволяют сносно протапливать дом даже в самые лютые морозы.
Построен флигель по инициативе все того же Гордеева. Невелико егорьевское «обчество», мог бы и у себя в хоромах принимать, места хватило б с избытком. И гостей Иван Парфенович, особенно по молодости, любил. Чтоб с размахом, чтоб водка-вино рекой, закуски с блюд вываливались, чтоб песни пели, разговоры разговаривали, а напоследок, когда уж сил калечить друг друга не осталось, можно и за грудки похвататься, пар спустить.
Но Марфе Парфеновне такие развлечения уж больно не по нутру были. Да и дети в дому без матери растут. Особенно Машенька, тростинка хроменькая, ей-то такое видеть и вправду ни к чему. А если, не ровен час, обидит кто?
А тут как-то прочел Иван Парфенович в Сибирской газете про Сперанского и его идеи. Дворянское собрание, купеческое собрание, развитие общественной мысли, местного самоуправления и прочее благорастворение воздусей… А мы чем хуже? Управлялись мы, конечно, и впредь управляться будем безо всякого Сперанского, а коррупцию, по-простому сказать – мздоимство, никаким декретом из русского чиновника не искоренишь. Не поставишь же к каждому по казаку с нагайкой. Да и казаки – те же люди…Но вот насчет собраний для развития общественности…Пусть и у нас будет. Купцов, правда, гильдейских в Егорьевске нету, да и дворян раз, да еще полраза… Ну да ладно, будет у нас собрание общественное, для всего обчества, значит… Сказано – сделано. Купил потребного лесу, срубили плотники флигелек. Обустраивали всем миром. Теперь-то привыкли уж…
Днем в пятницу Иван Парфенович кликнул слуг. Они выстроились перед ним в ряд, выпятив грудь, как солдаты перед ротмистром. Особенно впечатляющей получилась грудь у Аниски – вот-вот выстрелит.
– Водки достанет? – грозно вопросил Гордеев.
– Не извольте беспокоиться, – степенно отвечал Мефодий, старший из слуг не столько по возрасту, сколько по сообразительности. – Хоть пей, хоть мойся, на все хватит.
– А вина сладкого для баб…тьфу! Для дам?
– И это в достатке.
– А ежели кто в тарантасе приедет?
– Распряжем и обиходим по высшему разряду, – поторопился Игнатий.
– Ну, глядите у меня! Чтоб все было!.. А ты, Аниска, следи. Как все соберутся, проводишь сюда Марью Ивановну, поможешь ей.
– Да ну?! – Аниска вылупила пуговичные глаза. – Неужто Марья Ивановна согласилась пожаловать? Они ж с Марфой Парфеновной к всенощной собирались…
– Молчи, девка! – гаркнул Гордеев. – Не то за косу оттаскаю!
Аниска пискнула и прикрыла рот ладошкой. Мефодий позволил себе слегка ухмыльнуться и моргнуть в сторону хозяина: что, мол, с глупой девки взять?
– Иван Парфенович, дозвольте мне Марью Ивановну доставить. Аниска глупа, как курица, рот раскроет, подружку встретит, еще чего… А Марья Ивановна у нас кротка, окоротить не сумеет.
– Нет, Мефодий, ты здесь нужен будешь для обустройства. Аниска справится. А не справится, так пожалеет…
После Гордеев ушел в дом, а Аниска извернулась и показала Мефодию острый, розовый, дрожащий как у змеи язык.
Первыми из гостей прибыли в тарантасе Златовратские. Сам Левонтий Макарович ходил до училища от дому пешком (да по чести сказать, там и идти всего ничего было), но барышни изволили хотеть кататься. Барышень Златовратских было общим числом три, но когда они собирались все вместе, или, положим, пихаясь и бранясь, вылезали из раскачивающегося во все стороны тарантаса, казалось, что их куда больше.
– А где ж свояченица моя? – спросил Гордеев Левонтия Макаровича, сторонясь от шуршащих нарядами барышень и провожая свояка в залу.
Зала, впрочем, уж не была совершенно пустой. В одном из ее углов сидел на толстоногом стуле плотный, достаточно молодой человек с козлиной бородкой. Вся его поза поражала какой-то изначальной стабильностью; казалось, что он сидит так от завоевания Сибири Ермаком Тимофеевичем и будет сидеть до наступления Страшного Суда. В руке с широким запястьем молодой человек держал зеленоватый стакан и медленно цедил из него водку, настоянную на золотом корне и брусничных листьях. Сам он почему-то именовал сей напиток аперитивом. Звали молодого человека Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин, служил он учителем, наставлял в разнообразных науках егорьевскую молодежь, и тут же, при училище и проживал.
В другом углу стояли, размахивали руками и горячились в споре трое чем-то схожих между собой мужчин среднего возраста – самые крупные (после Гордеева) в Егорьевске подрядчики и ростовщики. Росли и матерели они вместе, и потому, в зависимости от поворота разговора, то называли друг друга уважительно, по имени-отчеству, то по давним кличкам, которые носили, когда были парнями. Один из мужчин занимался преимущественно казенными поставками соли, другой – брал подряды на лесоторговлю, а третий промышлял чисто извозом, но, понятное дело, не брезговал и скупкой и перепродажей пушнины и других товаров у жителей притрактовых сел. Красные, мокрые лица и всклокоченные бороды подрядчиков указывали на то, что, воспользовавшись поводом и местом для обсуждения своих деловых вопросов, они беседуют уже давно, и за истекшее время не раз отдавали должное брусничному «аперитиву». Возле спорящих мужиков мялся с ноги с ногу веснушчатый недоросль – здоровенная орясина годов этак на восемнадцать, удивительно просто, почти по-крестьянски одетый, и перепоясанный ярко-красным кушаком.