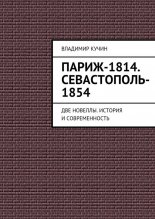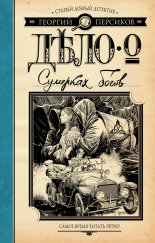Где нет параллелей и нет полюсов памяти Евгения Головина Коллектив авторов

Елена Головина
Мой отец Евгений Головин
Для такого существа, каким был мой отец Евгений Головин, подробности личной биографии не просто не имеют никакого смысла, этой биографии как бы принципиально и нет, потому что все так называемые случившиеся с ним события могли быть какими угодно другими, то есть любыми, от этого нисколько не поменялась бы суть. Он вечный человек, как вечен камень, дух, океан, гора, Аполлон и Дионис; вокруг него могла разворачиваться война, революция, поздний совдеп, наводнение, застой или перестройка – не важно. В тот момент, когда мы решили собрать книгу воспоминаний о Евгении Всеволодовиче Головине, я поняла, что окажусь в сложном положении, потому что этот человек – мой отец и в силу одного этого соприкоснулся со мной в том числе и своей смертной, человеческой стороной. У меня были мучительные сомнения, стоит ли рассказывать его личную раннюю биография или можно спокойно без этого обойтись, тогда его портрет, нарисованный в этом сборнике знавшими его людьми, останется полностью мифологичным. Никаких сомнений в том, что мифологический портрет гораздо ближе к сути, чем так называемый «личностно-человеческий», у меня, разумеется, нет. Тем не менее я решила все-таки немного затронуть его личную историю и надеюсь, что ему не будет это неприятно. В последние пару лет жизни он часто заводил разговоры о семье, о своих родителях, родных, и я чувствовала, что у него есть потребность ощущать, что и он по-своему составляет часть родовой цепи; возможно, в последний, самый тягостный период его жизни внутренние ветра уже слишком сильно относили его от земных берегов, и эти разговоры были своеобразной привязкой, попыткой на секунду дольше задержаться на здешнем якоре. Мне так и хочется написать, что все, с ним случившееся, так называемые «факты» его жизни – это неправда, ведь лишь ничтожная часть его существа принимала участие в банальной обыденщине существования. И все же…
…Родной брат Жени – Рудик был на год старше, но его пожирал, высасывал голод войны, пощадив только огромные темные глаза в пол-лица; плоть Рудика исчезала, и маленький Женя думал, что ею питаются домовые, живущие за печкой, – так говорила бабка; может быть, бабка нарочно скармливала домовым Рудика, потому что он был гениальным. Отец всю жизнь повторял, что трехлетний Рудик был гениальный, но как двухлетний мог заметить гениальность трехлетнего? Он говорил, это было заметно по глазам – единственному, что дольше всего сохранялось от тающего Рудика. Отец подкрадывался ночью с ножом к бабке – отрезать ее воняющей скипидаром плоти и подкинуть домовым; все, что дурно пахнет, не подходит для высших созданий, эту истину пришлось рано усвоить. А что домовые создания высшие, он поначалу узнал от бабки: она любила по вечерам ставить по рюмке водки домовым, чтобы они охраняли ее. Зато Рудика домовые прикончили; может быть, даже и по приказу бабки, так думал Женя. Он намеревался сам залезть на место брата в детский гробик, и залез бы, бабка даже бы не заметила. Но тут произошло явление красивой еврейки с косами, уложенными вокруг головы. Юля. Скипидарная бабка сначала хотела отогнать ее палкой, но когда из Юлиной сумки вывалилась курица, и банка кофе, и сахарок, бабка закивала одобрительно. Запах Юли Жене не понравился сразу – пахло мылом. И вонючий скипидар против него оказался куда животворнее, душистее и кучерявее; и даже бабкина страшная палка будет вспоминаться эдакой веселой девахой, любящей пооколачиваться в недозволенных местах, и белый снежный Свердловск, от которого единственное воспоминание – пар изо рта, как у паровоза, на который ходили смотреть с бабкой. Но это будет понятно потом, а пока Юля купила Женечку леденцовыми петушками на палочке и разрешала поначалу засунуть их в рот сразу четыре.
Так из Свердловска в 1943 году умиравшего от голода пятилетнего Женечку Головина забрала в Москву дальняя родственница Юлия Исааковна Гершзон, двоюродная сестра Жениной бабушки по отцу. Муж Юли – Александр Исаакович или просто «дядя Саня» – оказался большим человеком, директором московского часового завода. До конца жизни отец отзывался о нем по-детски: «Дядя Саня был очень хороший». Ютились в Плетешковском переулке в двух захламленных комнатушках. Женя уже знал свою историю: их с братом Рудиком оставила мать по имени Евгения Федоровна Васильева; красивая и талантливая актриса бросила в военное время голодных детей – Женечку и Рудика на произвол своей матери и отбыла на поиски приключений; а их отец Воля, Всеволод Викторович Головин, ушел на фронт. Он был поэтом, путешественником и искателем. Ростом метр девяносто шесть и красив, как бог; ему вслед оборачивались все женщины на улице. Романтик, он в 16 лет сбежал на Север, где прожил целых шесть лет; стихи сохранили память о его романе с юкагиркой – к ужасу своих родителей, он едва не привез ее в Москву и не женился на ней!
- Подошел без гримас и кривляний
- Поняла ты и стала любить
- Никаких не давал обещаний,
- Никого не клялся позабыть
Юля вспоминала, что редкие наезды Всеволода в Москву, особенно при деньгах, что иногда случалось, обожала вся семья, потому что человеком он был широким, мог выкинуть шальные деньги, если вдруг они на него сваливались – на подарки детям, кузинам, племянникам, просто приятелям; одно время он дружил с Константином Симоновым, пока тот не предал его каким-то образом, но подробностей никто не знает. В отличие от самого Жени, его отец Всеволод был путешественником прежде всего во внешнем проявленном мире, неутомимым, физически выносливым, умелым по части костров, рюкзаков, походов, палаток, он даже внешне напоминал викинга. Женя любил фраппировать рассказами, будто бы его отец перебежал к немцам. Очень это сомнительно. Скорее всего, он погиб на фронте. Во всяком случае, около 1942 года Всеволод Викторович Головин бесследно исчез, и с тех пор семья ничего о нем не слышала.
Откуда взялась приемная мать Юлия Исааковна Гершзон, приехавшая за маленьким Женей в Свердловск? Юлю попросила об этом ее двоюродная сестра Берта, в то время мотавшая сталинский срок на Колыме.
Берта Александровна Бабина-Невская, уникальная личность – бабушка моего отца и, соответственно, мать Всеволода. Она жила в те невероятные, «царские» времена, когда еще можно было родить сына в Риме, снимая просторную квартиру неподалеку от собора святого Петра, – там на свет и появился Всеволод. Берте было 18 лет, когда, увлеченная идеями анархистов и влюб ленная в анархиста, она сделала попытку выстрелить в генерал-губернатора. Промахнулась. Всю жизнь потом вспоминала отеческую улыбку своей несостоявшейся жертвы и его слова: «Вам, барышня, замуж надо, а вы стрелять». Он не позволил полиции тронуть ее.
Позднее муж Берты, Виктор Головин, потомок русской аристо кратической фамилии Головиных, связался с левыми эсерами, стал одним из лидеров их петербургского кружка, но рано умер от туберкулеза. Берта Бабина за свою революционную деятельность, которую она не думала бросать, попала в питерские «Кресты» уже в 1922 году; рассказывала, как в соседних камерах на нарах оказались ее друзья – князь Оболенский и многие другие. Встречаясь на тюремных прогулках, они говорили о французской литературе и преимущественно по-французски. Упоминать погоду, здоровье и их незавидное положение считалось дурным тоном. 25 лет сталинских лагерей, работа на лесоповале, а потом поселение Берту не сломили… В ссылке умер ее второй муж Борис Бабин.
В 1964 году Берте после реабилитации разрешили вернуться в Москву. Я помню ее крошечную комнатку на Сиреневом бульваре, заполненную книгами, огромное резное деревянное кресло, казавшееся мне троном, – кто-то ей подарил; почти такое же было в петербургском доме ее богатого отца – ведущего путиловского инженера. Помню, как, притаившись, я сижу под большим письменным столом Берты и наблюдаю, как 8 марта собираются ее подруги – аккуратные, элегантные и подтянутые старые женщины, ее уцелевшие подруги-колымчанки. Старухами их назвать невозможно, потому что у них в 70 и более лет горели глаза и щеки вспыхивали от разговоров о… справедливости; несмотря на все, что с ними сделала власть, они по-прежнему волновались о том, чтобы с народом «поступали справедливо». Эти интеллектуалки и идеалистки, все как одна – красавицы (я видела их молодые фотографии) и тогда уже смотрелись абсолютными инопланетянками, с какой-то целью занесенными в ад XX века, да еще и в революционную Россию! К Берте приходила часто Надежда Яковлевна Мандельштам, моя прабабушка неоднократно повторяла ей историю, как в 1938 году на пересылке столкнулась с Осипом Мандельштамом, – зашла в мужской барак, там на нарах сидел, покачиваясь, совершенно сумасшедший человек и читал знакомые стихи:
- На страшной высоте блуждающий огонь!
- Но разве так звезда мерцает?
- Прозрачная звезда, блуждающий огонь, –
- Твой брат, Петрополь, умирает!
- На страшной высоте земные сны горят,
- Зеленая звезда летает.
- О, если ты звезда, – воды и неба брат, –
- Твой брат, Петрополь, умирает!
Отец хоть и не стал писать о Мандельштаме в своей книге «Серебряная рапсодия», не посвятил ему отдельную лекцию, на самом деле высоко ценил этого поэта.
…Коротко возвращаясь к Берте Бабиной. Она прожила очень долгую жизнь, пережив обоих сыновей и относясь ко всему с философичностью истинной аристократки. Ее последними словами были: «Пора идти, конвой ждет». Как я надеюсь, что в тот последний раз ей удалось от него улизнуть! Женя на самом деле очень любил Берту, свою родную бабушку, но любил тайно, никогда не признаваясь в этом; они понимали друг друга в каком-то глубинном сущностном смысле просто отлично, а в так называемом бытовом – весьма неважно. Она звала его «Женька», считала лоботрясом и бездельником, осуждала за пьянство и все пыталась наставить на истинный путь. Отец отмахивался от нее, что вроде как и она не стала образцовой домохозяйкой, матерью и женой, а всю жизнь боролась с ветряными мельницами и защищала абстрактные идеи. «Берта была кремень-девка», – повторял отец с явным одобрением.
Что касается приемной матери Юли, то, похоже, Жене было очень сложно в том семействе, где кроме Юли и ее мужа Сани было еще двое детей – Катя, дочь Юли от первого брака, и Шура, сын Сани от первой жены. Женя рос странным, вещи и подарки у него не приживались: подаренные дядей Саней на Новый год часы в тот же вечер оказывались передаренными парню со двора; гитару, о которой Женя мечтал в старших классах школы, он через неделю вручил какому-то незнакомому типу в метро в обмен на французскую книгу. Юля сходила с ума от этих выходок, водила его к психиатру, тот выслушивал, расспрашивал про наследственность, про мать и отца. Юля многозначительно вздыхала, Женя, стоя с сторонке, ядовито ухмылялся.
– Вы читаете, молодой человек? Ваша мать хочет, чтобы вы побольше читали…
Напрасно уважаемый мозговед задал этот вопрос.
– Мои любимые авторы Пруст, Кант и Ницше. Кстати, как вы понимаете выражение: «………»?
Вспотевший после неравной интеллектуальной схватки психиатр наклонился к трепещущему в ожидании приговора Юлиному уху и многозначительно прошептал, что он, м-да, опасается вялотекущей шизофрении. Ее глаза вспыхнули: она же подозревала, догадывалась! Бедный Женя.
Юля засуетилась вокруг него; ее представления обо всем хорошем в мире сводились к мылу, душу, таблеткам, лечению, учению и подражанию поведению порядочных людей. Она пыталась совать ему таблетки, из этого получался взрыв.
Рос Женя в основном на улице, шлялся по дворам, отчаянно дрался, был в самом деле уже тогда «бешеный и смелый»; часто рассказывал, как они дрались школа на школу – он учился в мужской гимназии. Его выпускали вперед, потому что он владел «трюком» – бить противника взглядом, на самом деле надо было смотреть ему точно в точку переносицы, соблюдая абсолютную концентрацию внимания…
- Кончают институты
- И создают уюты,
- Мучительно ищут призванья.
- Но я – иное дело,
- Я бешеный и смелый,
- И драка – мое дарованье.
- Я захожу в кафе
- В пальто и галифе,
- Вообще по классической моде.
- Ногой кому-то в пах,
- Ножом кому-то в глаз,
- А бармену – просто по морде.
- Плевать на карате,
- Плевать на айкидо,
- Плевать на увечья, порезы.
- Я в гости захожу
- И второпях пальто
- Срываю под музыку лезвий.
- Одних волнуют девки,
- Других волнуют деньги,
- Кругом безобразная давка.
- Но в жизни есть одно
- Жемчужное зерно –
- Роскошная, светлая драка.
- Но вот ножом в живот,
- И провалился лед.
- Ах, как ослепительно больно!
- Восторженно плыву
- В кровавый небосвод
- Убитый, но очень довольный.
Расти в прагматичной еврейской семье, «культурной» и «читающей», было для отца пыткой, особенно слушать воспитательные речи Юли, пытающейся поднять приемного сына, напоминающего дикого волчонка, напряженного, всегда готового к нападению и опасного, до уровня советской интеллигенции с ее претензиями, болтовней, беспомощностью и катастрофическим отсутствием хорошего вкуса за ничтожным исключением.
«Ниже всех стоит „шляпня“, „инженерье“, советская интеллигенция, у нее нет внутреннего бытия вообще, это бумажное изделие, смертельно мокнущее под дождем, разрываемое любым нервным порывом бытийных ветров», – напишет он потом.
Конечно, на свой лад Юля старалась как могла. Изо всех своих троих детей (Катя стала «крепким инженером», Шура впоследствии драматургом) она считала Женю обделенным и неприспособленным, а он ненавидел ее жалость и не нуждался в ней. Справедливости ради надо сказать, что в глубине ее правильной души именно Женя все же цеплял ее за живое, и при виде этого вечно блудного и неприкаянного сына геометрически точные и устойчивые, прямоугольные и квадратные конфигурации ее жизненных установок начинали подозрительно подрагивать; тайком от других детей она совала ему деньги, ужасаясь тому, как аккуратно разложенные по достоинству купюры в мгновение ока превращались в смятые бумажки и небрежно отправлялись в задний карман, туда, где лежали перочинный ножик, зажигалка, сигареты и записная книжка.
Мне впоследствии постоянно объясняли, что мой отец очень талантливый, но… Надо было слышать интонацию этого «но» и видеть многозначительно поднятые вверх глаза. Я понимала: «… но он на Арктуре или на Веге». Ведь он сам мне говорил, что его любимое созвездие – Лира. С ним невозможно было связаться обычным способом; он вне доступа колясок, детей, криков, потребностей и долженствований. Взрослые, понятно, считают ребенка идиотом. А я все поняла про него с первого взгляда из коляски, и мое ощущение не изменилось до последнего дня его жизни. Я знала: он другой, принципиально, кардинально, экзистенциально другой, к нему неприложимы бытовые координаты, он находится в пространстве, где нет параллелей и нет полюсов, что он был всегда, но, видимо, не всегда в плоти человека. Мы иногда разговаривали про некую память, которая сохранила некие ощущения инобытия; иногда во сне, иногда в грезах они к нему возвращались и невыносимо спутывались со страшной совдеповской бытовщиной. Он говорил мне, что знает: ТАМ у него тоже есть дочь и есть ОНА, и мучительная борьба за то, чтобы хоть на мгновение прорваться в ТАМ заставляла его пить. Spiritus сглаживал прорехи и безжалостные острые углы ЗДЕСЬ.
Отношения Жени с приемной матерью окончились предсказуемо: он не пришел на ее похороны. Уже перед самым его уходом, буквально в последние дни, когда мы с отцом много говорили о семье, больше, чем всю предыдущую жизнь, он сказал, что Юля очень сильно обидела его и он не может ее простить. Это было совсем по-земному, но, к сожалению, даже отец был опутан проклятой колючей проволокой Земли, рода, плоти… Я часто думаю, ну какое же страшное преступление совершил этот высокий дух, чтобы оказаться в нищей тоталитарной стране, в убогих условиях, среди сброда, урлы, «пролов», в центре существования такого качества, которое А. Ф. Лосев назвал «смутным пятном неизвестно чего». Отец находил это определение научно точным.
Помню свое потрясение, когда я наконец осознала, что Женя не знал родной матери, а родного отца Всеволода не видел вообще никогда – от него остались только фотографии и воспоминания. В сущности, отец был сиротой, и это принципиальный момент его человеческой биографии, потому что иначе просто не могло быть. У того свободного, легкого, беспечного, огненного и опасного существа никак не могло быть родителей с конкретными чертами лица, трудными биографиями, банальными историями браков, разводов и прочей чепухи. Он не был ничуть похож на своих родителей, как и полагается при подобном рождении, природа всегда заботливо маркирует особые случаи; через своих родителей он «просто прошел», как он говорил. Дети зачинаются в воображении, тело в этом вообще не участвует, появление ребенка – это акция активной фазы имагинации…
…Расставшись с матерью совсем маленьким, Женя в следующий раз увидит ее взрослым, в 20 лет. Евгения Федоровна к тому времени оказалась в городишке Арзамас со своим третьим или четвертым мужем и совсем старой матерью; у Евгении было еще двое детей, но Женя не проявил к своим сиблингам ни малейшего интереса, они никогда не общались. Актерская карьера Евгении Федоровны к тому времени уже закончилась, она скучала, злилась на жизнь. Отец был в восторге от того, как она его встретила: не поведя бровью, не удивившись, не кинувшись к нему на шею с поцелуями и объятиями, не унизив душевной теплотой.
– Ну что, Женька, явился? – первые слова, какими одарила мать сына после почти двадцатилетней разлуки.
Его привело тогда в полный восторг это ее спокойствие, отсутствие слишком человеческих мерзостей типа «сыночек», «ах», «наконец-то»… Возможно, он встретил родственную душу: серия тошнотворных лексических банальностей, похоже, была чужда Евгении Федоровне, как и ему. Какое облегчение, что мать не испытывала ни малейшего чувства вины из-за того, что бросила детей, ей в принципе все это было не важно. Ее ледяная холодность абсолютно вписывалась в Женину уже почти сложившуюся философию, Оскар Уайльд к тому времени был им прочитан от корки до корки. Свою мать он возвел в идеал, говоря, что она оказалась женщиной «нормальной, холодной и не чадолюбивой»; первая встреченная им Снежная королева на уровне пока бытового, так сказать, семейного воплощения. Впереди их будет много, потому что Снежная королева, Белая дама – сердцевина Жениного космоса. Что касается собственно матери, то он съездит несколько раз к ней в Арзамас, несколько раз явится в Москву она, и на этом общение закончится.
Официально отец был женат всего один раз – на моей матери Алле Михайловне Пономаревой; женился очень рано, в 23 года, влюбившись в белокурую, хрупкую, мечтательную девушку, покорив ее стихами и обещаниями увезти в Эльдорадо. Моя мать в юности была похожа на Дину Дурбин – его любимый женский тип. В женской красоте отец отлично разбирался и, что очень меня удивляло, знал толк в макияже, оттенках помады и «стрелках» на глазах. На самом деле он выполнил обещание, данное моей матери, а потом и другим женщинам, и честно пытался увезти их всех в Эльдорадо и осыпать алхимическим золотом. Но. Это его любимая, самая короткая и такая красноречивая фраза – взять и поставить точку после «но». Итак, «но». Чтобы оказаться в Эльдорадо, надо этого захотеть.
Женщин было немало, а вот дома, в сущности, не было никогда; он часто говорил мне, что для мужчины это совершенно нормально, собственно, только так и может быть, ведь он всегда должен быть налегке, готовый в любую минуту тронуться в путь. Планета Земля и женщина – обе находятся под знаком двойки, двойственности, обе запутались в материи, поэтому дома, квартиры, вещи, предметы и владение чем бы то ни было Женя относил к сугубо женской сфере бытия. Расставшись с моей матерью, он до самого конца входил в мир и дом женщин, которых любил в данный момент, как экзотический корабль во временную гавань; и все они прекрасно это осознавали. Удержать его было нельзя, потому что его путь лежал в пространства, куда он не мог взять попутчиков; иногда он оказывался посреди своих грез и видений прямо на маленькой кухне Ирины Николаевны Колташевой на улице Вавилова, или в Горках-10 у Лены Джемаль, или еще на чьей-нибудь кухне, и часто начинался хаос. Женщины называли это пьянкой, безобразием, «отсутствием нормальной жизни», а для него это был просто спектакль бегства; алкоголь создавал возможность щели, куда можно ускользнуть от невыносимой скуки обыденности, серости, убойного молотка слова «должен», которым била по нему «нормальная» жизнь. Приемная мать Юля угостила его этим «должен» с раннего детства, потом в этот хор с большим или меньшим рвением включались его женщины. Он жаловался мне: «одним было нужно только мое тело, другим – только моя голова». Женя много писал о «естественной взаимной ненависти полов» и говорил, что вообще не понимает, как мужчина и женщина могут существовать рядом; но тем не менее он никогда не оставался без женщины и, в сущности, не мыслил жизни без этого врага. Видимо, женское бытие привязывало его к земле, иначе его корабль слишком легко снялся бы с якоря под действием слышных только ему ветров и его бы унесло далеко от земной орбиты.
Отца часто спрашивали, где и когда он успел столько всего прочесть и узнать. Я не сомневаюсь в том, что знание он принес с собой и легко достал изнутри, словно вспомнив в какой-то момент нужные имена и книги и начав за ними охоту по джунглям совдеповских библиотек, где они были столь же редки, как cyanopsitta spixif – попугай голубой ара. Так называемое «систематическое обучение» он, разумеется, презирал и университет бросил – кто и чему мог научить его в совдепе? «Если ты родился мастером, то стоит тебе прикоснуться к правильному материалу, как знание вспыхивает внутри». Это сейчас легко отыскать правильные книги, а в 60-е годы он двигался на ощупь и никогда не ошибался, как никогда не ошибается слепой, ощупывая незнакомый предмет и напрямую проникая в его качество и суть. Отец говорил, что стоит ему просто подержать книгу в руках, как он уже знает про нее все; впрочем, обычно достаточно и просто взглянуть на фамилию автора. Однажды, взглянув на фамилию Генон, отец сразу понял, что выудил бриллиант; он стал первым, кто открыл Генона в советском пространстве, и, читая «Царство количества», испытывал настоящее потрясение: неужели можно так мыслить, так писать об этом, так адекватно оценивать мир?
Списка своих учителей, как это принято, с выражением «признательности и благодарности» отец никогда не называл, потому что их у него никогда не было. Единственное одобрительное упоминание я слышала в адрес его школьного учителя словесности Сан Саныча; именно он дал наводку на библиотеку Иностранной литературы, и Женя там пропал. Каким-то образом ему удалось проникнуть в святая святых – в закрытый отдел, в спецхран, и на время он там практически поселился, обаяв тамошних сотрудниц. Но, в сущности, он учился у самого себя, годам к тридцати уже обзаведясь недурным кругом единомышленников и собеседников: Клагесом и Парацельсом, Джорджем Риппли и Александром Сетоном, Агриппой Нестенгеймским, Фулканелли и Канселье, многими другими. Он не читал и не изучал их, он существовал рядом с ними, разговаривал, иногда возражал, иногда соглашался, иногда хохотал, обожал подшучивать, перевирать их цитаты, смеяться над звериной серьезностью их адептов и последователей, мистифицировал профанов, просто в их обществе он чувствовал себя абсолютно свободно. Нисколько не уважал ученость, хотя многие завидовали его исключительной эрудиции; считал, что книги – последнее, где можно чему-то научиться, мертвые, пыльные, «прибежище бухгалтеров и счетоводов». Альтернатива? Вот, например, мы часто гуляли с ним в лесу. «Птицы живут в нескольких мирах, их голоса там и тут, слушай птиц. Слушай! Ты о многом догадаешься, поняв, почему иволга плачет, а малиновка смеется». Он говорил, что Парацельс о многом догадался, используя примерно такой же метод. Однажды под Москвой мы наткнулись на вырванный с корнем дуб: «Ну-ка скажи, почему сюда никогда не сядет ворон?» – «Сядет!» Он проверял, оказывается. Когда-то прочитав у Александра Сетона, что «ворон ненавидит вырванный с корнем дуб», отец сначала решил проверить, совпадает ли символическое выражение этой алхимической формулы с природными фактами, и в молодости наблюдал за вырванным с корнем дубом целую неделю. Воронов вокруг было, как обычно, полно, но ни одна из этих птиц не посмела приблизиться к дубу. Почему? Этого воп роса задавать было нельзя. Мир не связан причинными связями, он соткан из симпатий и антипатий, сближений и отталкиваний, совпадений и антитез.
Не изучать и анализировать, препарировать и корпеть, трудиться и седеть, лысеть и начитывать, конспектировать и докапываться. Настоящий скульптор просит разрешения у камня: «Камень, впусти!» И ждет. Настоящий алхимик делает то же самое. Его удивляли люди, «античники», тратившие время на псевдоученую писанину про античных богов; зачем писать о тех, кого ты никогда не встречал, кто никогда не проходил сквозь тебя, в чье существование ты даже не веришь? Богов надо уметь приветствовать в своем теле, знать их, и только через это множество лежит путь к единству. Как странны высказывания о том, что Головин – многобожник, отрицающий монотеизм. Он отрицал специфический монотеизм иудео-христианства, как он мог отрицать герметическое Единое, если был его носителем?
Он был живым на этом кладбище бухгалтеров и счетоводов, наставников и праведников. Скучнейшей морды отца у него не было никогда, и я горжусь, что к моему бытию самым непосредственным образом прикоснулось бытие живого и свободного существа. «Где твоя полярная звезда?» – спросил он у меня, когда мне было 14 лет. И добавил, что это единственный вопрос, который имеет смысл себе задавать.
…Я помню, как моя мать любила лицо молодого Артюра Рембо на черно-белой старой открытке, замечательной тем, что она очень походила на фотографию. Долгое время я вообще думала, что это наша родственница с густыми черными волнистыми волосами, красивее, чем у женщины. Потом, когда мне объяснили, что это мужчина, я решила – это портрет моего отца в юности. В сущности, между отцом и Рембо не было никакой разницы, и моя детская интуиция нисколько не подвела меня. На одном из своих молодых портретов он чем-то похож на Рембо, только красивее и наглее. Его полярная звезда всегда указывала на поэзию. Он родился поэтом, так же как он родился мастером и магом. В 17 лет Женя, только учивший французский, уже был пьян стихами Рембо, чувствуя их, как птица чувствует крылья; он любил повторять его фразу: «Я хочу быть поэтом и работаю над тем, чтобы им стать». Для того чтобы быть настоящим поэтом (акцент на «настоящем»), необязательно писать стихи, можно вообще не написать ни строчки, в этом отец был тоже убежден. Он жил так, как всегда жили поэты: никогда официально не работал, всегда был принципиально свободен и открыт для любого времяпрепровождения, писал, когда хотелось, а если по полгода не хотелось, так и не надо. Как поэт отец написал сравнительно мало, но он был поэтом во всем: как не работал и как работал; как вел разговор с любым – от пьяного бомжа у забора до зазнавшегося эрудита; как разговаривал с кошками на улице; как дионисийствовал с друзьями и как готовил. Я умирала от восторга, когда, например, он жарил мясо на самой обыкновенной убогой советской плите: огонь пылал такой, словно это костер, он клал куски мяса прямо в огонь на конфорку, а не на сковородку. Это тоже высокая поэзия, я считаю.
Поэзию он полагал самым высоким искусством изо всех, даже выше музыки, и самым свободным. Ему был доподлинно известен «темный ужас зачинателя игры», и он утверждал, что в 8 лет уже знал, что искусство связано с адом и только с адом:
- и с обнаженного лезвия
- теки моя кровь теки
- я знаю слово «поэзия»
- это отнюдь не стихи
Иностранные языки отец выучил легко и совершенно самостоятельно, словно просто вспомнил в нужный момент. Латынь считал среди всех самым главным, повторяя, что, не зная латыни, нечего соваться вообще никуда. Чтение в переводе он презирал, а сам переводить на самом деле не любил, находя это занятие скучным. Рабски следовать за чужим словом и способом выражения было для него невыносимо, ему всегда хотелось вырваться на свободу из тенет любого текста – поэтического, прозаического – и пуститься в собственное плаванье. Чужой текст он воспринимал лишь как импульс, как толчок вдохновения; я не буду пересказывать хорошо известные истории его литературных мистификаций, как он за Рильке «перевел» его письма, потому что те оказались «беспросветно занудны». Одно и то же нравящееся ему стихотворение Головин мог переводить десяток раз, раздаривать листочки с переводами, забывать о них, браться за перевод снова, поэтому сейчас существует столько версий.
Вообще, отец очень легко дарил не только свои стихи, переводы и картины (был период, когда он вдруг увлекся живописью), но и материальные вещи; мир вещей и материи не казался ему стоящим фиксации, он легко мог отдать приятелю драгоценный камень, редчайшую книгу, да все, что угодно, в чем другие усматривали величайшую ценность. У отца имелось свое представление не о богатстве, а о роскоши; богатство и буржуазность он презирал, а роскошь давным-давно исчезла, по его мнению, из этого мира. Если сейчас нельзя расплатиться в магазине золотыми луидорами, то какая же это роскошь? Его глаза зажглись, когда я привезла ему из Рима дорогое и модное пальто, и он тотчас забросил его в самый дальний угол, рассмотрев надпись: «made in China».
…Какой он был отец? Самый распрекрасный, потому что никогда не доставал меня воспитанием, нотациями, поучениями и прочей дурью, из-за которой впоследствии дети с полным правом ненавидят родителей. Появлялся он всегда внезапно, к тайной радости моей матери, любившей его до конца жизни и больше никогда так и не вышедшей замуж. Однажды он взялся учить меня английскому, и наш урок проходил так: он открыл пьесу Уайльда «Как важно быть серьезным» и начал читать мне вслух по предложению и тут же переводить на русский. Английский был мне тогда совершенно неведом, так как я училась во французской школе, поэтому поначалу у меня был шок, и я очень боялась впечатлить его своей тупостью. Самое интересное, что примерно к пятой странице я ухватила правила чтения, а к концу пьесы могла сама переводить прямо с листа. Разумеется, никаких правил грамматики отец мне не объяснял, но это оказался на редкость эффективный метод обучения.
Друзья знают Головина дерзкого, холодного, интеллектуального, вызывающего, блестящего, но мало кто видел его теплым и снисходительным, веселым и шутливым. К своей внучке (моей дочери Лизе) он испытывал слабость, нежно и деликатно редактировал ее литературные опусы, объяснял ей, как писать: «текст пишет себя сам и сам знает, какие употреблять слова, главное – ему не мешать». Однажды отец заверил Лизу, что никогда американцы не высаживались на Луне, это просто голливудская картинка. Он был так красноречив и убедителен, что Лизка поверила и потом с пеной у рта отстаивала эту точку зрения в школе.
…Когда появилась возможность ездить за рубеж, я все пыталась соблазнить отца путешествиями, и он неизменно сопротивлялся, повторяя, что не хочет смотреть, как «пролы» (быдло, плебс) испоганили прекрасные города. Впрочем, он всегда добавлял, что «все, что надо, я и так видел». Он начинал рассказывать о Риме, Венеции или Флоренции времен расцвета, и становилось ясно: так мог описывать только человек, который присутствовал там, видел все своими собственными глазами и переживал мистерии лично. Он описывал, как разрушили на острове Родос храм Афродиты и как отомстила богиня всем и каждому, посягнувшему на ее святилище. В частности, по его мнению, Дионис последний раз «по касательной» пересек земную орбиту во времена расцвета рок-культуры, это была последняя божественная вспышка экстаза перед тотальным наступлением серого – серого дня и серой ночи, в принципе неотличимых друг от друга, в которых мы пытаемся выжить сейчас. Нас давно покинули боги, поэтому о жизни речь давно не идет. Только о прозябании. О выживании. О стойкой мерзлоте.
Помню, как я, впервые побывав в Италии в середине 90-х, примчалась к нему, нафаршированная идиотским восторгом, а он слушал меня спокойно, как всегда, чуть иронично улыбаясь, а потом сказал: «Ты просто девчонка и дура, никакой Италии нет». Ах, Уффици, ах, Флоренция, ах, великое искусство – мои жалкие мантры были прерваны резким словесным ударом: «Все это заслуживает одной хорошей бомбы». Запретное «почему» я проглотила, и он добавил: «Из-за того, что все это непонятно зачем и непонятно для кого сохранилось, ты не можешь взять в руки кисть и рисовать. Никто не может. Ты смотришь на Боттичелли, ты смотришь на колокольню Джотто, и? Какой смысл после этого заниматься живописью, да и любым другим искусством? Это убивает твой дар». Иногда он добавлял, что подозревает: потому-то все это и сохранилось, чтобы попросту убить последних живых людей, лишив их последней творческой потенции, морально раздавить.
Отец декларативно называл себя язычником и обожал эпатировать публику своими резкими высказываниями в адрес христианства (разумеется, на самом деле он относился к нему без всякого фанатичного неприятия). Вообще, в его настоящем характере не было абсолютно ничего фанатичного, границы его толерантности были достаточно широки; он часто цитировал Ницше: «Если нельзя любить, надо пройти мимо». Я много раз видела, например, как он читал и иногда редактировал присланные ему чужие тексты: деликатно, осторожно, никогда ничего грубо не перечеркивая, никогда тотально не ругая…
Что касается церкви, то ему претило такое экзотерическое и профанное образование, как нынешний институт церкви, – а кому он может понравиться? Но христианство он считал «великой мистерией», совершенно извращенно понимаемой и толкуемой. Часто говорил о том, что евангелия совершенно недоступны пониманию из-за того, что это всего лишь переводные списки. Себя он называл, как известно, язычником, но никому не навязывал своего миропонимания, хотя для него это было серьезно. Его миро воззрение было гораздо сложнее того, что обычно имеется в виду под понятием «язычества»; ему, скорее, нравилось слово, из слова «язычество» он сделал яркую дразнящую игрушку и, как мячом, кидался ею в слишком любопытных. Его настоящих воззрений я затрагивать здесь не буду, скажу только, что Головина в принципе не стоит воспринимать слишком буквально, и его эссеистику надо читать между строк, впрочем, как и всех серьезных людей. Недаром отец обожал шарлатанов и мистификаторов, всегда был на их стороне и только смеялся, очень довольный, когда «шарлатаном» называли его самого. Слава богу, что профаны считают кое-что мистификацией и обманом, реальные адепты тоже любят напустить туману, чтобы отбить охоту у толпы соваться куда не надо. Как однажды сказал отец: «Теперь всякая свинья лезет в Бретона и Канселье».
С другой стороны, отец около 15 лет прожил с Еленой Джемаль, православной христианкой в свои поздние годы, не пропускавшей ни одной службы и певшей в церковном хоре. Никогда между ними не происходило разногласий на религиозной почве, и отец в высшей степени терпимо относился к христианству Лены, а если и поддразнивал ее, то весьма деликатно и скорее шутливо. Она точно так же относилась к его интересам. Не возникало никаких проблем, чтобы вместе присутствовать на магических «калиновых радениях», – в июне мы всегда ходили на «Бахчисарай» на эти самые радения. «Бахчисараем» назывался кусок самозахваченной под огороды земли в Горках-10, где отец жил с Леной до самой ее внезапной смерти 3 января 2005 года. Лена Джемаль умирала от ураганного рака легких, ее болезнь была короткой и страшной, мы все рядом, и отец в первую очередь, погрузились в ад. Однако он совершенно не хотел пребывать в этом бытовом аду и всячески стремился вырваться оттуда. Это не имело никакого отношения к бессердечию, ровно наоборот: он был слишком впечатлителен и слишком тонко организован, чтобы выносить грубое, вульгарное зрелище ухода с земного плана, эту жестокую насмешку тела над душой.
Вообще, он был чрезвычайно ранимым, обнаженно-чувствительным человеком с очень деликатной душой. Плебейская вульгарность и даже плебейский мат вызывали у него физическое отвращение. В нем тоже жила тоска по человеческому, теплому и домашнему, которую он тщательно маскировал. Это та самая тоска, которая мучила Гарри Галера, – помните, как он завидовал мещанскому уюту, занавесочкам и цветам на окнах? Та же самая тоска подвигла Адриана Леверкюна искать дружбы друга, женщины и, наконец, ребенка, пусть все это закончилось крахом, но и он стремился к вечно ускользающему теплу, чтобы, достигнув, тотчас отвергнуть его.
В свой последний Новый год отец, уже совсем больной, пришел ко мне, и я специально поставила огромную живую елку с цветными лампочками. Он замер на пороге, как потрясенный ребенок, а потом тихо сказал, что никогда в жизни никто не ставил ему елку, что это просто невероятно прекрасно. Наверное, это был наш лучший совместный Новый год; мы всю ночь слушали песни Георгия Виноградова, и даже удалось уговорить отца ненадолго взять в руки гитару. Он спел тогда только одну песню и выбрал «Драку белых котов».
Смерти он совершенно не боялся, мы открыто обсуждали это, и однажды он мне сказал, что знает свой предстоящий путь и что все с ним будет нормально. Тем не менее я все надеялась, что вдруг отыщется чудодейственное средство, которое… «Которое что? Заставит меня тут еще немного помучиться?» Когда отец уже был очень болен, я от отчаяния все же предложила ему воспользоваться услугами одной православной бабушки, достоверно умевшей лечить как раз то, от чего страдал он. Он закурил свою вечную красную «Яву», очень пристально посмотрел на меня и отказался наотрез. «Мне нельзя, – сказал он, – пользоваться услугами христиан. Запрещено».
Мне кажется, что после ухода Лены Джемаль его душа приняла радикальное решение. Ведь до этого, пока еще с Леной все было в порядке, летом 2002 года он совершенно спокойно перенес тяжелейшую онкологическую операцию, рассуждая с нами о географии магического мира до той самой секунды, пока не закрылись двери операционной. «Я созерцаю страдание, – сказал он мне в реанимации на следующий день. – Знаешь, здесь, оказывается, весьма разнообразные ландшафты». Он ненавидел лечиться, врачам, представлявшимся ему все как один ревенантами, – не доверял, и, принципе, ему было бы гораздо проще умереть, нежели пройти лечебно-больничные круги ада. И тем не менее он их прошел, выдержав и повторную операцию через полгода.
- Склиф.
- Хризантемы в саду,
- В этом желтом аду
- Завывают клиенты.
- Распускают над ними тягучую ночь
- Раскаленные ленты.
- Шприц.
- Клюв пластмассовых птиц
- Пожирает цветы
- Бело-розовой плоти.
- Ты кричишь на стенные часы,
- Но они не уходят.
- Визг.
- Ты лежишь на полу,
- Наблюдая чуть-чуть,
- Как прекрасные сестры
- В коридорах любви что-то шепчут врачу,
- Лунно-цветные монстры.
- Морг.
- Там молчит телефон,
- Холод белых колонн –
- Обстановка простая.
- Императору снится фарфоровый сон
- О небесном Китае.
- ………………….
После смерти Лены, скорее всего, ему стало скучно, и пусто, и бессмысленно. Несмотря на помощь друзей, на самоотверженность его прежней подруги, с которой до Лены отец прожил много лет, Ирины Николаевны Колташевой, которая специально вернулась от сына из Америки, чтобы быть рядом с ним. Верная, очень преданная ему женщина, ей было невыносимо видеть, как он на глазах менялся, то есть все очевиднее хотел уйти. Она до последнего побуждала его работать, писать, пыталась возбудить в нем искорку его прежних интересов, а он сопротивлялся.
«Я забыл все языки, и мне на это плевать», – часто повторял он; впервые в жизни отец не хотел больше читать книг и перестал общаться; если раньше он вулканически выплескивал свою энергию в мир, на собеседников, приятелей, своих и чужих, то теперь котел его бешеной внутренней активности герметично кипел внутри него. В какой-то момент неожиданно для всех он стал писать короткие беллетристические рассказы, чего никогда не делал раньше, и очень даже интересовался, какое они производят впечатление. Многим они казались несравнимыми с его блестящей эссеистикой; когда до него доходили эти мнения, он иронично усмехался. «Это все звериная серьезность, – как-то заметил он. – Люди не умеют читать, не умеют улыбаться, не умеют просто быть. Им надо все время узнавать, понимать, оценивать, восхищаться или плеваться. Иначе они тратят время. А на что оно им вообще?» Про себя он говорил, что свое время он теперь тратит на подготовку: «Я собираюсь в путешествие».
Я холодела от этих слов, а он готовился на самом деле; теперь я точно знаю, что то, чем он занимался последние месяцы, было именно подготовкой. Он целыми днями читал «Похождения Рокамболя» и перечитывал «Трех мушкетеров» – эту книгу он знал наизусть, обожал цитировать целые страницы, утверждая, что она много превосходит в своей мудрости Библию. Эти «приключенческие повестухи» помогали ему готовиться.
Он думал о прожитой жизни, и я знаю, что он о многом жалел; в том числе и о том, что не успел написать. У него была давняя идея написать подробную книгу «География магического пространства», он даже делал какие-то наброски, но так никогда толком и не начал ее. Помню одно из самых последних его восклицаний, в адрес своего друга Сергея Жигалкина, всегда приходившего ему на помощь в самых патовых ситуациях: «Кажется, я все-таки был знаком по крайней мере с одним нормальным человеком!» Очень тепло относился он и к Полине Болотовой, регулярно навещавшей его до самых последних дней.
Мне хочется еще сказать о том, чему он научил меня за последние месяцы своей жизни: внутри человека есть абсолютное знание; обычный человек не слышит, не чувствует и игнорирует его; это знание касается и тела. Многим казалось, что это просто эпатаж, что Головин игнорирует тело, не заботится о так называемом здоровье и прочем, что, мол, надо бросить пить, бросить курить, сесть на специальную диету… Конечно, он презирал все эти благоглупости. Я теперь понимаю, что на самом деле его абсолютное знание касалось и его тела; он понимал, как с ним поступать, что нужно и что не нужно. Мы, родные, близко находившиеся рядом с ним, своим слишком земным страхом мешали реализации его знания. Отец знал о смерти и выживании гораздо больше и нас, и врачей, и возможно, если бы он мог слушать только себя одного и делать только то, что считал нужным только он сам, то задержался бы здесь еще немного, «еще на 20 секунд». Впрочем, скорее всего, он задерживаться не собирался. В очень тяжелом состоянии он наотрез отказывался от больницы, и я виню себя в том, что в какой-то момент сдалась под напором общепринятого – и сдала его врачам, позволив умереть в больнице. 29 октября 2010 года, за пять минут до его физической смерти в 0:20 минут, я, находясь дома, внезапно увидела своего отца лежащим на кровати, и вдруг над ним стало собираться словно облако белого тумана, которое, уплотнившись, поднялось вверх и исчезло. Через пару секунд раздался звонок из больницы.
Теперь я уже знаю из своих снов, что отец простил меня, что с ним все в порядке, что он вырвался наконец на свободу.
Сергей Жигалкин
Миссия X
Не иди: ко мне нет пути.
Из тибетской тантры «Кунджед Гьялпо»
Кто такой Евгений Головин, как следует не понимал, наверное, никто даже из его ближайших друзей и знакомых, людей самих по себе часто глубоких и неординарных. Дистанция оставалась всегда. И не потому, что он нарочно ее установил: просто он был радикально другой. Измерение, из которого он явился в сей мир, не поддавалось не только простой, но даже и очень сложной интерпретации. Непредсказуемость, внезапное проявление абсолютной компетенции в самых неожиданных вопросах, исключительно рациональный или, напротив, чисто спонтанный ход мысли, произвол чувств, человеческих и нечеловеческих, либо, наоборот, следование только одной тончайшей эмоции и так далее не позволяли составить определенного мнения даже о его личности. Тем более что об эпизодах своей биографии он упоминал всегда мимоходом, все время по-разному, нимало не заботясь о подлинности фактов. Личной истории он не придавал никакого значения, предпочитал ее не иметь и вообще избегал говорить о себе.
Поэтому написать что-нибудь о Евгении Головине очень трудно. Особенно для тех, кто был с ним знаком и на собственном опыте соприкоснулся со стоявшим за ним измерением, бездной, реальностью – точного слова все-таки не подобрать. Будь он писателем, мистиком, бардом, поэтом, артистом или, допустим, философом, оккультистом, провозвестником новой доктрины, проблемы не было бы никакой: можно было бы просто рассмотреть его значение в той или иной области. Получилось бы такое исследование увлекательным и основательным или натянутым, скучным, пустым – второстепенный вопрос, поскольку большей частью это зависит от личности самого исследователя. Главное, о Евгении Головине можно было бы много чего написать. Но музыкант всегда скажет, что Головин прежде всего музыкант, поэт – что поэт, эзотерик – что эзотерик и так далее. Однако он не был ни тем, ни другим и ни третьим, но вместе с тем все-таки был и тем, и другим, и третьим. Поэтому фигура Головина многим представляется неоднозначной, рассредоточенной по различным тематикам, а миссия – как бы размытой. Но в то же время его миссия очень конкретна, жестко определена. Спросите о том у того же поэта, философа, музыканта, богемной девицы или тяжелого алкоголика – любого, кто его знал. Все сразу друг друга поймут и согласятся, что главное, переданное Головиным, как-то понятно и совершенно конкретно, хотя объяснить это «главное» и не может никто…
Местом действия, центром для Евгения Головина прежде всего был личный контакт, не важно с кем, личное присутствие, не важно где. Меридиан проходил не за горизонтом, но именно «здесь и теперь». Колоссальная мощь измерения, стоявшего за Головиным, врывалась сначала в живые души, затем, через них, в окружающий мир. Как круги на воде: к периферии энергия, сила вторжения затихала, превращаясь в легенды, истории, пересуды.
До конца 80-х годов Головин писал мало, еще меньше печатался, умалчивал о сочиненных стихах, противился записи песен, не любил фотографироваться. Когда-то он мрачно заметил, что стоять в пыльном книжном шкафу среди классиков в виде собрания сочинений – перспектива малопривлекательная. Ну да, ведь мечта о нетленной могильной плите весьма своеобразна. И только после падения СССР, когда московский метафизический андеграунд распался и каждый стал следовать своим ориентирам, Головин начал много писать, переводить, читать лекции… Делал он это не очень охотно и, как представляется, не для аудитории, тем более не для будущих поколений – наверное, «просто так»…
Вполне вероятно, послание Головина вообще невозможно понять, обращаясь лишь к книгам и видеозаписям. В этом случае ойкумена его миссии получается ограниченной местом и временем его личного присутствия. Но это не так уж и важно: молния, например, блестит только миг и вовсе не ради грядущего. Абсурдна печаль о ее мимолетности, так как она лишь является нам на мгновение из пределов небесных, вневременных. Поэтому, говоря о молнии, лучше и говорить о молнии, о ее могуществе и красоте, а не сожалеть о кратковременности ее бытия: величие Рима не умаляется тем, что его здесь больше нет.
Трансцендентное, бездна, реальность, иное, стоявшее за Головиным, – это свет или тьма, ни свет и ни тьма? То есть имеет ли оно отношение к какой-нибудь подлинной скрытой или известной традиции либо находится в стороне от истинной вертикали и потому маловажно?
Где-то когда-то кому-то Головин сказал: «В чем наша проб лема? Она в том, что мы – непосвященные». Другими словами, профаны. А что такое, в сущности, «профан»? На лекции «Алхимия в современном мире: возрождение или профанация?» он объяснял:
Слово «профанация», вообще говоря, не имеет пренебрежительного значения. Поэтому, когда мы говорим «профан», «профанация», дело скорее в интонации, нежели в смысле. И вот почему: греческое слово «профан» означает человека, который, в принципе, очень хорошо расположен к небу и к богам. Это, так сказать, религиозный дилетант, который не выделяет специально какую-то религиозную конфессию, а просто любит богов, понимая, что на небе все хорошо, а на земле – плохо.
Величайшие философы и поэты, легионы выдающихся людей оказываются профанами. Хуже того – каждая религиозная конфессия признает свою череду авторитетов, в лучшем случае не уделяя никакого внимания авторитетам других конфессий, а в худшем – записывая их в заблудших, глупцов, одержимых, слуг дьявола. Может или нет человек вне конфессии достичь реальных высот? Разумеется, может. Более того, догматические здания многих конфессий строились на основе трудов посвященных, мыслителей, к этим конфессиям не принадлежавших. Например, созидание христианского догматического богословия происходило с самой существенной опорой на Платона и Аристотеля, эллинскую философию вообще и, главным образом, на неоплатонизм, а также на длившиеся веками дискуссии христианских теологов, людей выдающихся, одни из которых впоследствии были причислены к лику святых, а другие преданы анафеме.
Возможность найти путь самостоятельно или следуя иным религиозным традициям признавали даже самые непримиримые конфессии. Так, тезис «вне Церкви нет спасения» – скорее мнение Киприана Карфагенского, чем христианский догмат. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» пишет: «Однако Бог не оставил нас в совершенном неведении; ибо познание о том, что Бог есть, Он Сам насадил в природе каждого… Что Бог есть, в этом не сомневаются те, которые принимают Священное Писание, то есть Ветхий и Новый Завет, равно как и многие из эллинов; ибо, как мы уже сказали, знание, что Бог есть, нам от природы всеяно».
Головин, помню, как-то сказал: «Что Бог есть – это понятно, но вот Кто Он такой?..» То есть вера или неверие в Бога, богов проблемой не является: ответ очевиден. Сложности начинаются лишь при попытке постижения божественного, небесного, запредельного.
Был ли Головин человеком религиозным, приверженцем определенной традиции, не важно, существующей и поныне или оставшейся в прошлом? Признавал ли каких-то определенных богов, отвергая других? Зевс, Дионис, Иегова, Христос, Осирис, Шива, Гермес?
В какой-то сохранившейся в записи приватной беседе он говорил приблизительно следующее.
Я человек языческий… дело в том, что во мне очень развита веротерпимость… я безусловно признаю божественность Христа и божественность иудео-христианства, и не дай бог мне отрицать Иегову или прочих. Я просто думаю, что Небо большое и места хватит всем. Я был бы последним идиотом, если бы стал отрицать божественность Христа и говорить вслед за Ренаном, что, может, жил такой хороший человек в Иудее или в Израиле – такой гуманист… Все совершенно понятно с Христом… Просто… ну, просто он меня не интересует, и я не хочу… мне чуждо его учение… Мне чуждо также учение многих языческих богов… У меня есть какие-то свои боги, которых я выбираю вольной волей… Допустим, Мамона – чисто языческий бог, который сейчас, по-моему, очень успешно Христа как-то заменяет, заодно вместе с Иеговой. Но я ведь не пойду ему служить… и дело не в том, что я не признаю его богом, разумеется, это карфагенский и финикийский бог. Но не нравится он мне, как некоторым людям тоже он не нравится – не хочу я денег, не хочу я связываться с этой сволочью… Но Мамона мне не нравится по одним соображениям, а Христос – по другим соображениям…
Это окончательная точка зрения, которой Головин придерживался как безусловной для него истины? Разумеется, нет. При других обстоятельствах, другому человеку он мог сказать что-то иное, но тем не менее…
Геродот где-то писал, что любой народ, который почитает богов, заслуживает уважения. Причем независимо от того, как и каких богов почитают: уважения заслуживает само благоговение перед божественным. Для любого эллина это вполне очевидно. Точно так же, как смелость, отвага, бескорыстие, милосердие, честь всегда заслуживали и заслуживают уважения, независимо от того, кем и при каких обстоятельствах они были проявлены. Потому, вероятно, что так или иначе всегда ценят жертву и отречение от себя ради высшего, чем эта земная жизнь. Тем более если это высшее – небесное, божественное, бесконечное. Заблуждаются или нет в идеалах, служат ли истинным или же ложным богам – второй, менее важный вопрос. Трусость и глупость, алчность к земному, страх узреть подлинный свет – это одно, ошибки и заблуждения взыскующих духа и высоты – совершенно другое. Да и кто из людей может знать, что есть истина…
Если под религиозностью понимать веру в Бога, богов, Головина вполне можно считать человеком религиозным. Однако не все так просто. Он не только разделял эллинское уважение ко всему сакральному и священному прочих народов, эпох, не только был человеком, «очень хорошо расположенным к небу и к богам», и не только верил в какого-то определенного Бога или богов, но он верил в них всех – во всех богов всех времен и народов. Правда, «верил» в данном случае – неудачное слово, «признавал» – неудачное тоже, лучше сказать, что они были для него очевидной реальностью. Каких выбрать богов «для себя» – дело, конечно, другое…
В связи с этим хочу акцентировать один важный момент: для Головина не существовало никакой разницы между реальным и фантастическим, вернее, между чувственно воспринимаемым и умозрительным – степень реальности дома напротив и «Наутилуса» капитана Немо была одинаковой. Так называемый «реальный мир» входил в умозрительный мир как его ничтожно малая часть. Неудивительно, что случайных людей нередко изумляла серьезность Головина в отношении «всякого бреда» и несерьезность в отношении наличного окружающего. Реальное в его присутствии легко превращалось в призрачное, а призрачное – в реальное. Специальных усилий для этого он не предпринимал, поскольку был совершенно свободен от рассудочного разделения доступного восприятию на реальное и нереальное, истинное и ложное и всегда имел в виду весь космос в целом. Все было равно реальным и равно нереальным. Причем эта свобода от необходимости фиксированного, материального мира, пребывания в нем – не философическое достижение Головина, наоборот, как данная ему изначально, она-то как раз и служила отправной точкой его бесчисленных изысканий: в самом начале уже были подняты все якоря.
Другими словами, для Головина весь этот мир, подлежащий вопросу, утверждению или отрицанию, не ограничивался чувственно данной, телесной «реальностью», но простирался до последних границ умозрительного и фантастического. Думаю, ему было бы так же трудно счесть за реальность привычный нам всем окружающий мир, как нам – свою грезу и сон.
Границы акватической и хтонической стихии непредсказуемы и уходят от дефиниций. Пока земля в сознании европейских ученых еще не сконцентрировалась в шар (окончательное решение по этому вопросу было принято лишь в восемнадцатом веке), планета (плоская поверхность) во многих пунктах смыкалась с «гидровселенной».
Из эссе «Двойные любовные сближения»
Или так:
процессия голых людей в лисьих масках подвязанных на затылке несет красный плакат «да здравствует вращение земли»
Из поэмы «Моление огню»
Если в связи с фигурой Головина мы говорим о вторжении совершенно иного, о разрыве нашего гомогенного пространства, о метафизическом измерении и так далее, то могут спросить: а где же тогда «продолжатели дела», последователи, ученики, где же хотя бы вульгарные подражатели? Таких нет. В свое время многие имитировали его интонации, поведение, жесты, повторяли какие-то фразы, но это не то, поскольку такие имитации были связаны скорее с суггестивностью его личности, нежели с существом дела. Во время одной из последних встреч, на секунду углубившись в оценку себя и всего, что о нем говорят, чего от него ждут, он вдруг задал вопрос, обращаясь к себе самому: «Ну действительно, а кто я такой?..» Потом заключил: «Я – поэт». Окончательно объяснить, кто такой Головин, прояснить свое главное амплуа не мог даже он сам: даже сам для себя он был больше загадкой и тайной. Но учитывая невероятную силу его ума превращать в реальность любую захватившую его идею, фантазию, мысль, в тот момент он и был поэтом, для себя и вообще. Ну а раз он – поэт, о каких последователях может идти речь: у поэтов не бывает учеников. Иррациональный трансцендентный вихрь, поэтическая инспирация проявляются здесь в разных людях, совсем не похожих, различной внешности, поведения, с очень разной судьбой. Следуя и подражая образу жизни какого-то поэта, его взглядам, воображению, стилю мышления – двигаясь, так сказать, «снизу вверх», вряд ли удастся получить причастность к этому вихрю. Имитируя Пушкина, Пушкиным не становятся. Незатронутому вихрем подражать посвященному бесполезно, а затронутому больше не требуется кому-либо или чему-либо подражать. Правда, и слово «поэт» имело для Головина необычайно высокий смысл, суммирующий его запредельную инспирацию.
- и с обнаженного лезвия
- теки моя кровь теки
- я знаю слово «поэзия»
- это отнюдь не стихи
- когда педерасты и воры
- сдохнут в кровавой грязи
- на груди им выклюют вороны
- слово posie
Головин, безусловно, поэт… Поэты слишком много лгут, как-то сказал Заратустра, затем вопросил, стоит ли верить такому его утверждению, ведь он тоже поэт. Верить поэту, конечно, нельзя, но нельзя и не верить. Поэзия далеко за пределами истины и лжи: она – совершенно иная реальность, просто реальность…
Головин – поэт… Но все же не только поэт, не прежде всего поэт. Поэзия так или иначе ассоциируется с образом, словом, ритмом, иррациональным образом выражающими невыразимое. Но в тех же целях Головин вполне мог обходиться и без высокой поэзии. Если записать фразы, даже отдельные слова, которые он иногда вдруг произносил, достигая колоссального, шокирующего воздействия на окружающих, то ничего особенного часто не обнаружится: просто фразы, слова, более или менее поэтические, более или менее оригинальные, ироничные, мудрые, но иной раз и совершенно обычные. Все дело в том, как именно он их произносил. Все дело в интонации. Как-то его спросили, зачем он вообще сочинял музыку, песни, какой находил в том интерес? «Я искал новую интонацию», – был ответ. Новая интонация – это немало, это не так-то и просто, наоборот, невероятно сложно, поскольку новая интонация, по сути, – новое чувство, новое состояние, новое пространство – своего рода новая позиция по отношению к зримому, воображаемому, вообще ко всему. Одним неожиданным чувством, неожиданной интонацией выразить то, что пришлось бы объяснять дни, недели, может быть, годы без всякой надежды на успех, – задача не из простых. Прямой резонанс сильного нового чувства в присутствующих не раз вызывал в них настоящий переворот. Поэтому трудно, скорее всего, невозможно другому исполнителю спеть его песню приблизительно так, как пел ее он. Механического повторения интонации, иронии, эмоций решительно недостаточно, поскольку вся суггестивная сила песни исходит из совершенно другого, нечеловеческого измерения, и надо быть самим Головиным, чтобы спеть песню из этого измерения. Петь его песни можно и нужно, нередко у некоторых исполнителей получается хорошо, но это уже другие песни… В этом нет ничего особенного – повторить исполнение великих артистов и музыкантов, разумеется, невозможно, но в случае Головина к этому добавляется еще одна, куда более важная невозможность: стать выразителем неведомой магнетической бездны, которую нельзя ни понять, ни представить себе.
Но даже и интонация, музыка, новое чувство как отражение известной ему одному глубины – не главное. При определенных обстоятельствах он мог сухо, без всякой интонации, как бы механически произнести короткую фразу, саму по себе даже банальную, однако настолько подходящую к моменту, что она производила самое серьезное впечатление. Причем речь не столько о безукоризненно точной оценке собеседников, обстановки, обсуждаемых тем (хотя и это, конечно, типично для Головина), сколько о внезапном выражении вслух собственных размышлений в данный момент – выражении, безотносительном к окружающим и происходящему. Понятно, что само присутствие человека, углубленного в размышления, странствующего по далеким мирам фантастического, созерцающего какие-то непостижимые бездны, производит магическое воздействие на окружающих, даже если этот человек вообще никак не проявляется внешним образом и просто, допустим, сидит и молчит. Эрнст Юнгер, например, вспоминая о встрече с Хайдеггером, говорил: «Наблюдая за его походкой – помню, на нем была зеленая кепка – и слушая, как он говорил, делая длинные паузы, я чувствовал завораживающую силу его присутствия. Во всем образе и поведении философа отражалась магнетическая сила мышления… она-то и притягивала, убеждала собеседника». Или, положим, мы находимся в обществе сумасшедшего, пребывающего в своем воображаемом мире, с нашей точки зрения абсурдном и нереальном, а с его – абсолютно реальном. Несмотря на наше рассудочное здравомыслие, его активная безусловная убежденность в реальности своего мира так или иначе воздействует на нас, подчас представляя серьезную угрозу для нашего психического равновесия. То же касается и Головина: его постоянное внутреннее присутствие в ведомых только ему незримых безднах, силу которых все окружающие необъяснимым образом испытывали на себе, делало общение с ним, с одной стороны, притягательным, необходимым и важным, с другой стороны – крайне опасным.
Однажды, в последние месяцы его жизни, мы вдвоем сидели на кухне в Орехово. Он размышлял о своей ситуации, вслух проговаривая лишь малую часть. Ситуация выходила не из приятных: ни в мыслях, ни в грезах, ни в снах никакого просвета – черная ночь без идеи зари. Потом он надолго замолк, похоже, пытаясь увидеть все в целом, иначе его оценить, затем вдруг сказал: «Мне кажется, все это не имеет ко мне никакого отношения». Попробую раскрыть смысл этой как будто простой фразы, понятный только в контексте той самой беседы. Фраза, когда он ее произнес, представилась мне глубочайшей. Конечно, любая интерпретация, в сущности, не передает ничего, но тем не менее.
«Мне кажется» вовсе не означает внезапно пришедшей на ум мысли, грезы, видния, подлинность коих под серьезным вопросом. «Мне кажется» в данном случае – нечто окончательно постигнутое, открывшееся, очевидное. То есть «кажется» берется в утвердительном, а не в вероятностном смысле: «видится», «показывается», «открывается», «является». Другими словами, «мне кажется» в данном случае означает, что все вдруг открылось, предстало в другом свете и никакой альтернативы этому нет.
Теперь «все это». Имелось в виду действительно все: как происходящее конкретно с ним, так и представшее перед ним в тот момент. Попробую перечислить хотя бы малую часть.
Тело во всей своей сложности био– и прочих процессов, во всей своей сложности вообще: наличии именно двух рук по десяти пальцев на каждой, необходимости есть и дышать, спать, видеть сны и так далее. Жесткая связь с этим телом, вынуждающая видеть его глазами, слышать его ушами, чувствовать его чувствами, претерпевать его сладость и боль. Смертельная болезнь, неотвратимо иссушающая и убивающая плоть и мозг. Угасающие память, способность отчетливо размышлять. Земные страдания, страхи, пустые надежды. Ветер неведомых бездн той стороны, ужас души. Город Москва, эпизоды из прошлого, великолепие звездных ночей, утренних зорь. Эпохи минувшие, иные народы, исчезнувшие континенты, страны, моря. Мысли, что солнце и небо скоро исчезнут, может быть, навсегда, что сновидения беспросветно темны, что не розовеет восход и что потускнел умозрительный мир… что выхода, в сущности, нет. Прочитанные фолианты, поэзия, музыка, инициатические тропы в божественных сферах, в алхимии, в грезах, в аду. Все, что постигнуто в жизни и что свершено. Судьба, данный свыше талант, предназначение, интеллект. Отчаянное желание жить, по непонятной причине свойственное всем существам, вызванным к бытию. Тщетность усилий, бессмысленный водоворот множественного бытия. Полная тьма, тсутствие даже намека на некий божественный свет… возможно, пока…
Перечисление можно продолжать без конца. Короче говоря, фразу «Мне кажется, все это…» можно было бы в упрощенном виде переформулировать так: «Мне представляется, все, что происходит сейчас со мной лично, и все, что здесь, в этой странной галлюцинации под названием творение, космос, вселенная, мир, происходит вообще…»
Далее сказано: «…не имеет ко мне никакого отношения». К кому «ко мне»? Кто этот «он»? Не лично он сам – не тело, не ум, не земная душа, ничего из того, что вокруг, о чем можно подумать, как-то вообразить… «Он» – это «он»: нечто иное, чем весь этот гаснущий и исчезающий мир. Понятно, что вопрос, к кому именно происходящее здесь не имеет никакого отношения, останется без ответа. Но это и есть самое главное: умерев для «всего этого», перестав быть собой, стать собой…
Можно ли еще здесь, в этом мире, узнать что-то о мире том? Учений и верований, легенд, суеверий, философских систем, рассуждений, догадок на этот предмет миллион – за одну жизнь всех, разумеется, не изучить. Мнение Головина? Он не раз говорил, что не понимает всех этих разговоров о смерти, не понимает и саму смерть, ни как событие, ни как идею, поскольку в язычестве речь всегда идет о преображении, переходе, метаморфозе, возвращении, а не о прекращении бытия. Хорошо, переход – можно ли что-то сказать о той стороне?
Однажды в том же Орехово в те же последние месяцы его жизни об этом и шел разговор. Головин развернул колоссальную перспективу открытых и тайных учений, доктрин, дал их сложнейшие интерпретации и, обращаясь к поэзии, легендарному и фантастическому, совершил умозрительное путешествие по территориям той стороны, как всегда, казавшимся совершенно реальными. Однако перед поставленным им вдруг вопросом, так что же все-таки с нами произойдет после смерти, неожиданно остановился. В этот момент вопрос был обращен не к накопленным обширным знаниям, постигнутым истинам, мнению, вере, авторитетам, а к глубинам души, где этот ответ тоже есть, должен быть, только его невозможно найти… В возникшую паузу я сказал: «Этого не знает никто». Пауза затянулась, Головин погрузился в раздумья, потом неожиданно подтвердил, без интонации, тихо, но как безусловную истину: «Да, никто…»
В другой раз, в Горках, во время беседы о Ницше, на вопрос о том, каким образом можно объяснить, что даже в юношеских записях этого мыслителя уже различимы основные положения всей его философии, уже ярко выражен его поэтический стиль, Головин ответил, тоже без интонации, но и без тени сомнений, будто он знал это не по книгам, а и так всегда знал: «Просто его душа все знала заранее». Предсуществование и, соответственно, бессмертие, безначальность души как очевидность: неоплатонизм, буддизм, индуизм и так далее – «язычество» вообще, ну и многие «еретики» в том числе, скажем, гностики, Ориген. В противоположность иудейской религии или, например, христианству, где душа все равно получается тварной (в смысле сотворенной). Пятый Вселенский Собор: «Церковь, наученная божественными Писаниями, утверждает, что душа творится вместе с телом, а не так, что одно прежде, другое после». С другой стороны, у Иоанна Дамаскина: «…все, что имело начало по естеству, имеет и конец». Чтобы тварное (имеющее начало, сотворенное) сделать нетленным, пришлось разработать доктрину бессмертия «по благодати». Причем бессмертие по благодати получают не только новые родившиеся человеческие души, но и ангелы (и если следовать логике до конца, то и ангелы падшие – бесы и черти), сам рай и сам ад – все сотворенное, которое после конца света должно войти в вечность. Все усложняется еще и тем, что речь идет не о единении с изначальным Единым, Благом, Брахманом, Господом Богом, а о новой сотворенной вечности, населенной множеством новых бессмертных существ, не являющейся Богом и существующей отдельно от Него. Выходит, в «окончательной» вечности пребывает не один только Бог, но и нечто другое – Творение. Кроме того, затруднительно объяснить неравные возможности в достижении Царства Небесного, которые получают новые родившиеся души: один от рождения умный и добродетельный, другой – негодяй и дурак. Словом, теологических трудностей здесь предостаточно. Представления эллинов, индусов, китайцев, индейцев, иных народов с их верованиями в изначальную причастность душ вечности, в предсуществование и переселение душ как будто логичнее и яснее, но прежде, чем искать истину в этих вопросах, может быть, лучше сначала понять, что такое душа? Интеллектуальные усилия к такому пониманию не ведут, только прямое обращение к вопрошаемому, вернее, преображение в вопрошаемое. И здесь снова всплывает фраза Евгения Головина: «…все это не имеет ко мне (может быть, как раз к бессмертной душе?) никакого отношения».
Другими словами, даже о таких, казалось бы, довольно банальных его фразах можно размышлять и размышлять, постепенно погружаясь во все более необъятную философию.
Головину было категорически несвойственно пустословие, бессознательная болтовня: он никогда не рассказывал анекдотов, не переливал из пустого в порожнее увиденное и услышанное. Если разговор заходил об обыденном – о случившемся со знакомыми или незнакомыми людьми, о поступках, характерах, социальных моментах, погоде, политической ситуации и так далее, в его присутствии предмет обсуждения моментально терял историчность, реальность, материальность и превращался в безличностную и безотносительную этому миру фантазию, грезу, идею – в своего рода метафизический прообраз, о котором и шла дальше речь. Можно назвать это поэтизацией, мифологизацией повседневного, а можно и проникновением в его скрытую суть. Так или иначе, но его рассуждения никогда не были описательными, направленными на сам предмет, но всегда сквозь предмет, за предмет – к тем измерениям, безднам, началам, из коих он явлен в сей мир. Даже изрядно напившись и без конца повторяя одно и то же, Головин никогда не утрачивал напряженности фразы: каждый раз получался новый ремейк. То есть когда Головин говорил – причем говорил что угодно, – не чувствовать метафизичности даже банального было просто нельзя.
Значимость, ценность идеи, события, вещи часто устанавливалась Головиным по произволу: совершенный пустяк он легко делал центром и так же легко превращал что-то важное, несомненное и серьезное в несущественное и маргинальное. То и другое получалось у него в высшей степени убедительно. Вот, например, небольшой пассаж, проистекающий из его приверженности маньеризму:
Некогда, в период расцвета дендизма (дендизм – это одна из «ветвей» маньеризма), случилось великому денди Джорджу Брэммелю (другу Байрона и короля Георга IV) прийти на бал с букетиком пармских фиалок вместо галстука… Когда на следующий день принесли известие о победе при Ватерлоо, реакция на эту новость была весьма вялой… Дело в том, что умение изящно завязывать галстук было у английской аристократии, пожалуй, первым искусством (вторым искусством был классический бокс). У несчастных людей просто опускались руки. Что теперь делать с галстуком? Нужен ли он теперь? Почему букетик? Почему фиалки? Почему пармские?.. Это кажется чудачеством, но это не чудачество. Это один из поворотных моментов в истории человечества. Революция! Ватерлоо – ерунда, чисто социальное явление. Не все ли равно, кто там победил. Но то, что сделал Брэммель, – это было действительно сенсационное событие. В этот день такой важный элемент реальности, как галстук, лишился исторических перспектив… Думаю, вы согласитесь с тем, что предмет, называемый галстуком сейчас, не имеет право носить это гордое имя.