Поправка-22 Хеллер Джозеф
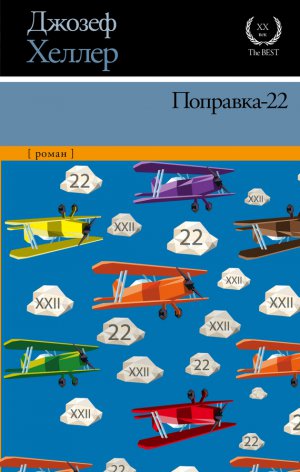
Орр хихикнул. Йоссариан твердо решил молчать – и промолчал. Орр терпеливо выжидал. Йоссариан оказался терпеливей.
– Так и ходил – с дынькой, – сказал Орр.
– Зачем?
– За пазухой, за чем же еще! – радостно подхватил промашку Йоссариана Орр. – Я ж тебе говорил.
Йоссариан одобрительно усмехнулся, но смолчал.
– Странная штука, – снова углубившись в работу, пробормотал Орр.
– А чего тут странного?
– Да мне всегда хотелось…
– Ох и зануда, – сообразив, что опять попался, вздохнул Йоссариан. – Так зачем…
– За пазухой, сколько раз можно объяснять? Мне, понимаешь ли, всегда хотелось грудь колесом.
– Колесом?
– Опять ты за свое! Не в форме дело, я ж тебе говорил. Мне хотелось, чтоб у меня была могучая грудь. Мощная, понимаешь? На форму мне было наплевать. Я хотел выглядеть могучим и старался переупрямить природу, вроде тех психов, которые мнут с утра до ночи резиновые мячики в руках, чтобы у них выросли здоровенные кулаки. Я и мячики в руках мял…
– Для чего?
– Для рук, для чего же еще? Возьму в каждую руку по мячику и мну.
– Да зачем ты их мял?
– А затем, что мячики…
– Лучше арбуза?
Орр засмеялся и отрицательно покачал головой.
– Нет, мячики мне были нужны для сохранения репутации: если б кто-нибудь сказал, что у меня камень за пазухой, я бы раскрыл ладони, и он понял бы, что не камень, а мячики, и не за пазухой, а в руках. Трудно не понять, верно? Только вот не уверен я, что меня понимали: иногда, бывало, поглядит человек на мои здоровенные кулаки – я ведь их здорово мячиками укрепил – и думает, что у меня камень за пазухой.
Йоссариан поглядел на крохотные кулачки Oppa и решил, что у него за пазухой все же сердце, а не камень.
Сердце, правда, весьма скрытное и лукавое, так что продолжать с ним разговор не имело смысла. Йоссариан прекрасно знал Oppa – и знал, что черта с два от него добьешься, зачем ему нужна была грудь колесом. Так же в точности, как невозможно было от него добиться, почему случайная ночная партнерша лупила его однажды утром по башке своей туфлей в тесном коридорчике римского борделя, рядом с открытой дверью комнатенки, где ютилась обычно младшая сестра любимой шлюхи Нетли. Здоровенная и рослая, дебелая и длинноволосая, с ярко-голубыми венами под матово-золотистой кожей, она выкрикивала ругательства и высоко подпрыгивала, держа туфлю в правой руке и стараясь лупить его точно по макушке острым, как гвоздь, каблуком. Оба они были голые, да и те, кого взбудоражил поднятый ими шум, тоже стояли голые на порогах своих комнатенок – по голой паре в каждом дверном проеме, – и только два человека были среди них одеты: скромная старуха, которая укоряюще квохтала, да похотливый старикан, который сладострастно смотрел на них и радостно хохотал с видом завистливого, но чванливого превосходства. Девка вскрикивала, а Орр хихикал. Каждый раз, как она ударяла его острым каблуком по голове, он хихикал все громче, распаляя ее все пуще, и она подпрыгивала все выше, так что ее пышные телеса сотрясались все страшней и роскошней, а звук от удара становился все короче и резче. Девка вскрикивала, а Орр хихикал, и она лупила его, пока наконец не угодила ему точнехонько в висок – звук получился отрывистый и четкий, как выстрел, – после чего хихиканье прекратилось, a Oppa отправили на носилках в госпиталь с неглубокой ранкой на виске и легким сотрясением мозга; так что он избавился от полетов только на двенадцать дней.
Никто не смог дознаться, что же у них произошло, даже квохтавшая старуха и хохотавший старик, а уж им ли, казалось, было не знать обо всех происшествиях в этом громадном борделе с его бесконечными, дверь в дверь, комнатенками по обеим сторонам узких коридоров, разделенных просторной гостиной с одной-единственной лампой и зашторенными окнами. Встречая потом Oppa, пышнотелая шлюха проворно задирала платье и презрительно материла его, а когда он прятался с опасливым хихиканьем за спину Йоссариана, принималась хрипло хохотать. Но что именно Орр сделал или хотел или не сумел сделать за плотно прикрытой дверью, так и осталось для всех тайной. Его партнерша не рассказала об этом ни своим товаркам по борделю, ни постоянным посетителям вроде Нетли или Йоссариана. Орр, пожалуй, мог бы сейчас проговориться, однако Йоссариан твердо решил не вымолвить больше ни слова.
– Так хочешь узнать, для чего мне понадобилась могучая грудь? – спросил его Орр.
Йоссариан демонстративно промолчал.
– А помнишь, как та девица, которую от тебя воротит, долбила меня минут пятнадцать, если не все двадцать, по башке? Так хочешь узнать – почему?
Нет, невозможно было себе представить, за какие провинности она вдруг стала лупить его туфлей, но не разозлилась все же настолько, чтобы просто схватить за ногу да и шмякнуть башкой об стену. Сил у нее на это, безусловно, хватило бы. Гномик Орр с его заячьими зубами и глазами навыкат был даже меньше Хьюпла, который жил как дурак на территории административного отдела, где стояла палатка Обжоры Джо, регулярно будившего неистовыми воплями всех соседей.
Территория административного отдела, на которой Джо по ошибке разбил палатку, была зажата между траншеей заброшенной железной дороги с ее ржавыми рельсами и черным, вьющимся вверх по склону холма асфальтовым шоссе. На шоссе всегда можно было подобрать девчонку, пообещав отвезти ее, куда ей нужно, – молодую грудастую и щербатую хохотушку, – а потом свернуть в поле и забавляться с ней сколько душе угодно на сухой жесткой траве, что Йоссариан и проделывал всякий раз, когда мог, но гораздо реже, чем хотелось бы Обжоре Джо, который в любое время умел добыть джип, да зато не умел его водить и постоянно канючил, чтоб Йоссариан составил ему компанию. Палатки солдат и унтер-офицеров стояли по другую сторону шоссе, рядом с полевым кинотеатром, где на складном экране для развлечения смертников лихо воевали ничего не знающие о них киногерои и где в тот вечер, когда Йоссариан вернулся, должна была выступать бригада артистов из армейского спецуправления отдыха и развлечений, а сокращенно АСОР.
Артистов рассылал по боевым частям генерал Д. Д. Долбинг, обосновавшийся со своим штабом в Риме и ничем другим, кроме рассылки артистов да интриг против генерала Дридпа, не занимавшийся. Генерал Долбинг больше всего на свете ценил в подчиненных аккуратность. Это был подтянуто щеголеватый и занудливо обходительный педант. Он знал длину окружности Земли по экватору – его собственное выражение, – и что-либо большое всегда оказывалось у него значительных размеров. Генерал Долбинг был болваном, и никто не понимал этого лучше генерала Дридла, который просто обезумел от ярости, узнав, что последний приказ генерала Долбинга предписывает разбивать палатки на Средиземноморском театре военных действий – тоже выражение генерала Долбинга – параллельными рядами, с входом, горделиво обращенным к памятнику Вашингтона за океаном. Для Дридла, боевого генерала, приказ этот звучал издевательским идиотизмом. Да и какого дьявола совал Долбинг свое тыловое рыло в дела боевых подразделений? Неистовый межведомственный спор двух высочайших военных властителей разрешил в пользу генерала Дридла рядовой экс-первого класса Уинтергрин, писарь из штаба Двадцать седьмой воздушной армии. Он просто стал выбрасывать послания генерала Долбинга в мусорную корзину. Они казались ему чересчур многословными. А депеши генерала Дридла, написанные не столь витиевато, он обрабатывал и отсылал высшему начальству с добросовестной исполнительностью дисциплинированного служаки. Генерал Дридл стал победителем в споре из-за отсутствия возражений.
Чтобы восстановить полуутраченный престиж, генерал Долбинг принялся рассылать бригады асоров с удвоенной энергией, возложив на полковника Каргила персональную ответственность за должный энтузиазм зрителей на их выступлениях.
Но в эскадрилье Йоссариана их принимали без должного энтузиазма. В эскадрилье Йоссариана люди мрачно, по нескольку раз на дню шествовали нестройными рядами к сержанту Боббиксу в надежде узнать, не получен ли приказ об их отправке домой. Они уже совершили положенные пятьдесят боевых вылетов, и ряды их постоянно пополнялись. Некоторые ждали приказа еще с той поры, как Йоссариана увезли в госпиталь. Их грызло беспокойство, и они грызли ногти. У них выработались повадки крабов – всегда бочком и сторонкой. Они карикатурно походили на отчаявшихся людей времен Великой депрессии. Они ждали, когда из штаба Двадцать седьмой армии в Италии придет утвержденный там приказ об их отправке домой, к безопасной жизни, а пока что их грызло беспокойство, и они грызли ногти и мрачно шествовали по нескольку раз на дню к сержанту Боббиксу, чтобы спросить, не получен ли утвержденный приказ об их отправке домой, к безопасной жизни, – и больше им делать было нечего.
А время работало против них, и они это знали. Они знали по горькому опыту, что полковник Кошкарт в любую минуту может издать приказ об увеличении числа боевых вылетов, необходимых для отправки домой. У них не было иного дела, кроме необходимости ждать. И только Обжора Джо, отлетав положенное, отыскивал себе другие занятия. Он исходил воплями в ночных кошмарах и устраивал рукопашные схватки с кошкой Хьюпла. А когда к ним приезжали асоры, он делал снимки – ракурсом снизу, под подол, – желтоволосой певицы с такими женскими прелестями, что ее украшенное блестками платье не лопалось только чудом. Но хотя фотографировал он ее из первого ряда, снимки у него никогда не получались.
Могучий и румяный полковник Каргил, спецуполномоченный генерала Долбинга по энтузиазму, подвизался до войны – как напористый, расторопный администратор – на ниве сбыта продукции. Это был никуда не годный администратор. Настолько никуда не годный, что многие фирмы в погоне за убытками для уменьшения налога наперебой зазывали его к себе в управляющие отделом сбыта. Он был известен всему цивилизованному миру, от Бэттери-парка до Фултон-стрит, как непревзойденный мастер по сокращению налогов. Ему платили огромные гонорары, потому что существенные убытки вовсе не всегда легко достижимы. Он должен был развалить процветающую фирму, а с благожелательными друзьями в правительстве это не так-то просто. Великая цель требовала многих месяцев каторжного труда и тяжелейших просчетов. Человек поминутно просчитывается и разбазаривает средства, дезорганизует и разваливает работу, промаргивает очевидные выгоды, не замечает элементарных опасностей и находит самые безысходные тупики, а когда дело близится к завершению, из Вашингтона ему подкидывают делянку строевого леса или нефтеносный участок земли, и все его титанические усилия идут кошке под хвост. Однако полковник Каргил справлялся с любыми трудностями и мог довести до краха любую фирму. Причем всеми своими славными неудачами он был обязан только себе.
– Вы американские офицеры, – тщательно вымеряя паузы между словами, начал он свою речь в эскадрилье Йоссариана. – Никакая иная армия не могла бы дать вам подобного статуса. Подумайте об этом.
Сержант Найт подумал об этом и вежливо сообщил оратору, что тот выступает перед нижними чинами и что офицеры ждут его за шоссе. Полковник Каргил с достоинством поблагодарил его и отправился, излучая самодовольство, к офицерам. Он горделиво ощущал, что двадцать девять месяцев армейской службы ничуть не ослабили его способность всегда попадать впросак.
– Вы американские офицеры, – тщательно вымеряя паузы между словами, начал он во второй раз свою речь. – Никакая иная армия не могла бы дать вам подобного статуса. Подумайте об этом. – Помолчав, чтобы офицеры подумали об этом, он неожиданно заорал: – К вам приехали гости! Приехали за три тысячи миль, чтобы вас развлечь! Каково им будет, если вы не пожелаете развлекаться? Кто потом залечит их нравственные раны? Мне-то, в общем, наплевать. Но эта девушка, которая хочет сыграть для вас на аккордеоне, – она ведь в матери, можно сказать, годится! Каково вам было бы, если б ваша мать приехала за три тысячи миль кого-нибудь развлечь, а на нее даже не захотели бы смотреть? Каково будет мальчонке, чью мать вы не желаете принять радушно, по-мужски, когда он вырастет и обо всем узнает? Ответ, по-моему, ясен. Прошу понять меня правильно. Посещение концерта – дело, разумеется, добровольное. И я далек от мысли приказывать вам идти на концерт и развлекаться, но пусть каждому из вас будет ведомо, что тот, кто не болен – а больные лежат, как известно, в госпитале, – обязан пойти на концерт и приятно развлечься, потому что это приказ!
Йоссариану стало худо и захотелось в госпиталь, а после трех боевых вылетов стало еще хуже, особенно когда доктор Дейника, меланхолически покачав головой, отказался освободить его от полетов.
– Это тебе-то худо? – грустно упрекнул он Йоссариана. – А что ж тогда сказать обо мне? Восемь лет перебивался я с хлеба на воду, чтобы стать врачом. И потом еще несколько лет едва-едва сводил концы с концами, пока не создал приличную практику. А когда дело наладилось и я собрался пожить как человек, меня загребли в армию. Так объясни мне, пожалуйста, ты-то на что жалуешься?
Доктор Дейника был приятелем Йоссариана и не сделал бы почти ничего возможного, чтобы ему помочь. Йоссариан внимательно слушал рассказы доктора Дейники про командира полка Кошкарта, который хотел стать генералом, про командира бригады генерала Дридла с его сестрой милосердия и про всех других генералов из штаба Двадцать седьмой воздушной армии, считавших, что за сорок боевых вылетов пилот целиком и полностью выплачивает свой воинский долг.
– Тебе бы улыбаться да радоваться жизни, – уныло сказал доктор Дейника Йоссариану. – Почему ты не берешь пример с Хавермейера?
Йоссариан содрогнулся. Хавермейер был ведущим бомбардиром и всегда шел к цели без противозенитных маневров, чем во много раз увеличивал опасность для пятерки своих ведомых.
– Хавермейер, какого дьявола ты пер на цель без уклоняющихся маневров? – злобно спрашивали его, приземлившись, летчики.
– А ну перестаньте цепляться к Хавермейеру! – приказывал им полковник Кошкарт. – Он лучший бомбардир, чтоб ему провалиться, у нас в полку!
Хавермейер ухмылялся и норовил рассказать, как он надрезает охотничьим ножом пистолетные пули, делая из них заряды дум-дум, чтобы расстреливать по ночам полевых мышей. Хавермейер и правда был у них лучшим, чтоб ему провалиться, бомбардиром, но пер от исходного пункта до цели без каких бы то ни было уклоняющихся маневров, на одной высоте и с постоянной скоростью, а впрочем, и отбомбившись, продолжал переть прямо, чтобы заметить, как легли бомбы, вздымавшие внизу оранжевые вспышки с густыми лохмами черного дыма, сквозь который фонтанировали, словно гейзерные струи, исчерна-серые, вдрызг искрошенные груды обломков. Он тянул за собой пять ведомых машин, превращая смертных – экипажи – в смертников, а сам с интересом следил за бомбами, позволяя стоящим у прицелов зенитчикам без спешки нажать спусковой рычаг, дернуть за шнур, или что они там делают, когда собираются прикончить людей, которых ни разу и в глаза не видели.
Хавермейер был ведущим бомбардиром, потому что никогда не мазал. А Йоссариана убрали из ведущих бомбардиров, потому что ему с некоторых пор стало наплевать, накрыта цель или нет. Он решил выжить или по крайней мере бороться за свою жизнь до последнего вздоха, и его единственной целью, когда он поднимался в воздух, было вернуться на землю живым.
Люди любили выходить за ним к цели, поскольку он маневрировал как никто другой – то нырял, то резко набирал высоту, бросался вправо, уходил влево, пикировал чуть ли не до самой земли, а потом свечой карабкался в небо, так что пилоты ведомых самолетов едва успевали повторять его маневры и у них не оставалось времени для страха, а он обрывал горизонтальный полет, как только бомбы уходили вниз, и тогда уж закладывал такие виражи, выделывал такие немыслимые фортели, уходя из зоны заградительного огня, что его шестерка рассыпалась в небе наподобие стайки ошалевших грачей, и любой самолет, окажись тут истребители, стал бы для них беззащитной добычей, но это не имело ни малейшего значения, поскольку истребители у немцев перевелись, и Йоссариан намеренно рассыпал строй, чтобы не угодить, чего доброго, под обломки, если кого-нибудь собьют зенитчики. И только вырвавшись из зоны огня, выдравшись из безумного штурма и натиска, он сдвигал со лба над взмокшими волосами тяжелую каску и прекращал орать бешеные команды Маквоту за штурвалом, который не находил ничего остроумней, чем спросить в такую блаженную минуту, накрыли их бомбы цель или нет.
– Бомбы сброшены! – докладывал сержант Найт, сидящий у пулемета в хвостовом отсеке.
– Ну и как там мост? – осведомлялся Маквот.
– Я не видел, сэр, меня так болтало, что мне ничего не удалось рассмотреть. А сейчас ничего сквозь дым не увидишь.
– Эй, Аафрей, мы накрыли цель?
– Цель? – удивлялся капитан Аардваарк, пухлощекий навигатор с трубкой в зубах, сидевший возле Йоссариана над грудой карт, когда его назначали в полет вместо Аафрея. – Так мы у цели? А я и не знал.
– Йоссариан, накрыли наши бомбы мост?
– Какой еще мост? – переспрашивал Йоссариан, думавший только о зенитном огне.
– Эх, мать, – запевал Маквот, – двум смертям не бывать, на одну наплевать.
Йоссариану в отличие от Хавермейера и других ведущих бомбардиров было неважно, поражена цель или нет, так что второй раз под огонь зениток он никогда не совался. А Хавермейер вызывал иногда у летчиков такую злость, что, приземлившись, они лезли к нему драться.
– Сколько раз я вам говорил: перестаньте цепляться к Хавермейеру! – раздраженно осаживал их полковник Кошкарт. – Сколько раз я вам говорил: он у нас лучший, чтоб ему провалиться, бомбардир; говорил или нет?
Хавермейер с ухмылкой выслушивал слова полковника Кошкарта и совал за щеку очередную порцию козинака.
Пистолет, который он украл у мертвеца из палатки Йоссариана, палил по ночам без промаха. Положив на пол конфету, Хавермейер заранее хорошенько прицеливался и держал пистолет в правой руке, так что в любую секунду мог нажать на спусковой крючок, а леску, привязанную к выключателю голой, без абажура, лампочки над головой, – в левой, и, когда полевая мышь хватала зубами конфету, дергал и без того туго натянутую леску. Одного легкого движения пальцем было достаточно – и мощная лампа заливала слепящим светом крохотную дрожащую тварь. Хавермейер удовлетворенно хмыкал и с холодным интересом наблюдал, как мышь затравленно поводит глазами в поисках нарушителя уютной темной тишины. Когда их взгляды встречались, он разражался громким хохотом и одновременно нажимал на спусковой крючок, отсылая с дымным грохотом душу своей жертвы к Творцу и разбрызгивая по палатке микроскопические останки ее смрадной шерстистой тушки.
Однажды ночью, в ответ на выстрел Хавермейера, Обжора Джо оголтело выскочил босиком из своей палатки и, пробегая с пронзительными воплями мимо, разрядил в него собственный пистолет сорок пятого калибра, а потом, преодолев на огромной скорости железнодорожную траншею, нырнул в одну из бомбовых щелей, возникших, словно по волшебству, возле каждой палатки наутро после того, как ночью стараниями Мило Миндербиндера на них обрушился бомбовый налет. Это случилось перед рассветом, во время Достославной осады Болоньи, когда ночная тьма кишела призрачно безмолвными мертвецами, а Обжора Джо, завершивший очередной раз боевые вылеты и освобожденный от завтрашней операции, чуть не рехнулся. Выуженный из промозглой щели, он нечленораздельно бормотал про полчища крыс, пауков и змей. Но когда щель осветили фонариками, там не обнаружилось ничего, кроме застоявшейся на дне дождевой воды.
– Убедились? – приставал ко всем Хавермейер. – Я же предупреждал. Я же предупреждал вас, что он псих, много раз предупреждал.
Глава четвертая
Доктор Дейника
Обжора Джо был, безусловно, псих, и никто не понимал этого лучше Йоссариана, который всячески старался ему помочь. Но Обжора Джо даже слушать его не хотел. Обжора Джо не хотел его слушать, считая, что он псих.
– А с чего б ему тебя слушать? – поинтересовался доктор Дейника, уставившись в землю.
– Так ведь плохо ему приходится, – сказал Йоссариан.
– Это ему-то плохо? – Доктор Дейника презрительно фыркнул. – А что ж тогда сказать обо мне? Я, конечно, не жалуюсь, – горестно усмехнувшись, добавил он. – Во время войны жаловаться не приходится. Во время войны многие должны обречь себя на страдания ради общей победы… Да только почему именно я?! Почему в армию загребли меня, а не одного из тех старых болтунов, которые публично горланят от лица врачей, что они, мол, готовы на великие жертвы? Я, может, не хочу делать из себя жертву. Я хочу делать деньги.
Доктор Дейника был опрятный чистюля и находил отраду только в нытье. Темноволосый и скорбный, под глазами на крысьем смышленом личике унылые мешки, он беспрестанно тревожился о своем здоровье и почти каждый день исследовал, нормальная ли у него температура, опасливо доверяя поставить себе градусник одному из двух солдат, Гэсу или Уэсу, которые орудовали за него в медпалатке – орудовали столь успешно, что ему самому практически нечего было там делать, и он целыми днями грел свой заложенный нос на солнцепеке, недоуменно размышляя, чем же это люди так обеспокоены. Гэс и Уэс довели древнее искусство врачевания до строгой научной безыскусности. Больных с температурой на три градуса выше нормы они срочно отправляли в госпиталь, а всем остальным, кроме Йоссариана, мазали десны и пальцы на ногах лиловым раствором горечавки, а потом давали слабительное, от которого следовало избавиться в ближайших кустах. И только Йоссариан, с его температурой, повышенной всего на полтора-два градуса, мог получить направление в госпиталь, когда ему вздумается, потому что не боялся подручных доктора Дейники.
Всех, похоже, устраивала эта прекрасно отработанная система, и доктор Дейника мог без помех целыми днями наблюдать, как впечатываются в землю подковы, которые метал на своей персональной площадке майор… де Каверли, так до сих пор и не снявший с глаза прозрачную нашлепку, сделанную для него доктором Дейникой из узкой полоски целлулоида, которую доктор по-воровски откромсал от целлулоидного окошка в штабной палатке майора Майора несколько месяцев назад, когда майор… де Каверли вернулся с поврежденной роговицей из Рима, где он снял две квартиры – нижним чинам и офицерам, – чтоб они проводили там отпускное время. Доктор Дейника заглядывал теперь в свою медпалатку, только когда чувствовал себя безнадежно больным – то есть ежедневно – для осмотра, который проводили Гэс и Уэс. По их всегдашнему заключению, все у него было в порядке. Состояние нормальное, температура нормальная… «если, конечно, господин доктор не против». Господин доктор был решительно против. Он постепенно утрачивал доверие к своим избранникам и собирался отослать их обратно в автопарк, а потом заменить кем-нибудь, кто смог бы определить наконец, что же все-таки с ним не в порядке.
Да и о каком порядке можно было говорить, если вокруг, по его наблюдениям, царил опаснейший беспорядок? Он ощущал острую тревогу, думая, помимо здоровья, про Тихий океан и летное время. За человеческое здоровье никто не мог поручиться надолго. Тихий океан, беспорядочное скопище зловещих волн, окружал со всех сторон берега, зараженные несметным количеством смертельных болезней, в самой гуще которых он рисковал оказаться, если б разгневал полковника Кошкарта, освободив Йоссариана от полетов. А летное время он должен был проводить на борту самолета, чтобы получать дополнительное жалованье. Доктор Дейника ненавидел самолеты. Он ощущал в полете полнейшую безысходность. На борту самолета, куда ни пойдешь, все равно останешься на том же самом борту. Доктор Дейника слышал, что человек, добровольно лезущий в самолет, просто поддается навязчивому желанию залезть обратно в материнское чрево. Он слышал об этом от Йоссариана, который помогал ему получать дополнительное жалованье без извращений с разными чревами. По просьбе Йоссариана Маквот записывал доктора Дейнику в бортовой журнал, когда они совершали тренировочные или транспортные полеты.
– Ты же все понимаешь, – льстиво, со свойским подмигиванием говорил доктор Дейника Йоссариану. – Ну зачем без нужды рисковать?
– Незачем, – соглашался Йоссариан.
– Да и какая разница, в самолете я или нет?
– Никакой.
– Вот-вот. Живи, как говорится, и жить давай другим. Сперва ты протянешь мне руку, потом я тебе. Согласен?
Йоссариан был согласен.
– Да нет, я не про это, – сказал доктор Дейника, когда Йоссариан протянул ему руку. – Я про руку помощи. Про взаимную выручку. Сперва ты мне поможешь, потом я тебе. Соображаешь?
– Так помоги мне, – оживился Йоссариан.
– Невозможно, – отрезал доктор Дейника.
Чем-то жалким и жутеньким веяло от доктора Дейники, одиноко сидящего день-деньской на солнцепеке возле своей палатки в летней форменной одежде – рубахе с короткими рукавами и шортах, – вылинявшей из-за ежедневных стирок, составлявших особую заботу доктора Дейники, до цвета стерильной, но сероватой от долгого хранения ваты. Он походил на замороженного однажды ужасом, да так и не оттаявшего потом человека. Горестный и нахохленный, с головой, ушедшей в птичьи плечи, он зябко поглаживал бледными ладонями – от плеч к локтям – сложенные на груди загорелые руки, и на пальцах у него тускло поблескивали холодные ногти. Но внутреннего тепла ему было не занимать: жаркая жалость к себе тлела в нем неугасимо.
– Почему именно я? – с горькой печалью вопрошал он, и вопрос этот звучал вполне здраво.
Йоссариан уважительно присоединил его к своей коллекции здравых вопросов, которыми он срывал общеобразовательные занятия, проводимые у них раньше два раза в неделю под надзором Клевинджера в палатке разведотдела очкастым капралом, про которого все знали, что он, видимо, подрывной элемент. Начальник разведотдела капитан Гнус знал это совершенно точно – а иначе почему капрал носил очки, произносил слова вроде «панацея» или «утопия» и поносил Гитлера, который сделал все возможное для истребления в Германии антиамериканской деятельности? Йоссариан посещал общеобразовательные занятия в надежде выяснить, отчего совершенно незнакомые ему люди только тем и занимаются, что норовят его убить. Народу на эти занятия сходилось не так уж много, зато вопросы были почти у каждого, причем вопросы по-своему вполне здравые, что и обнаружилось, как только Клевинджер совершил после первого же занятия серьезнейшую ошибку, спросив, есть ли у присутствующих вопросы.
– Кто такая Испания?
– Что еще вдруг за Гитлер?
– Какой такой козырь в Мюнхене?
– Как это левые справа?
– А ху-ху не хо-хо?
– Да ты чего нам тут порешь-то?
Все эти свидетельства здравой воинской любознательности сыпались на капрала в очках как из рога изобилия, пока Йоссариан не задал вопрос, на который не было ответа:
– А где сейчас прошлогодние Снегги?
Вопрос прозвучал убийственно, потому что Снегги погиб в прошлом году над Авиньоном, когда опсихевший Доббз вырвал у Хьюпла штурвал.
– Что-что? – словно бы не расслышав, переспросил капрал.
– Где сейчас прошлогодние Снегги?
– Мне, простите, не совсем понятно…
– O sont les Neiges d’autan?[1] – повторил для пущей ясности по-французски Йоссариан.
– Parlez en anglais[2], ради бога, – взмолился капрал. – Je ne parle pas franais[3].
– Я тоже, – отозвался Йоссариан, готовый допрашивать его на любых языках, лишь бы прорваться по возможности к истине, но в разговор поспешно вмешался Клевинджер – бледный, тощий, речь уже пресекается, а на малахольных глазах серебрятся крупные слезы.
В штабе полка тоже забеспокоились, потому что мало ли до чего могут люди доспрашиваться, если начнут задавать бесконтрольные вопросы. Полковник Кошкарт отрядил в эскадрилью подполковника Корна, и тот быстренько упорядочил непорядок с вопросами. Это был гениальный ход, как сообщил он в рапорте полковнику Кошкарту. По его инструкции право задавать вопросы получали только те, кто никогда их не задавал. Вскоре на занятия стали являться только те, кто имел право задавать вопросы, потому что никогда их не задавал. Из-за отсутствия вопросов занятия, как решили Клевинджер, капрал и подполковник Корн, потеряли смысл и были отменены, ибо у людей, которые отказываются задавать вопросы, невозможно повысить общеобразовательный уровень.
Полковник Кошкарт, подполковник Корн и все остальные штабисты, кроме капеллана, жили в здании штаба. Это был огромный, выстроенный из розового песчаника и насквозь продуваемый сквозняками старинный дом, который постоянно содрогался от гулко клокочущей в канализационных трубах воды. Рядом со штабом стараниями полковника Кошкарта оборудовали тир для стрельбы по тарелочкам, и полковник Кошкарт намеревался допускать туда только штабных офицеров, а генерал Дридл обязал весь личный состав полка проводить там не меньше восьми часов в месяц.
Йоссариан охотно стрелял по тарелочкам – и всегда мазал. А Эпплби всегда попадал. Со стрельбой у Йоссариана было так же плохо, как с игрой в азартные игры. Особенно на деньги. Он неизменно мазал и неизменно проигрывался. Он проигрывался, даже если мухлевал, потому что люди, которых ему хотелось обмухлевать, всегда мухлевали лучше, чем он. Для него давно уже не было тайной – и он покорно смирился со своей судьбой, – что хорошим стрелком и денежным мешком ему никогда не стать.
«Только человек с ясной головой способен не стать у нас денежным мешком, – вещал полковник Каргил в одном из своих поучительных посланий, предназначенных для распространения в боевых частях за подписью генерала Долбинга. – Любой дурак может стать сейчас денежным мешком, да так оно в большинстве случаев и происходит. А люди умные и талантливые? Назовите, к примеру, имя хоть одного поэта, который заработал бы много денег…»
– Т. С. Элиот, – сказал рядовой экс-первого класса Уинтергрин и повесил трубку. Он наткнулся на откровения полковника Каргила, разбирая почту в своей каморке при штабе Двадцать седьмой воздушной армии, где служил писарем.
Полковник Каргил был озадачен.
– Кто это звонил? – спросил генерал Долбинг.
– Понятия не имею, – ответил полковник Каргил.
– А что ему было нужно?
– Понятия не имею.
– А что он сказал?
– «Т. С. Элиот».
– Это что еще такое?
– Т. С. Элиот.
– Просто Т. С. Элиот?
– Да, сэр. Больше он ничего не сказал. Только «Т. С. Элиот».
– Что бы это, интересно, значило? – раздумчиво сказал генерал Долбинг. Полковнику Каргилу тоже было интересно.
– Т. С. Элиот? – с мрачным недоумением пробормотал генерал Долбинг.
– Т. С. Элиот, – замогильным эхом откликнулся полковник Каргил.
Генерал Долбинг немного помолчал, а потом елейно ухмыльнулся и встал. Лицо у него расцветилось утонченным коварством, а глаза озарились язвительным злодейством.
– Распорядись-ка соединить меня с генералом Дридлом, – приказал он полковнику Каргилу. – Да присмотри, чтоб ему не сообщили, кто его вызывает.
Полковник Каргил выполнил приказ генерала Долбинга, и на Корсике, в штабе генерала Дридла, раздался телефонный звонок.
– Т. С. Элиот, – сказал генерал Долбинг и повесил трубку.
– Кто это звонил? – спросил полковник Мудис.
Генерал Дридл не ответил. Полковник Мудис был его зятем, и он дал ему возможность подключиться к своим военным занятиям по просьбе жены, хотя делать этого, конечно, не следовало. Он глянул на зятя с устоявшейся неприязнью. Ему был отвратителен весь облик полковника Мудиса, который служил у него адъютантом, а поэтому всегда торчал на виду. Генерал Дридл возражал против брака дочери и Мудиса, потому что не любил свадебных церемоний. Озабоченно и сурово нахмурившись, он подошел к большому зеркалу и бросил взгляд на свое отражение. Перед ним стоял коренастый, в генеральской форме человек с агрессивной квадратной челюстью, тускло-серыми клоками бровей и седоватыми волосами. На лице у него отпечаталось тяжкое раздумье – он размышлял о таинственном телефонном звонке. Потом, осененный удачной мыслью, генерал Дридл облегченно вздохнул и злонамеренно усмехнулся.
– Соедини меня с Долбингом, – приказал он полковнику Мудису. – Да проследи, чтоб этот выродок не понял, откуда его вызывают.
– Кто это звонил? – спросил в Риме полковник Каргил.
– Да все тот же тип, – встревоженно отозвался генерал Долбинг. – Добрался, стало быть, и до меня.
– А что ему нужно?
– Понятия не имею.
– А что он сказал?
– То же самое, что и тебе.
– «Т. С. Элиот»?
– «Т. С. Элиот». И больше ничего. – Генерал Долбинг задумался, а потом с надеждой сказал: – Может, это новый шифр или сегодняшний пароль? Да-да, вполне может быть, проверь, пожалуйста, у связистов.
Связисты сообщили, что такого шифра и пароля нет.
– Позвоню-ка я в штаб Двадцать седьмой воздушной армии, – сообразил вдруг полковник Каргил, – может, они что-нибудь слышали. У меня есть там приятель, писарь Уинтергрин, он, между прочим, сказал мне однажды, что наша проза грешит многословием.
Рядовой экс-первого класса Уинтергрин уведомил полковника Каргила, что никаких сведений о Т. С. Элиоте в штабе Двадцать седьмой воздушной армии нет.
– А как наша проза? – решил заодно поинтересоваться полковник Каргил. – Не подсократила свое многословие?
– Все такая же многословная, – ответил Уинтергрин.
– Это, наверно, дридловские штучки, – решил наконец генерал Долбинг. – Вроде его штучек с тиром Кошкарта.
Генерал Дридл запустил в штабной тир полковника Кошкарта весь личный состав полка. Он хотел, чтобы офицеры и солдаты проводили там как можно больше времени. Стрельба по тарелочкам, на его взгляд, очень повышала их меткость. Она повышала их меткость при стрельбе по тарелочкам.
Дэнбар охотно стрелял по тарелочкам, потому что ненавидел это занятие, и каждая минута в тире растягивалась для него на целую вечность. Он считал, что час, проведенный в тире с людьми вроде Хавермейера или Эпплби, можно приравнять к семижды семидесяти годам.
– Вот и видно, что ты псих, – сказал ему Клевинджер.
– А кого это интересует? – откликнулся Дэнбар.
– Псих и есть, – упрямо повторил Клевинджер.
– А кого это волнует? – откликнулся Дэнбар.
– Да хотя бы меня. Я могу, пожалуй, допустить, что жизнь кажется дольше…
– Тянется дольше…
– Ладно, тянется дольше… Тянется? – Ну хорошо, пусть тянется… если ее заполняют годы трудностей и невзгод…
– А ты вот угадай-ка: с какой бытротой…
– Чего – с быстротой?
– Да проходят они.
– Кто проходит?
– Годы.
– Годы?
– Они, – подтвердил Дэнбар. – Годы, годы и годы.
– Клевинджер, ну чего ты пристал к человеку? – вмешался Йоссариан. – Ему же чертовски тяжело.
– Ничего, – великодушно сказал Дэнбар. – Время у меня пока еще есть. Так знаешь ли ты, – снова спросил он Клевинджера, – с какой быстротой проходит год, когда он уходит?
– И ты тоже уймись, – осадил Йоссариан Oppa, который начал подхихикивать.
– Да я просто вспомнил ту девицу, – объяснил Орр. – Из Сицилии. Девицу из Сицилии, с плешивой головой.
– Лучше уймись, Орр, – предостерег его Йоссариан.
– А все из-за тебя, – сказал Йоссариану Дэнбар. – Пусть бы он хихикал себе на здоровье. Лишь бы молчал.
– Ну ладно. Давай хихикай, если хочешь.
– Так знаешь ли ты, как быстро проходит год, когда он уходит? – снова спросил Клевинджера Дэнбар. – Вот как! – Он щелкнул пальцами. – Раз – и нету. Еще вчера ты поступал в колледж, юный и свежий, как наливное яблочко. А сегодня уже старик.
– Старик? – с изумлением переспросил Клевинджер. – Это про что это ты толкуешь?
– Конечно, старик.
– Вовсе я не старик.
– Не старик? Да тебя подстерегает смерть при каждом вылете, разве нет? Ты в любую секунду можешь отправиться на тот свет, как самый дряхлый старик. Минуту назад ты кончал школу и расстегнутый лифчик у твоей девушки наполнял тебя вечным блаженством. А за полминуты до этого ты был первоклашкой с двухмесячными каникулами, которые длились тысячелетия и все же пролетали как один миг. Хоп – и канули, а ты и мигнуть не успел… Так чем еще, скажи на милость, можно растянуть время?! – Последние слова Дэнбар произнес почти гневно.
– Может, ты и прав, – хмуро уступил Клевинджер. – Может, невзгоды и правда удлиняют жизнь. Да только кому она такая нужна?
– Мне, – сказал Дэнбар.
– Зачем? – спросил Клевинджер.
– А что у нас еще-то есть?
Глава пятая
Вождь Белый Овсюг
Доктор Дейника жил в пятнистой вылинявшей палатке с индейцем по имени Вождь Белый Овсюг, которого он презирал и боялся.
– Могу себе представить, какая у него печень, – пробурчал однажды, разговаривая с Йоссарианом, доктор Дейника.
– А ты лучше представь себе, какая печень у меня, – посоветовал ему Йоссариан.
– Да у тебя-то с печенью все в порядке, – равнодушно сказал доктор Дейника.
– Вот и видно, что ты не в курсе, – блефуя, сказал Йоссариан и поведал доктору Дейнике про трудности со своей печенью, которая доставила немало трудных минут госпитальным врачам и сестрам, растерянно ждавшим, когда он поправится или дотянет до настоящей желтухи.
– Это у тебя-то трудности? – без всякого интереса спросил доктор Дейника. – А что тогда сказать обо мне? Эх, побывал бы ты у меня в приемной перед самой войной!
Доктор Дейника украсил свою приемную аквариумом с золотыми рыбками и обставил самым лучшим из дешевых мебельных гарнитуров. Все, что было можно, даже золотых рыбок, он купил в рассрочку, а на остальное обзаведение занял денег у алчных родственников, пообещав им долю в будущих барышах. Он обосновался на Стэйтен-Айленде, в нью-йоркском пригороде за Гудзоном, неподалеку от паромной пристани и по соседству с большим универмагом, тремя дамскими парикмахерскими – они, разумеется, именовались салонами красоты – и двумя аптеками, где орудовали фармацевты, прекрасно знавшие, как обделывать выгодные делишки. Дом, облюбованный доктором Дейникой для своей приемной, – двухквартирная ловушка, откуда невозможно выбраться при внезапном пожаре, – стоял на бойком перекрестке, но это ничуть не помогало. Население в нью-йоркском заречье почти не менялось, а коренные жители привычно лечились у проверенных многолетней практикой врачей. Пациентов не было, и деньги на счету у доктора Дейники быстро таяли. Вскоре ему пришлось распрощаться с любимой медицинской аппаратурой; сперва за неуплату очередного взноса у него отобрали купленный в рассрочку арифмометр, а потом и пишущую машинку. Золотые рыбки издохли. Надвигалась катастрофа, от которой доктора Дейнику спасла война.
– Это был дар божий! – торжественно провозгласил доктор Дейника. – Многие местные врачи ушли в армию, и моя жизнь вдруг чудесно преобразилась. Бойкий перекресток наконец-то дал себя знать, и вскоре пациенты валом ко мне повалили – у меня даже не хватало времени как следует их обслужить. Фармацевты из соседних аптек стали мне платить в наших сделках гораздо больше. Салоны давали два-три аборта в неделю. Словом, жизнь моя устраивалась наилучшим образом… и ты только послушай, что потом вышло. Ко мне явился субчик из призывной комиссии. Я считался запасным четвертой категории. Я тщательно себя обследовал и установил, что не годен к военной службе. Казалось бы, все ясно – ведь меня высоко ценили и в Медицинском обществе нашего округа, и в районной Палате предпринимателей. Так нет же – им, видно, поперек горла встала моя ампутированная под самое бедро нога, не говоря уж про ревматический полиартрит, навеки приковавший меня к постели, и они прислали этого субчика… Таков наш век, Йоссариан, век тотального безверия и повсеместной утраты духовных ценностей. А все же это ужасно, – дрожащим от волнения голосом заключил доктор Дейника. – Ужасно, когда страна, которую ты преданно любишь, сначала выдает тебе официальное разрешение быть врачом, а потом ни в грош не ставит твою добросовестность и профессиональную компетентность.
Доктора Дейнику призвали на военную службу, загнали в тесную каюту теплохода и отправили хирургом на Пьяносу в Двадцать седьмую воздушную армию, хотя он до смерти боялся летать.
– Как будто у меня мало трудностей на земле, – обиженно и близоруко помаргивая карими бусинами глаз, пожаловался доктор Дейника. – Мне просто незачем искать их в небе, они сами меня ищут. Вроде тех молодоженов, которые свалились мне на голову перед войной.
– А что молодожены? – поинтересовался Йоссариан.
– Да вот, понимаешь, явились однажды прямо с улицы, даже без предварительной записи. Он и она. Никогда мне ее не забыть! Юная, свеженькая, фигурка – во сне такой не увидишь, а на шее цепочка и медальон со святым Антонием. Святого-то Антония я, конечно, чуть попозже разглядел, когда увел ее в смотровой кабинет, чтоб обследовать – они жаловались, что у них нет детей. Ну, все у нее было в порядке, и я пожелал им счастья, и они без всяких возражений заплатили мне сколько нужно, а, прощаясь, я пошутил. «Нельзя, – говорю, – так страшно искушать святого Антония». «Это кто еще такой – святой Антоний?» – сразу же вцепился в меня ее муженек. «А вы спросите, – говорю, – жену, она вам объяснит». «Спрошу», – говорит, и они ушли. А через пару дней является он ко мне один и объявляет моей медсестре, что ему надо со мной повидаться – сию же минуту и без всяких промедлений. Ну, провела она его ко мне в кабинет, и, как только мы остались одни, он двинул меня по уху.
– Двинул по уху?
– По уху. Обозвал умником и двинул. «Так ты, стало быть, умник?» – спрашивает. И со всего размаха по уху бац! Я только на полу и опомнился. Без всяких шуток.
– Какие уж тут шутки, – сказал Йоссариан. – А за что?
– Откуда же мне знать – за что? – брюзгливо откликнулся доктор Дейника.
– Может, все дело в святом Антонии? – предположил Йоссариан.
– Да кто он, собственно, такой, этот святой Антоний? – с тупым недоумением спросил доктор Дейника.
– А я почем знаю? – сварливо отозвался Вождь Белый Овсюг, влезая в палатку с бутылкой виски, нежно прижатой к могучей груди. Пошатнувшись, он плюхнулся на койку между Йоссарианом и доктором Дейникой.
Доктор Дейника молча схватил стул и выбрался из палатки, горестный и сгорбленный под бременем вечных несправедливостей. Ему было невыносимо общество соседа.
Вождь Белый Овсюг считал его психом.
– Неведомо что у парня в башке, – с укором проворчал он. – Мозгов у него нету, что ли? Ему бы давно уж взяться за лопату, а он? И ходить никуда не надо – просто копай прямо в палатке, под моей койкой. Копнешь разок-другой – и наткнешься на нефть. Он что, не слышал, что ли, про того солдата, который наткнулся на нефть? Еще в Штатах. Этот, как его – крысенок-то недоделанный, сопляк из Колорадо…
– Уинтергрин.
– Во-во, Уинтергрин.
– Он боится, – сказал Йоссариан.
– Уинтергрин-то? – Вождь Белый Овсюг с явным восхищением покачал головой. – Ну нет, этот сопливый умник, он, стервец вонючий, никого не боится, даром что салажонок.
– Доктор Дейника боится, – объяснил ему Йоссариан. – В том-то все и дело.
– А чего ему бояться?
– Тебя и за тебя. Он боится, что ты умрешь от воспаления легких.
– Ну, тут-то у него правильно мозги работают, пускай боится, – одобрительно сказал Вождь Белый Овсюг, и в груди у него зарокотало могучее басовитое ржание. – Обязательно умру. Дай только срок.
Вождь Белый Овсюг, смуглый и красивый оклахомский индеец с массивным, словно бы высеченным из камня, лицом и вечно взъерошенными черными волосами, твердо решил умереть от воспаления легких, потому что так ему предписывала, как он объяснял, его вера. Это был вспыльчивый, мстительный и отнюдь не романтичный индеец, считавший, что все ненавистные ему чужаки вроде гнусов, корнов, кошкартов и хавермейеров должны убраться восвояси – туда, откуда явились их поганые предки.






