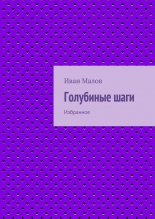Земля моей любви Ахадов Эльдар

Отцовская родня
Дед мой – Аббасгулу Ахадов, жил с семьей на берегу реки Куры в селении Уладжалы Сабирабадского района Азербайджанской ССР. Знаю, что родился он в 1870 году (то есть, был ровесником В. И. Ульянова-Ленина), а умер в 1959, не дожив года до моего рождения и своего девяностолетия.
Имя своё дед, возможно, получил в честь первого азербайджанского просветителя нового типа Аббасгулу Бакиханова. Сын последнего правившего бакинского хана, Бакиханов – основоположник азербайджанской научной историографии, а его труд «Гюлистане-и-Ирем» – первое монографическое исследование академического плана. Вот та причина, по которой в середине девятнадцатого века в мусульманском Закавказье имя Аббасгулу было весьма популярно.
Алихас Аббасгулу оглы Ахадов, мой отец, родился в 1933 году, когда деду было 63 года. Он был его младшим сыном. После окончания школы в начале пятидесятых годов он поехал в Баку, поступил в индустриальный институт (АзИ он тогда назывался), окончил его и остался работать в городе. Здесь мама и отец познакомились и поженились. Здесь родились я и мои сёстры.
Бабушку мою звали Сярфиназ, она происходила из другой деревни, ближе к Сабирабаду, и была дочерью обедневшего Таги-хана. У неё было два брата: большевики, придя к власти, вскоре расстреляли обоих. Знаю, что бабушка не только занималась обычными домашними делами, но и ткала прекрасные ковры. Я никогда её не видел (бабушки не стало задолго до моего появления на свет), но ковер, вытканный её тёплыми добрыми руками помню в нашей бакинской квартире с раннего детства: с ею набранной нитками и шерстью в уголочке ковра датой – 1944, а ещё – со старинным национальным орнаментом – бутой по всему ковровому полю.
Детьми Аббасгулу и Сярфиназ были дядя Юсиф (Юсиф-эми), тётя Азизбеим (Азизбеим-биби), тётя Рубаба (Рубаба-биби), дядя Алибала (Алибала-эми), дядя Ханбала (Ханбала-эми) и мой отец – Алихас. Слова «эми» и «биби» в азербайджанском языке означают соответственно дядя (со стороны отца) и тётя (тоже со стороны отца).
Дед работал бакенщиком на реке, отлично плавал, впрочем, как и мой отец: переплывал стремительную широкую Куру в обе стороны. Река Кура в тех местах течет настолько стремительно и непредсказуемо, что порой местные её называют «дэли Кюр», что означает «сумасшедшая Кура».
У деда были (на мой взгляд) довольно обширные земли, расположенные между озером Ахмаз и рекой Курой. Ахмаз представляет собой старицу (отрезок бывшего русла) реки Куры. Сейчас эти земли разделены между теми его внуками и правнуками, которые продолжают жить в Уладжалах. И всем их достаточно.
Говорят, отцом Аббасгулу, то есть моим прадедом, был Ахад, родившийся ещё в годы правления императрицы Екатерины Второй. Возможно, Ахад был единственным сыном своих родителей, поскольку его имя в переводе с арабского и означает «единственный» (это – шестьдесят седьмое из девяносто девяти имён Аллаха Милосердного и Всемилостивого). В любом случае фамилия наша произошла от имени моего прадеда.
Однако, не всем членам семьи удалось её сохранить. При оформлении документов дяди Ханбалы произошла ошибка, и его записали Ахмедовым. Так вместо Ахадова ниоткуда возник Ахмедов Ханбала. В дальнейшем его потомки остались Ахмедовыми.
Дядя Юсиф был настолько старше моего отца и остальных братьев, что все их дети звали его не иначе как Юсиф-баба (дедушка Юсиф), хотя он был им дядей а не дедушкой, конечно. Когда грянула Великая Отечественная война, то дядю Юсифа по возрасту в армию так и не взяли, всю войну он проработал в колхозе. Колхоз в Уладжалах был хлопководческий, а значит, стратегически очень важный, поскольку хлопок нужен был для изготовления взрывчатки. Всю свою жизнь дядя Юсиф проработал на земле. Лицо у него всегда было темным от загара. Когда он почувствовал приближение смерти, то позвал родных, сказал им, что он умирает и попросил постелить ему на голой земле. Ему постелили. Он лёг и умер. Через много лет его сын Билял, мой двоюродный брат, попросил однажды ночью о том же самом свою жену Джамилю. Она, плача, постелила ему на земле… И он тоже умер. Они были сельскими тружениками, жили и работали на своей земле и любили – свой дом, своих близких, свою деревню, свою землю.
Дядя Ханбала ушел на войну в 43-м, когда подошёл призывной возраст. Успел повоевать на Украине, был автоматчиком. На юго-западе Украины в бою Ханбала получил тяжелое ранение, фашисты прострелили ему автоматной очередью лёгкие. Мало того, у него, девятнадцатилетнего паренька, в госпитале начался туберкулёз…
Дядю Алибалу очень любила его мама, моя бабушка Сярфиназ. Он ушел на фронт раньше Ханбалы и… пропал без вести. Бабушке было очень тяжело, она говорила, что он был очень добрым, послушным ребенком в детстве Если бы он дерзил или вёл себя как-то нехорошо, то, может быть, его было бы легче забыть, но она не могла вспомнить ни одного такого случая, их не существовало. И от этого становилось ещё тяжелей, невыносимо тяжко…
Нет уже на свете ни набожной, соблюдавшей все намазы тёти Азизбеим (а в кармане широкой юбки – прячутся припасенные конфетки для маленького Эльдара), ни радушной улыбающейся тёти Рубабы (она в моей памяти такой и осталась – с распростёртыми руками, радостной, громкоголосой, бегущей по сельскому двору навстречу мне, своему племяннику), ни дяди Ханбалы (с пахучими нежными персиками в раскрытых ладонях: «Бери, сынок, это тебе»).
Остались их дети, мои двоюродные братья и сёстры: Али-Магомед, Нигяр, Шофкет, Тейбала, Теймир, Али-бала, Эльсафа, Низам и другие, много…. Народились их внуки и правнуки. И в Азербайджане, и за его пределами они теперь: растеклось по всей земле потомство моего прадеда – Ахада, чьё имя означало Единственный.
Оглы
У меня есть имя. Есть фамилия. А есть отчество. У всех они есть. У каждого своё. У меня отчество азербайджанское, из двух слов: первое – имя отца, а второе —“ оглы», что в переводе значит «сын». Нет в азербайджанском языке окончания «ович» или «овна». Только “ оглы» или “ кызы» (дочь). Всё бы ничего, но я в России живу больше четверти века, а здесь это не всеми и не всегда адекватно воспринимается. И на работе бывали сложности. Вроде мелкие: ну, похихикает кто-нибудь, ну, «чуркой» как-то раз в спину назвали. Не в лицо, нет. В лицо постеснялись. Я ведь по-русски говорю и пишу получше кое-кого. И соображаю неплохо. Вот и постеснялись.
На улицу выхожу всегда с паспортом. В принципе, нигде, кроме Москвы – проблем не было. Да, и в столице, тьфу-тьфу, обошлось. Остановили пару раз, проверили, прочитали, и такое холодное недоверие в глазах – из-за того, что я “ оглы», а не «ович»… Всё равно как-то неприятно, неуютно, что ли… Как будто я что-то плохое сделал и скрываю…
А годы были тревожные, бандитские, девяностые. Вот и советует мне однажды моя русская жена:
– Зачем тебе это «оглы»? Ты же и говоришь по-русски, и думаешь по-русски, и живёшь в России. Сходи в паспортный стол, поменяй отчество, заплатишь и станешь Александровичем, как режиссёр Рязанов, или Алексеевичем каким-нибудь. И детей наших в школе дразнить перестанут. А?
Задумался я. Достал фотографии отца, матери, сестёр… И тут выпала из пакета с фотографиями старая бакинская газета. Январская. Девяностого года. На ней – городская площадь у берега моря, вся покрытая бесчисленным людским морем. В городе действует комендантский час. На улицах танки, бронетранспортеры, пулеметы, тысячи вооружённых солдат. Больше трех человек собираться запрещено. А народ вышел на площадь. Не побоялся народ ни арестов, ни смертей. Поэт Галич когда-то пел:
«Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки…»
А ведь полки действительно стояли в ожидании приказа. И над площадью барражировали военные вертолёты. Но люди, простые безоружные люди, бакинцы, шли и шли на эту площадь. И их было не остановить никому!
Никаким солдатам, никаким пулемётам, никаким танкам. Они шли хоронить своих детей, убитых солдатами в ночь на 20-е января. В этих продолговатых прямоугольниках на фотографии – убитые. Я не знаю, как их звали: сотни убитых, молодых, пожилых, юношей, девушек, детей, стариков…
У каждого из них было имя. Была фамилия. И было отчество… Первую часть их отчеств – я не знаю, но вторую – не могу и смогу забыть, где бы я не был.
Я – оглы, я – сын моего отца и моей матери. Был и останусь. Нацисты, скинхеды, бритоголовые – не важно, кто встретится на пути, я останусь тем, кем родился.
Мамина долма
Самое вкусное в мире блюдо – это мамина долма. Поскольку ни повторить, ни, тем более, превзойти его никому никогда не удастся, ибо для его приготовления нужны руки и душа моей мамы, то перейдём к долме обыкновенной, которую могут приготовить все, даже я.
Что для этого нужно? Во-первых, виноградные листья. Не крупные и не мелкие, средние. Желательно свежие. Мама отправила мне такие в полулитровой пластмассовой бутылке, доверху набив её скрученными виноградными листьями и хорошенько закупорив. Теперь, чтобы их осторожно расправить, я складываю листья в небольшую кастрюлю и заливаю их горячей водой из чайника. Так они легче расправляются. Когда не сезон и нет под рукой свежих виноградных листьев, тогда можно использовать маринованные виноградные листья. Если у вас в городе есть базар, то там они непременно должны где-нибудь быть.
Мясо лучше выбирать и делать фарш самому. Поскольку, увы, времени у меня на это, а главное, терпения, не хватило, я купил готовый нежирный говяжий фарш. По виду – свежий. Я не люблю жирную долму. Кто-то, может быть, и любит, но не я. Вкус жира перебивает всё. И даже долма становится мне неинтересна. И это несмотря на то, что давным-давным-давно, когда я еще учился в школе, мама сказала мне: «Сынок, я заметила, что если даже я буду готовить тебе долму все 365 дней в году, то ты спокойно будешь её есть и ничего больше не попросишь из еды». Это правда, мама знает, как я люблю мамину долму. Но не любую, а именно мамину.
В фарш нужно обязательно добавить риса. Я предпочитаю делать это интуитивно, ничего я в пропорциях не понимаю, но получилось вчера очень даже нормально. Рис должен быть рисом, а не дробленкой, не окатышами и прочим непонятно чем. Так, чтобы, в приготовленной долме рис в начинке выглядел, как в плове: рисинка к рисинке, и ни в коем случае не выглядел слипшейся склизкой массой.
В фарш ещё добавляется мелко-мелко нарезанный репчатый лук, зелень мяты (нанэ) или базилика (рейхан). Или того и другого, если есть. И, конечно, нужно заправить фарш черным молотым перцем и простой поваренной солью. Готовый фарш заворачивается в виноградные листочки. Получается сырая долма.
В кастрюлю лучше всего сначала положить одну-две-три небольшие мясные косточки. Поскольку я делаю долму с говядиной, то косточки должны быть говяжьи. Сверху укладывается долма.
К готовой долме я делаю соус. Если есть мацони или катык, то добавляю в них мелко нарезанный чеснок (по вкусу) и хорошо перемешиваю, чтобы чеснок там распределился равномерно. Всё. Можно выложить долму, полить соусом и есть. Что я сегодня и сделал…
Ем долму, а сам вспоминаю разные-разные мамины блюда… И ароматный суп кюфта-бозбаш с крупными мясными шариками, внутри которых цельный чернослив, с крупным горохом – нохуд. И плов с мясом в каштанах, и каурма-плов, и сабза-каурма-плов, и кялям-долмасы, и холодную с зеленью довгу, и пити, и душбара, и лявянги (особенно кутум-лявянги), и, конечно, кутабы – с мясом и зеленью… И пярямяча (ну, разумеется!).
А сладости? Боже мой, сладости, которые мне давно уже нельзя есть, увы… От простого лябляби (смеси орешков и изюма), до кяты, шекер-буры, пахлавы и даже шор-когала (он солёный, его мне, наверное, можно немножко)!..
А потом я включаю музыку «Яных-керем», потому что помню её с детства, и грущу. Почему я, сытый, в тепле, а всё равно грущу? Я не умею делать мамину долму. Наверно, поэтому? Нет, не поэтому. Не скажу – почему… Не хочу говорить. Это моё. Извините…
Мамина благодарность
Моя мама живёт в другой стране. Я стараюсь звонить ей каждый день, потому что хочу, чтобы она жила подольше. Ничто так не сокращает жизнь пожилого человека, как ощущение ненужности для всех – для бывших знакомых, коллег, друзей, которые всё реже звонят и почти никогда не заглядывают в гости, но особенно и больнее всего, когда отчётливо понимаешь, что ты больше не нужен своим взрослым детям.
Никто так не благодарит за внимание и, тем более, за финансовую поддержку (пусть даже самую мизерную, постыдно смехотворную!), как постаревшие родители. Много раз, повторяя слова благодарности, признательности и бесконечной любви к своему взрослому ребёнку. Она ходила на почту получать мой перевод. Ей дважды отказывали. Пожилой женщине, которая еле ходит. Наконец, получила. И тут же – столько благодарности мне, столько совершенно детского восторга, что у неё есть сын, что он ей помогает. Я слушаю маму, держа телефонную трубку, не смея прервать её или хоть что-то возразить этому нескончаемому потоку материнской благодарности, и мне так не по себе, так стыдно за всё перед ней. И в горле комок. И я молча рыдаю, потому что заплакать в голос ни в коем случае нельзя, голос не должен дрожать – услышит. Вот ничего не расслышит, а слёзы – мгновенно. А это – никак нельзя, это категорически запрещено: у неё больное сердце. Я не знаю, на какой тоненькой ниточке оно висит сейчас…
Мама, мамочка, не ты, а я должен благодарить тебя бесконечно, я должен стоять перед тобой на коленях и просить прощения за то, что не могу сейчас же немедленно ни приехать, ни обнять тебя, родная моя мама…
Прости меня, мама. Я знаю, что ты простишь. Ты всегда и всё прощаешь. Ты любишь всегда – любого, каким бы я ни был… Ты – мама. Ты у меня одна
Однажды ночью…
Это было такой же январской ночью с 19-го на 20-е в 1990 году. По проспекту ехал старенький автобус, в котором возвращались с завода домой рабочие после смены. На переднем сидении рядом с отцом находилась девочка-школьница, упросившая его взять её с собой на работу. И вдруг впереди по курсу движения автобуса возник бронетранспортер. Прозвучала пулеметная очередь. Пуля попала ребёнку в сердце. Ещё не осознав происшедшего, отец подхватил мертвую девочку на руки и вынес её из расстрелянной машины. Вторая очередь из пулемета пришлась уже по нему… Девочку звали Лариса.
По пригородной автотрассе двигалась колонна бронетехники. На обочине, пропуская колонну, стояли «Жигули». За рулем сидела женщина. Было светло, потому что было утро. Внезапно одна из боевых машин свернула с дороги, аккуратно переехала через «Жигули» и, возвратившись на дорогу, продолжила движение в колонне. Женщиной, которая находилась в машине и спешила на работу в то утро, была доктор химических наук, профессор Светлана Мамедова, первая женщина-ученый, получившая степень доктора наук в области высокомолекулярных соединений.
Броневая колонна шла по улицам города. Из неё продолжали раздаваться пулеметные очереди, просто так – по окнам роддома, по детской больнице, по жилым домам… На полу одной из квартир лежала бездыханная семнадцатилетняя девушка. Её звали Верочка Бессантина, пуля попала ей в голову. По дороге к поселку из города по вызову ехала машина «Скорой помощи». В ней торопился к больным молодой дежурный врач… Солдаты расстреляли и машину, и врача, находившегося в ней. Его звали Александр Мархевка. Никто из больных никогда уже его не увидит, но всё-таки он сделал для них всё, что мог тогда: отдал свою жизнь.
На тротуаре городской улицы стоял слепой старик, случайно потерявший свою палку. Мимо проезжала военная колонна. Один из солдат спрыгнул с БТРа, подошел к старику, ударом приклада свалил его на асфальт, вторым ударом при помощи штык-ножа добил слепого и вернулся назад, на броню. Колонна двигалась дальше.
Я видел много фотографий. И на каждой из них было множество расстрелянных и раздавленных танками тел: в морге, а больше – просто на городском асфальте. Среди них были взрослые и дети, мужчины и женщины, подростки и старики. Все они умерли в ту ночь или наутро. Помню фотографию подростка без ног, которые по-видимому остались под гусеницами. Но он умер не от этого, нет. За ухом у него я разглядел аккуратное пулевое отверстие. Значит, стреляли в упор. Значит, раненых добивали.
Я помню (через целый месяц после этих событий, уже в конце февраля!), как удивили меня странные ржаво-коричневые потеки вдоль тротуарного бордюра в районе площади, которую с тех пор называют в народе Кровавой. Потом я узнал, что это высохшая кровь – ещё с той ночи. Сколько же её было пролито, если вдоль проезжей части нескольких городских улиц текли к морю кровавые ручьи от тел, расплющенных танковыми траками? Говорят, чтобы скрыть количество убитых, трупы топили в море… Тысячи людей пропали без вести навсегда, сотни – похоронены в бывшем парке культуры и отдыха, превратившемся с той поры в кладбище.
Город, где всё это однажды случилось, называется Баку. А человек, приказавший сделать всё это, называется Михаил Горбачев. Немцы его любят.
Три поросёнка
Если вы спросите меня: случилась ли вся эта история на самом деле, я вам не отвечу. Может быть, именно так все и было. А, может быть, и не совсем так. А, может быть, и совсем не так. Ведь каждый помнит по своему и свое. Но то, что мой рассказ родился не на пустом месте – наверное, очевидно каждому.
Давным-давно в одном южном городе Советского Союза жил-был очень дружный школьный класс. Восьмой «в». Ровно сорок человек – мальчиков и девочек. Они знали друг друга и друг о друге все или почти все, потому что почти все учились вместе с первого класса да и жили рядом со школой. Помимо уроков многие участвовали в школьном хоре, играли в гандбол в одной команде, маршировали строем в военной игре «Зарница», собирали металлолом и макулатуру, как примерные пионеры. И с уроков на «шаталу» в кино сбегали тоже все вместе. Никто не отставал.