Feelфак Пекова Серафина
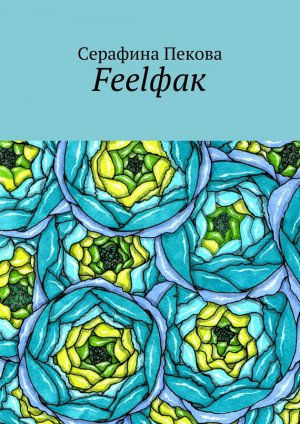
Ангелы и аэропланы (АН-28)
Ангелы и аэропланы
На земле и в небесах
Ангелы и аэропланы
В твоих глазах, в твоих глазах
В. Ткаченко, М. Кучеренко.«Ангелы и аэропланы»
Иди ко мне
Я подниму тебя вверх
Я умею летать
К. Е. Кинчев. «Ко мне»
В аэропорту Наташу встречали двое – брат и его приятель, с которым она была незнакома и про которого знала только, что он Лешкин однокашник по Балашовскому училищу1. И что у этого приятеля есть вместительная машина. В нее-то, собственно, и планировалось погрузить весь Наташин громоздкий багаж – три чемодана и дорожную сумку. А свой престарелый «Сааб» Лешка вдребезги расколошматил за два дня до ее приезда, не вписавшись на скорости в поворот и отделавшись одним синяком на скуле. Всегда был везунчиком и шутил, что за свои тридцать пять – брат и сестра были погодками – не успел истратить даже половину дареных ему Провидением девяти жизней.
– Как здоровье королевы? – спросил водитель, едва Наташа устроилась на заднем сиденье и размотала длинный шарф – день девятнадцатого сентября в Москве выдался не по-осеннему жарким и солнечным, хотя британские метеорологи обещали ему плюс одиннадцать и проливной дождь.
– В порядке, спасибо зарядке, – неохотно ответила она. Дурацкий вопрос, дурацкий ответ. И не посмотрела на того, кто спрашивал, хотя отметила краем глаза, что он ждет ее взгляда в салонном зеркале заднего вида.
– Юрка, не тронь святое, – хохотнул Лешка. – Систер бритишей в обиду не даст.
– Да тот, кто их обидит, дня не проживет, я так думаю, – в тон ему ответил приятель, и машина мягко стронулась с места.
Наташа, повернувшись к окну и прижавшись виском к нагретой кожаной спинке сиденья, сомкнула глаза и твердо решила не открывать их до самого дома – пусть думают, что она дремлет. И неожиданно для самой себя вправду вскоре задремала под негромкий разговор мужчин и еле слышный шепот радио. Как будто попала домой. Как будто чужая машина малознакомого человека могла стать ей хотя бы на время домом.
Боль от разлуки – странная вещь. Чем дольше живет, тем становится сильнее. Стоит утихнуть в ушах звону от разрыва канатов, веревок и ниточек между когда-то возлюбленными, а теперь враждующими, воюющими, жаждущими отмщения «сторонами конфликта», и стороны эти слегка подостынут и отойдут – кто от гнева, кто от рева, первый призвук боли, бывает, припорхнет к тебе в грудную клетку раз и другой. Тогда она еще легкая, как бабочка, но острая и колющая под ребра при каждом маленьком вдохе-выдохе похлеще любой невралгии. И в этот самый начальный момент, чтобы отмахнуться от нее, надо больше двигаться. Мыть самой посуду, мыть самой машину, отнести, наконец, в химчистку пальто, ходить на работу, да, ходить пешком на работу от Бинг-стрит до самой Макензи Уолк. А еще бегать по утрам и таскать домой мешки с продуктами, которых никто никогда не съест, потому что тебя тошнит от еды. И тогда, может быть, не успеет накрыть тупой волной страха и отчаяния. Ужаса живого, отрезанного по живому от живого же. Если же застыть, задуматься, боль обживается и потихоньку выходит за ребра, растекаясь равномерно, разливаясь, расширяясь и захватывая собой все одеревеневшее от напряжения, уставшее от борьбы за существование тело, но не исчезает никуда и не слабеет.
Обманчиво впечатление, что она отпускает ненадолго на время случайного тревожного сна – в момент редкой удачи, когда тебе удалось заснуть. Нет, она просто делает вид, что тоже задремала. И резко ударит наотмашь своей тяжелой когтистой лапой, стоит твоим векам дрогнуть, когда, лежа на боку, ты во сне захочешь спиной привычно опереться о бок спящего рядом мужа – именно в этой позе ты спишь наиболее глубоко и спокойно. Но мгновенно рухнешь в бездну пустой постели, где ты осталась теперь одна, и больная муть больной реальности снова вцепится в тебя мертвой хваткой. «Аааааааа», – тоненько заноет внутри кто-то маленький и жалкий, кого уже ни приласкать, ни защитить самой не получится, потому что это ты сама и есть.
«А Наташку-то колбасит не по-детски», – грустно думал Леша, стараясь не смотреть на сестру с жалостью – не простит. Он первым понизил голос, как только заметил, что она прикорнула у окошка, и приглушил радио. Ему так хотелось протянуть руку и тихонько погладить ее по голове, убрав длинную челку со лба за ушко, но этим жестом он наверняка бы, как говаривала его бывшая теща, «открыл живот», а этого Лешка делать ни при каких обстоятельствах не хотел.
«Боль от разлуки – странная вещь. Болит развороченное нутро оставленного, а нутро оставляющего тихонько подсасывает червяк виноватости, но боли в нем нет», – думала я, поворачивая налево у обветшалого деревянного креста, обозначавшего поворот в деревню Холмогорово. Здесь я собиралась провести свой запланированный родным отделом кадров сентябрьский отпуск, отменив предварительно поездку на Кубу с Валерой. Не обошлось, конечно, без выяснения обстоятельств, сподвигнувших меня принять такое необдуманное и разорительное для меня, голубушки, решение, и даже без небольшой истерики, на которую способны холеные, избалованные и не очень взрослые мужчины, лишенные надежды на красивое времяпровождение в красивом месте с красивой женщиной.
Нет, я себе не льщу – я глянула мельком в зеркало и подмигнула сама себе, как мне показалось, задорно. Густая огнистая челка закрывала брови, природным изгибом которых я могла бы смело похвастаться, но красиво оттеняла холодный проблеск серого в нефрите глаз и нежный румянец, имеющий правильный персиковый оттенок исключительно на лице рыжих от природы, зацелованных солнышком в самый нос и в скулы. С Валерой, конечно, не очень хорошо получилось, но в последнее время мне изрядно надоело встречаться с ним глазами в любой отражающей поверхности, куда он заглядывал полюбоваться… собой, а я никак не могла найти повод для расставания. Сорванные отпускные планы – он не сможет мне этого простить. По крайней мере, мне очень хотелось на это надеяться.
Мысль уехать из города замигала в моей голове спасительным маячком на грани яви и сна, кажется, сразу после Валериного обиженного демарша из моей квартиры. А по-настоящему уехать из города можно, только чтобы поселиться на две недели в старом бабушкином доме с резными наличниками на окнах, прикорнувшей под окном «залы» березкой и бегущей от крыльца к колодцу на заднем дворе заветной тропкой. Вспомнив об этом, я быстренько перепаковалась, повыбрасывала из багажа все купально-пляжное и добавила пару джинсов, несколько пуловеров и плащ на случай дождей. Немного задумалась над платьем в горошек – мелкая жемчужная россыпь на кофейно-черном фоне, узкий лиф и расклешенная юбка до колен. Как красиво бы она колыхалась в ритме румбы – неслышный длинный выдох – раз, неглубокий вдох – два, еще два довдоха – три, четыре. На что мне оно в деревне в сентябре? Но положила платье на плащ и решительно защелкнула небольшой чемодан.
Проехав немного вперед, я притормозила. У подножья холма, словно не решившись подобраться поближе к деревне, замерла березовая роща. Сейчас она казалась светящейся – лучи уходящего в закат солнца будто бы медленным медом стекали с ее изжелта-медных верхушек и истончались ближе к земле, растворяясь в едва позолоченной зелени плачущих нежных веток. Дорога, уходящая мимо выстроившихся в ряд деревьев, шла в гору, к древним домам, большинство из которых были темными, почти черными, с редким вкраплением желтых и бирюзово-зеленых стен более новых строений. Ярко белели наличники на окнах, отражающийся в стеклах закат создавал такую яркую иллюзию пожара сразу во многих домах, что у меня на какое-то мгновение перехватило дыхание и панически заколотилось в горле сердце. Нервы ни к черту. Правильно сделала, что приехала. Деревенский воздух, парное молоко по утрам, вечерние прогулки к озеру… Покой. Тишина. Гармония неспешного существования.
У ворот меня встретили бабушка и коза Дашка. Удивление Дашки было довольно прохладным и скорее вежливым (на самом деле она меня терпеть не могла), а бабуля от нежданной встречи расплакалась: «Что ж ты, Натуша, не сказала, что приедешь-то? Я бы блинков напекла, баню истопила, а то как тебя встретить-то?…» Как могла, утешила я бабулечку объятиями, поцелуями в любимые морщинки и уверениями в том, что две недели еще буду с ней, и успеются и блины, и баня. За это и получила скворчащей яишенки и тарелку малосольных огурчиков на ужин: «С дороги, с дороги-то как не поесть, Натуша, ну мордашка-то с кулачок, исхудала внучашка-то…».
Чистая и всегда готовая к моему приезду постель была, несмотря на все мои протесты, перезастелена, и на имеющееся одеяло лег сверху вязаный плед – чтобы не замерзнуть внучашке ночью. Наскоро ополоснувшись в ванной («Да разве это мытье, без бани-то?..»), наевшись и предусмотрительно поставив под кровать кружку с водой – явно зажелаю обпиться после огурцов, я с тихим счастливым стоном вытянулась под одеялом в любимой позе лежа на животе, обняв обеими руками подушку и подогнув правое колено. Боже, какое блаженство – целая постель моя, и никто не привалится к моему боку во сне, и не будет тревожно всхрапывать мне в затылок, и пытаться забросить на меня горячую, волосатую, будто чугунную, ногу. Одна, во всей широченной кровати одна, и никому ничего не должна, ни одному мужику. Убежала в направлении, обратном колобковому бегству – от всех волков, медведей и зайцев в деревню, к бабушке. И спаааааать…
Очнувшись от непонятного гула, Наташа сначала не поняла, где находится, и испуганно огляделась.
– Тих-тих-тихо, сестренка, все свои, – Лешка улыбался, обернувшись к ней с переднего сиденья. Водительское кресло было пусто.
– Выспалась? – ласково спросил он, протянув к ней руку и заправив за ухо длинную, упавшую на лицо челку. Не сдержался.
– Где мы? – Наташа недоуменно смотрела перед собой и сначала не видела ничего, кроме открытого всем ветрам, покрытого травяным ковром пространства за сетчатой загородкой.
Сощурившись, разглядела вдалеке «базу» – деревянный домик, несколько беседок, в одной из них группу людей, одетых в цветные комбинезоны – не поймешь, мужчины или женщины. И самолеты. Гул винтов одного из них, то ли собирающегося взлетать, то ли приземлившегося, и разбудил ее.
– Лешка! Чокнутый! Куда ты меня притащил? Я только прилетела! Я домой хочу, я устала! – мгновенно осознав, что параноидально влюбленный в небо братец и его не менее полоумный приятель привезли ее на какой-то спортивный аэродром, взмолилась Наташа.
– Чокнутый, согласен. Для тебя это не новость. Прилетела, знаю, сам встречал. Да разве в пассажирском это полет? Так, перемещение, – успокоительно говорил он, стараясь удержать ее взгляд и смеясь всем лицом – глазами, ртом, всеми своими тремя ямочками на щеках – одну точно стащил у нее: на его правой щеке примостились сразу две.
Пижон-братец, пока Наташа спала, успел переодеться в лётный костюм – комбинезон с накладными карманами и куртку на молнии темно-синего цвета. Заметив это, она хмыкнула про себя: «Все-таки старше двенадцати лет они не становятся…»
– А приятель твой где? – кивнула на пустое кресло Наташа.
– Юрбан? Пошел с пилотами добазариваться, чтоб теперь они еще взяли тебя полетать, – говоря это, Лешка намеренно отвернулся и быстро открыл дверь, чтобы выйти из машины – слушать лондонское арго в исполнении сестры он явно не собирался. Как и менять свое решение впихнуть ее в заслуженный АН-28, чтоб отвлеклась от глупых мыслей и хотя бы на двадцать минут «настоящего» полета перестала себя грызть.
Однако выслушать непереводимую игру слов Лешке бы и не пришлось. Спустя пару минут Наташа с несвойственной ей покорностью и молчаливостью тихо вышла из машины и, приблизившись, кажется, на цыпочках к брату, обняла его сзади, сцепив руки у него на животе и прижавшись к спине щекой между лопатками.
– Спасибо, Леша, – еле слышно выдохнула она. И, наверное, заплакала.
«Совсем плохая», – подумал он. А вслух сказал намеренно резко:
– Да возьми ты себя в руки, наконец. Небо на землю еще не рухнуло.
Небо. Небо действительно было на месте – вечное и прекрасное, накрывшее лётное поле зеленоватым в этот предвечерний час куполом. Ветер тщетно пытался поймать легкой перистой сетью облаков золотой шар осеннего ласкового солнца, которое отплескивалось от наступавших на него снежно-пенистых волн розовыми, оранжевыми, кораллово-красными сполохами, растворяющимися в небесной бирюзе и мяте.
– Ну, вот что, спортсмены уже заканчивают прыгать, две партии осталось. Серега согласился взять девушку пассажиром. Лады, родственники? – вовремя подоспевший Юра спас совсем уже плачевную во всех смыслах сцену.
Упомянутый Серега оказался крепким пожилым мужчиной с русым кудрявым чубом и задорно подкрученными усами пшеничного цвета, такими густыми и пышными, что при всей нелюбви к растительности на лице даже самых брутальных мужчин, Наташа залюбовалась ими, не скрывая удивления и восторга. Он казался богатырем из сказки, былинным Ильей-Муромцем, и ей думалось, что и люди, и техника должны ему покоряться с беспрекословной радостью – настолько спокойной мощью от него веяло. Такими в ее неистребимо-романтическом представлении были авиаторы начала прошлого века – бесстрашно карабкающиеся в небо зачастую «на честном слове и на одном крыле» с иронической улыбкой под роскошными усами.
Между тем к самолету двинулись от беседки парашютисты – партия 12А, как огласил женский голос из динамика. «Тринадцатый номер здесь явно не любят», – подумала Наташа.
– Не боитесь? – спросил Юра, наклонившись к ее уху.
– Не боюсь, потому что не знаю, чего именно нужно бояться, – внешне спокойно ответила она, старательно вглядываясь в даль.
– Ты, главное, систер, как парашютисты поспрыгивают, сиди ровно, вцепись в лавку. Не ходи за ними дверь закрывать! Да, и если кто из них перчатку обронит, не бросайся догонять, а то я тебя знаю, ты вежливая – веселился Лешка, вернувшийся в привычное для него шутовское настроение, едва ступил на поле.
– В смысле? – почти уже испуганно переспросила доверчивая Наташа, всегда легко «ведущаяся» на шуточки брата, обращаясь не к нему, а к Юре, который своим доброжелательным вниманием внушал ей необъяснимое доверие.
– Или как вариант: только спортсмены за борт – ты сразу в кабину к пилотам стремись, они не дадут вывалиться, – продолжал балагурить Леша.
– Не бойтесь. Все будет хорошо, – очень тихо сказал Юра, осторожно взяв ее за руку. От этого неожиданного прикосновения Наташа на какое-то время будто бы оглохла: слышала только свое дыхание и нарастающий гул сердца там, где гудеть ему не положено – под левой ключицей.
– Все будет хорошо, – повторил он, и в ответ ее маленький тревожный кулак в его теплой ладони доверчиво раскрылся, а у Наташи пронеслась в голове целая вереница мыслей, из которых зацепилась только испуганная фраза: «Я не хочу лететь одна».
– Я не хочу лететь одна, – сказала она вслух.
– А тебя одну никто и не возьмет, человек пятнадцать спортсменов еще набьются, – не поворачивая головы, ответил Лешка и ускорил шаг, решив что-то еще уточнить у пилотов.
Наташа двигалась за братом след в след, не поднимая глаз от его кроссовок и не отнимая своей руки у Юры, но по-прежнему не смотрела на своего спутника, хотя он не отрывал глаз от ее лица. И от этого взгляда ей становилось так сладко… И волна чего-то теплого и густого поднималась внизу живота и замирала под ребрами. И губы сами растягивались в блаженной дурацкой улыбке. Странно, еще несколько часов назад она даже не знала, как его зовут, а сейчас он держит ее за руку, словно в задумчивости перебирая пальцы, и вовсе не кажется ей чужим.
– Ну давай, дочка, поднимайся, – совсем по-отечески улыбаясь Наташе, Сергей, которого она мысленно уже прозвала Чапаем, указал ей на приставленную к двери в салон деревянную лестницу. «Вот тебе и трап», – подумалось ей быстро.
Больше всего Наташа опасалась, что парашютистам, уже занявшим свои места в салоне, не понравится ее появление, и что они будут смотреть на нее приблизительно как моряки смотрят на женщину на борту корабля – то есть как на лишнюю деталь. Неодушевленную. Они, одетые в прыжковые комбинезоны, перевитые лямками ранцев, в лётных шлемах, с перчатками, очками и камерами в руках, все как один, казались ей людьми, собравшимися здесь по исключительной важности вопросу, не терпящими рядом с собой таких бездельных зевак, как она. В реальности спортсменам дела до Наташи не было – рассевшись на укрепленные по бортам салона лавки, они переговаривались между собой, проверяли экипировку, камеры. На нее никто особо не глазел, а та пара взглядов, которые она поймала, не говорили ни о недоброжелательстве, ни об осуждении. Ровное и объяснимое человеческое любопытство к незнакомому существу. Не более.
Проведя ее через салон, Чапай передал Наташу вежливому улыбчивому мальчику лет двадцати с небольшим, назвавшемуся Вадимом, который показал ей место пассажира – в салоне у стенки кабины пилотов была приставлена обычная деревянная табуретка, снимавшая с полета весь лоск героической опасности своей неприкрытой принадлежностью к предметам кухонной утвари. Наташа даже фыркнула про себя смешливо, внешне стараясь оставаться серьезной и собранной.
– Главное, ничего не бойтесь. Сейчас шумно, а скоро будет совсем шумно и страшно. Но вы не бойтесь, потому что потом будет красиво. Держитесь здесь, – Вадим положил Наташину руку на притолоку двери в кабину пилотов. – И смотрите сюда, – показал он на прямоугольный, с закругленными углами иллюминатор за ее спиной. Еще раз повторил:
– Не бойтесь. Будет очень красиво. Да, и чтобы не заложило уши, дышите глубоко, с открытым ртом, или сглатывайте перед вдохом, – последние слова Вадим почти кричал, наклонившись над Наташей, потому что двигатели работали уже на полную мощь, и начался разбег.
«Интересно, все на самом деле так страшно или я выгляжу настолько испуганной? – подумала она. – Почему они все уговаривают меня не бояться?»
Разбег был коротким, самолет быстро оторвался от бетона взлетной полосы и начал делать первый круг над аэродромом. Сначала Наташа видела только поле, серый забор по его кромке и за ним шоссе, по которому они, видимо, и приехали. Участок железнодорожного пути и синие крыши вагонов электрички. Дома, уходящие вниз и превращающиеся в домики.
Самолет набирал высоту – уши закладывало, и Наташа старательно, как учили, сглатывала перед вдохом – сидеть с разинутым ртом перед целой толпой спортсменов, у которых с ушами явно проблем не было, ей не хотелось. Страшно никак не становилось, было легко и почему-то весело. Куда-то исчезла неловкость перед незнакомыми парашютистами, Вадимом и пилотами.
– Не страшно! Очень красиво! – прокричала она большеротому загорелому парню, сидевшему напротив, едва встретившись с ним глазами. Он ответил широкой улыбкой и поднял большой палец.
Но вот целый сноп солнечных лучей плеснул Наташе из иллюминатора полновесно и щедро прямо под ресницы, отчего она крепко зажмурилась и засмеялась. Радостно, в голос.
– Очень красиво, бабуль, – сказала я, любуясь высящейся на столе горой блинчиков. Янтарно-желтые солнышки, тончайшим кружевом просвечивающие по краям, пропитанные вкуснейшим домашним маслом, кусочек которого как раз растекался в золотую лужицу по поверхности блина, венчающего величественную башню – совершенство и объедение.
– Да что любоваться-то ими, Натуш? Кушай садись, не картина, поди, – улыбалась бабуля, подвигая ко мне сметану и мед. Эх, и не влезу я в джинсы через две недели!
После завтрака пошли проведать Дашку на выпасе – коза паслась у озера, путь к которому лежал через гаражи, мимо покосившегося забора заброшенного, некогда колхозного, сада и дальше до самого подножья холма. Верная примета субботнего дня – кроме стариков и детей – постоянных жителей деревни, нам встречались и молодые лица «горожан», приехавших навестить своих на выходные. Все встречавшиеся нам по дороге знали бабушку и охотно здоровались со мной, называя меня, к моему удивлению, по имени. Я со всеми раскланивалась, отвечала на приветствия, а, пройдя мимо, пытала бабулю, с кем это мы сейчас разошлись. Казалось, что не два года прошло с тех пор, как я была здесь последний раз, а лет двести – память услужливо размыла черты лиц и постирала большую часть имен. Бабушка степенно и терпеливо расплетала передо мной кружевную сеть запутанных деревенских санта-барбар:
– Это Ленка, дочка Валентины, родила в мае. Валентина-то сама, страстотерпица, с внуком кондыляется вон в огороде. Загорела вся, как негра, внучок-то горластый попался, загонял баушку. Она его на воздухе все лето прокачала и сейчас редко заносит, рахита боится. А Ленка уже работать пошла, Санька ведь ейный, – здесь бабулин голос заговорщицки понижается, – сел.
– На что сел? – я делаю вид, что не понимаю, о чем речь, чтобы подыграть бабушке.
– Да не на что, Натуш, а куда! – восклицает она, картинно всплескивая руками, и отвечает полушепотом. – В тюрьму, куда ж люди садятся, которые до чужого добра охочи? А вон Оксанка со смены едет, глянь, выбелила волосы себе, чтобы Серегу своего от Любахи отвадить. Да Любаха, Наташки Злобиной сноха. Ну, которые из Чечни приехали, Василь ее в милиции работает, он Саньку Растрепаева и повязал…
Не дослушав бабулю, срываюсь с места и мчусь по вынырнувшему под ноги склону, раскинув руки, к озеру, которое блестит внизу. Не слышу еще пока, но знаю, уверена – так же, как и два года назад, оно будет нежно лепетать маленькими волнами, набегающими на берег, о прошедшем лете, о бархатном сентябрьском утре, о березовых листьях, светящихся на водной глади. Стоит мне только улечься на траве рядом с ним и затихнуть.
После обеда я мобилизирована бабулей на ощипывание хмеля, чьи уже почти перезревшие шишки золотисто-бурого цвета, с грозящими вот-вот рассыпаться лепестками она считает лучшим средством от бессонницы. В то, что я страдаю бессонницей, бабуля верит свято – разве можно уснуть нормальному человеку, если под окном у него никогда не затихает третье транспортное кольцо, да к тому же гремят товарные поезда, неустанно везущие свои невидимые грузы на станцию Кожухово? Столь же свято она уверена, что никакой звукоизоляцией от такого страшенного шума человеку не спастись, и уснуть ему, то есть мне суждено исключительно на подушке, набитой чешуйчатыми «шуршунчиками». Естественно, на память бабуле немедленно приходят и мой брат, и мама – заложники мегаполиса, тоже остро нуждающиеся в сонных подушках. Так что собирать мне хмель – не пересобирать.
Гибкие плети, увившие весь забор между нашим и соседским огородами, образовали к тому же целый шатер на ветках старой груши. Я начинаю ощипывать шишки у земли, присев на корточки. На ощупь они нежные и шелковистые. Я подношу разломленную шишку к носу и вдыхаю тонкий хмелёвый аромат. Солнце пронизывает сад, лучи стекают сквозь сплетение веток на траву вместе с листьями. Тишь. Медленная нега разлита кругом. Простыни висят за баней лениво, даже вальяжно, их покой не тревожит ни одно, даже самое слабое, движение воздуха. Какой странный, душный сентябрь.
Когда солнце наконец добирается до этого, самого тенистого, уголка сада, я еще какое-то время пыхчу, набивая плетеную корзину, но вскоре, договорившись с собой, что вот только чаю немного глотну и вернусь, я отряхиваю ладони от приставших к ним семян и чешуек и поправляю выбившиеся из-под косынки волосы.
– Молодка, а ты что там собираешь? Липу, поди?
Оглянувшись, я встречаюсь взглядом с двумя парами глаз, смотрящих на меня с соседской стороны забора. Одна – с залихватским прищуром из-под пижонского кепи, принадлежит молодому парню из разряда регулярно и пока еще с удовольствием выпивающих, другая – с мутным равнодушием из-под свалявшейся длинной челки – вошедшему практически уже в алкогольное пике мужичку, возраст которого определить можно, наверное, теперь только по паспорту.
– Липу в июне собрали, поди, – в тон вопросу отвечаю я. – Хмель ужо перезрел.
Мне самой смешно от того, как я это говорю, но мои собеседники остаются серьезными и намерены развивать тему:
– А что делать будешь? Брагу варить? – в сторону личных интересов клонит молодой.
Я ничего не успеваю ответить, задумавшись над тем, как бы половчей выстроить свой ответ, но мужичок неопределенного возраста неожиданно вмешивается в наш диалог, обнаруживая обширные познания в народной медицине:
– Дык… Володь… Зачем брагу? Посушит его Талочка и будет почки настоем лечить, от простуды хмель помогает, понос если прихватил, не при даме будет сказано.
Я не слушаю, что он говорит, всем нутром откликнувшись на свое детское имя – Тала, Талка, как называл меня, уже взрослую, только один человек, мой одноклассник Юрка Нечитайло, по странному выверту судьбы погибший на строительстве своего собственного дома почти пять лет назад. Вглядываюсь пытливо в лицо говорящего, силясь узнать его, вспомнить, но он опускает глаза и, качнувшись неловко назад, хватается за локоть товарища, смотрит себе под ноги.
– Ты что, молодка, почками маешься? – отвлекает мое внимание тот, что в кепи. Тон его можно назвать почти сочувствующим, но беседа меня больше не занимает.
– Бессонницей, – отмахиваюсь я и снова принимаюсь за работу.
– Бессонницей? Не спишь? Ночами не спишь? – не унимается мой собеседник. Не получив ответа, мечтательно вздыхает: – Эх, молодка, я бы тебе тоже не дал уснуть!
«Теоретик», – иронизирую я про себя, но вслух ему не отвечаю, делая вид, что ничего не слышу. Первым уходит тот, что назвал меня Талой, вслед за ним трогается молодой. Я сажусь на теплую грядку с тыквами, где на потемневшей от дождей соломе и переплетенных между собой шершавых стеблях лежат бугорчатые сплюснутые плоды, ярко-оранжевые, с пестринкой. Обхватив руками коленки, я утыкаюсь в ситцевый подол домашнего маминого платья, которое уже давно мне впору, долго и сладко оплакиваю Юрку, и все мои с ним детские поцелуи под этой самой грушей, и его шелковистые медвяные кудри, которые можно было наматывать на указательный палец – колечками. «Ох, Леська, нарожают они тебе огняных, ох, нарожают!» – пугала бабушка мою маму до самого нашего выпускного. В какой-то момент я закрываю глаза и куда-то проваливаюсь. Или взлетаю – из-за слез трудно разобрать.
Солнце теперь закрывают облака, и Наташу бьет мелкая дрожь – после прыжка парашютистов дверь в салон открыта для холодного ветра, пробирающего, кажется, до костей. Она наматывает на шею шарф и прячет руки в карманы куртки.
– Вставайте, – улыбается Вадим. – Сейчас начнется самое интересное!
Наташа послушно встает, и он переставляет табуретку из салона в кабину, почти между кресел пилотов. Она неловко садится, одной рукой держась за косяк двери, другой – за кресло Чапая. Но уже через секунду забывает обо всех неудобствах, засмотревшись на открывшуюся панораму – таким широким горизонт ей еще никогда не представал. Далеко внизу сквозь клочья шифоновой дымки проступает лес – выпуклыми лимонными, янтарными, медными, гранатовыми, кирпичными мазками, перемежающимися мшисто-зелеными разливами хвои. Во всем своем осеннем торжествующем великолепии лежит земля, сейчас такая же далекая, каким полчаса назад казалось ей небо.
– Видишь церковь? – кричит Чапай, указывая рукой на крошечный купол, затерявшийся среди темно-зеленых и янтарно-желтых бугорков, какими с высоты птичьего полета кажутся деревья.
Наташа кивает.
– В километре погиб Гагарин.
«Значит, он видел это все перед смертью», – думает Наташа, но ей не становится почему-то грустно. Слишком уж хороша картина внизу.
На спуске захватывает дух, как на американских горках. Чапай сажает машину аккуратно, любовно, мягко. После приземления и недолгого пробега самолет останавливается.
– Я вам помогу встать, – предусмотрительно говорит Вадим и берет Наташу под локоть. На что Чапай отрицательно машет головой, ничего не говоря. В самолет меж тем набиваются парашютисты – четырнадцатая и последняя на сегодня партия.
– Девушка еще полетит? Вы не устали? Не замерзли? – участливо уточняет у всех сразу Вадим, и в ответ Наташа тоже молча мотает головой: «Не устала. Не замерзла. Хочу еще». Чапай приветственно поднимает руку – на площадке в ожидании Наташи замер Юра. Она тоже поднимает руку, но Юра не смотрит в сторону кабины, упрямо и уверенно ожидая ее появления на поле. Лицо у него напряжено и губы сжаты в тонкую линию. Наташа знает, что он ждет сейчас только ее, и никого больше, и это знание для нее очень важно. Лестницу убирают от входа, двери в салон снова закрываются.
– Ты желание загадай, когда будем наверху, – с улыбкой говорит Чапай, проследив ее взгляд. – А он, – кивок в сторону Юры, который, поняв, что Наташа решилась на второй заход, тем не менее, не уходит в беседку, где его ждет Лешка, а остается стоять на месте, выглядывая ее в кабине. – Он исполнит.
– Наверху разложим, над верандой, – решила я, когда мы с бабулей почти закончили нарезать яблоки для сушки.
Погожие дни обещали до конца месяца, так что будем с сушеными яблоками в этом году. Осталась только небольшая кучка антоновки, но эти уже и класть было некуда – в двух тазах высились груды яблочных долек, начинающих темнеть.
– Оставь, бабуль, – отвела я бабушкину руку, всю испещренную мелкими морщинками и рыжеватыми пятнышками, от пирамидки зеленовато-желтых яблок с просвечивающими сквозь плотную кожу белыми точками. – Так съем.
Пока я топталась по остывающему шиферу над верандой, раскладывая на чистых полотнах яблоки, укрывая их марлей, закрепляя марлю камнями по периметру, чтобы не улетела, к бабуле на вечерний чай сходились подружахи. Позабыв, что я существую как раз над их головами, и слух мне еще не изменил, в ходе неторопливой беседы они неизменно сбивались с курса деревенских новостей на мою горькую судьбину бездетной разведенки.
– А фамилию она мужнину после развода оставила? – живо интересовалась «внучатая страдалица» Валентина.
«Можно подумать, для деревни Холмогорово это так важно, – мрачно думала я, – под чьей я приехала фамилией».
– Мужнину, – скороговоркой отвечала бабуля вполголоса, – Красько она.
– Знавала я одних Краськов. Уж такие были алкаши и придурки – страсть! – зашлась было в воспоминаниях тетка Настя, но осеклась, прерванная, видимо, каким-нибудь бабулиным устрашающим жестом.
– А у ваших-то Никитиных год в субботу, – печально продолжил голос той же тетки Насти, решившей реабилитироваться.
В повисшей паузе, прервавшейся скоро бабушкиным замечанием, что яблоки в этом году уродились уж больно хороши, мне послышалась какая-то на самом деле горестная горечь, и я задумалась: что там могло стрястись у Никитиных? Наверняка ничего, о чем бы стоило так тяжело печалиться, уж я бы знала. Никитины нам далекая, но все-таки родня.
– Что там стряслось у теть Нюры, ба? Чего год в субботу? – спросила я значительно позже, уже устроившись уютно под одеялом и сладко зевая.
Бабушка ответила мне не сразу, сначала вроде как замерев, а потом немного повозившись в своей спаленке и повздыхав.
– Лиза с собой кончила, – наконец сказала она спокойно, и от этого именно спокойствия меня и подбросило на постели, как от удара: меньшая Никитина была моей любимицей, я помнила ее и круглощеким пузаном двух лет от роду, и стройной девушкой-березкой, тургеневской барышней с задумчивыми глазами и пшеничными локонами, какой она и осталась в моем представлении.
– Да что случилось, ба? И почему все молчат? Мы почему на похоронах не были? – ворвалась я к бабушке и застала ее пригорюнившейся на краю расстеленной постели, с гребнем в руке, который она только что вытащила из волос – они дымчатыми волнами опали на лицо, темное от загара, и закрыли его почти полностью.
При моем появлении бабуля выпрямилась, собрала волосы и снова скрепила их гребнем. Сложив руки на коленях, глядя сухими глазами не на меня, а куда-то в сторону окна, сказала с тем же обреченным спокойствием:
– Мать была. А остальным говорить Нюра не велела. Грех это, Натушенька. Зачем это людям знать?
– Да все и так знают, ба, вся деревня знает! Почему матери можно сказать, а нам с Лешкой – нет? Мы тоже любили Лизу! И та тоже… разведчица… Ну хоть бы слово сказала!
На все мои бессильные выкрики бабушка ответила тихо и внятно:
– Нюра – мать Лизе. Она так решила. А тебе никто не мешает на могилку сходить и поплакать, если так хочешь.
Понимая, что теперь мне уже точно не уснуть, я накинула куртку прямо на сорочку, тоже, кажется, мамину, и вышла через веранду во двор. Прошла к калитке, постояла у нее, раздумывая, куда двинуться дальше, да там и застыла. Время было еще не очень позднее, только-только растаяли зеленые сумерки, и вокруг наливной белой луны начала сгущаться темнота. Очнулась я через некоторое время от легкого постукивания и деликатного хруста за спиной. Обернувшись, сначала ничего не поняла, а потом разглядела в ярком лунном свете на крыше веранды Дашку, с аппетитом поедающую разложенные для сушки яблоки. Коза смотрела на меня сверху с явным неудовольствием: «Вот же не спится», я на нее снизу – с чистым недоумением: «Как она туда влезла? Не по стремянке же…»
– Дашка, ну-ка слезай оттуда! Божье ты наказание! Опять она за свое! – громко сетовала бабушка, неслышно примкнувшая ко мне и не собиравшаяся, по моему примеру, озадаченно молчать. – Натуш, плохо ты ее заперла!
– Ну вот, я же виновата в ее обжорстве, – ворчала я, приставляя к крыше стремянку. – Она ночами жрет, а я получай.
Дашка, не дожидаясь меня, элегантно перебирая копытцами и недовольно блея, переместилась на дальний угол крыши, откуда спрыгнула на высокую поленницу, с поленницы на землю и, не оглядываясь на нас, затрусила в сторону своего сарайчика.
– Вот же чемпионка, циркачка, – с заметным восхищением в голосе комментировала Дашкины «нумера» бабушка.
Облокотившись на стремянку, я грызла забытое на скамейке яблоко и ждала, пока бабушка и Дашка, наконец, нажелаются друг другу спокойной ночи и разойдутся. Я не собиралась больше расспрашивать бабулю о Лизиной смерти, и решила сама, уж не знаю от кого, разузнать, что случилось на самом деле.
– Полюбила Лиза одного… – словно в ответ моим мыслям, начала бабушка, присев передо мной на скамью и запахнувшись поглубже в платок. – Хороший мужчина, образованный, степенный такой. Для Лизы он староват, конечно, за тридцать уже. Да и не местный, приехал откуда-то, устроился наладчиком на кожной фабрике в Епифани, там и поселился. У нас сестра его двоюродная живет, да ты знаешь, Светка из Ивановского магазина, тихонькая такая, в очочках.
Я кивнула, что помню такую.
– Ну, приходил он Светку с детьми навещать, да и сейчас иногда вижу его, как он мимо рощи идет, только не через деревню, а обходом, чтобы…
– Понимаю, ба.
– И случилась у них с Лизой любовь, да такая любовь, что не знала, не помнила наша девочка никого, кроме него, свет ей клином на нем сошелся. И ведь молчала, как спросишь, ну, когда свадьба-то? Молчала и все глаза отводила. Неспокойно было на сердце у Нюры, да разве что сделаешь с вами? Уж коли любовь эта проклятущая… – бабулин тяжелый вздох был явно и по моему адресу, да и по маминому, про наши с ней проклятущие любови, замужества и разводы.






