Право на безумие Стамм Аякко
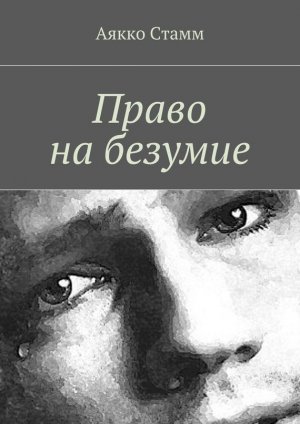
Пролог
Обезумел мир1.
Он и раньше-то не отличался здравостью мышления. Легко его, ой легко провести на мякине, поймать где-нибудь в тёмном переулке, взять нежно за руку чуть повыше локоточка, посмотреть в глазки эдак доверительно, вкрадчиво и всучить полную дребедень и безвкусицу под видом очумело драгоценной вещицы.
Да он сызмальства глуповато-доверчивый был. Коль посулили наку, так и съел, чего не дОлжно было есть… И ведь предупреждал его: «… ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».2 Не послушался, рассудил по-своему.
Чуть подрос, крылышки распушил-расправил, в небеса голубиные глянул взглядом пытливым, алчущим…, и давай из кубиков бабу-башню строить выше разумения. Это, значит, чтоб с облака белоснежного на дольний мир взирать… Глупенький, а крылья-то тебе за спину для чего дал?
Дальше вообще ума рехнулся. Христа распял… И ведь как хвалился-то притом, как бравадился: «Э! разрушающий храм, и в три дня созидающий! спаси Себя Самого и сойди со креста».3 А пока в восхищении собой слюной брызгался, да утирался потОм, не заметил, как Тот не только сошёл, но и спас. Не Себя, его, мир спас.
Обезлюдел мир….
Населения что ни год всё прибывает, а Человека в нём уж не сразу и сыщешь. Из всех заповедей одну лишь принял крепко, как свою исконную – ту, которая про «плодитесь и размножайтесь».4 А разве ж в ней соль? Разве ж об этом столько было говорено и … написано?
Дурак человек, как есть дурак.
Но, однако ж, и дурак дураку рознь. Дурак в России больше чем дурак.5 На нём, если рассудить здраво, держится всё её благополучие, величие и даже слава. Так уж повелось издревле. Он и Змея Горыныча победил, и Бабу Ягу вокруг пальца обвёл, и, на печи лёжучи, жениться ухитрился. Да не абы кого взял за себя, а самую что ни есть царскую дочку с полцарством в придачу. А скольких умников-разумников наш русский дурак уму-разуму научил? И всё то без обману, без нахрапа, без своего корыстного умыслу. Да и не хотел вроде мир-то спасать, не собирался даже – судьба сама выбрала да выдвинула. Пожал дурак плечами, развёл руками в стороны и покорился судьбе. Ничего не попишешь, написано уж.
То прежде было.… А ныне? Теперь его никто не толкает, не просит даже, сам он, как тот, с кубиками, наверх карабкается, лезет, цепляется изо всех силёнок, ушками аки крылышками машет для равновесия, … и ведь упасть не боится. И на всё-то у него есть своё мнение, своё суждение, всё-то он знает, ведает, что и как было, есть и непременно будет. Не понимает в азарте своём бестолковом, что человек, всегда и на всё имеющий своё мнение и высказывающий его при любом удобном случае, подобен дураку с кучей блестящих фантиков, который давно забыл, а то и вовсе не знал вкуса некогда хранящихся в них конфет.
Да. Измельчал нынешний дурак. И беда-то вся в том, что продолжает мельчать стремительно. Знаете, почему рухнул тот колОсс на глиняных ногах? По Москве тогда протянулась огромная очередь… Неожиданно, случайно люди поняли, что половина из них стоит за колбасой, а другая половина совсем наоборот, за книгами. И ведь все в одной очереди! Решили разобраться, кто их них стоит неправильно.… Так и пал семидесятитрёхлетний режим.
Ну, теперь понимаете, почему ваш теперешний, нынешний режим не только стоит, но даже не шатается?…
Блажен, кто понял….
Эх, если бы не классики…. Они любят безумцев, души в них не чают, видят не только свет, но и спасение. Как когда-то русский баюн в Дураке. Фёдор Михайлович Достоевский романы писал идиотам. И какие романы!!! Мир рухнет, а сие, высеченное на скрижалях сердца человеческого, будет жить вечно! И ведь как выписал, как издалека зашёл?! Вслушайтесь только:
«В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона.
В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда».6
А! Услышали?! Классика… Если и писать про Безумца, (заметьте, с заглавной буквы Безумца) то непременно что-нибудь наподобие. Иначе никак нельзя.
Писатель – он вообще не от мира сего. Тот же идиот, только ещё безумнее, ещё замороченнее. Вот спрошу я вас: кем вы почитаете литератора? Тут, вижу, собрались всё люди образованные, с мыслишкой затаённой-заветной, с искоркой в сердце, потому не ошибусь, если позволю себе предугадать ответ: «Он Царь, Повелитель душ и сердец человеческих!».
Ха…. Какой же я царь? Цари властвуют над миром, повелевают им. Он велит, и послушАются ему. Призывает, и бегут на полусогнутых. Казнит ли, милует, всё одно прославляют его в веках… Какой я царь? Нет, я совсем другое. Я не властвую, не повелеваю. Я вне мира. Я сам создаю миры и сажаю в них царей…
Выходит, … что я … бог…?
Часть I. Поезд
«Две параллельные прямые не имеют общих точек.
Никогда. Кроме тех случаев, когда они пересекаются».
Закон геометрии для седьмого класса
Глава 1
В середине лета, двенадцатого июля, аккурат по завершении Петрова говения7, в слепую туманную рань, часов в шесть утра, поезд Московско-Воркутинской железной дороги на всех парах мчался по направлению к столице России. Было так сыро и туманно, несмотря на летнюю сушь и незаходящее в это время года солнце, что в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Казалось, земля, пока солнце не вошло в свою полную силу, пытается хоть как-то уберечься от дневного зноя и окутывает себя мягким тягучим защитным кремом, непроницаемым для косых, скользящих лучей светила северной белой ночи. Пассажиры, несмотря на почти что дневной свет и вагонную качку, спали в этот ранний час, скрадывая вялотекущее время долгой дороги тупым и призрачным безвременьем сна, способным если не раскрасить серые будни бытия цветным муаром, то, по крайней мере, хоть сколько-нибудь перескочить, обмануть их бесконечное течение.
В купе одного из вагонов очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира. Оба люди уже немолодые, но ещё и не старые, в самом расцвете лет… Оба почти налегке, без обременяющей путешественника большой поклажи… Оба не щегольски, но прилично одетые, хотя и в совершенно различных стилях… Оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б эти двое наперёд знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в купейном вагоне Московско-Воркутинского скорого поезда. Но жизнь человеческая часто преподносит такие сюрпризы, задаёт такие загадки, сплетает в логичные закономерные цепи такие случайности, что перестаёт хоть сколько-нибудь удивлять то обстоятельство, что само понятие бытия объявляется вдруг и всерьёз прихотливой игрой всё того же его величества случая. Что ж, тем она, наверное, и непредсказуема, эта жизнь.
Первый из двух пассажиров, лет что-то около пятидесяти, выглядел весьма примечательно и даже, можно сказать, привлекательно, если иметь в виду открытость души, простоту и лёгкость нрава, угадываемые в мягких чертах его круглого лица, а особенно в искреннейшей радушной улыбке и добром, подкупающем взгляде голубых, неподдельно чистых глаз. Его лицо можно было бы даже назвать красивым той тёплой красотой, которой так богата среднерусская полоса, и которая способна подкупить, привлечь к ещё большей открытости друга,… равно как и обхитрить, уверить в излишней доверчивости врага. Часто такая красота обманчива и коварна… Впрочем, это не позволяет сделать вывод, что доверяться ей ни в коем случае нельзя, равно как и отторгаться от внешнего уродства, неизменно олицетворяя его со злодейством. Пассажир этот уже при первом, беглом взгляде на него удивительно смахивал на доброго Деда Мороза, пускай разгримированного, оставленного без длинной белоснежной бороды и красной бархатной шубы, но не утратившего от такого лишения ни сказочного радушия, ни всегдашнего предвосхищения огромного мешка с подарками. И мешок этот не преминул появиться. Не мешок, конечно, а только лишь пакет прочного гламурного полиэтилена, но разукрашенный, как ёлка гирляндами, яркими заграничными письменами, в которых и азбука, и эстетика, и даже культура сегодняшнего миропонимания.
В мире, где носителем информации может являться всё что угодно, сама информация приобретает особое значение и вес. Более того, она вдруг обретает неслыханный приоритет даже над самим смыслом, хранящимся в ней. Хранящимся очень глубоко, часто недосягаемо глубоко.
Но на то он и смысл, чтобы поискать-покопаться. А вот пакет оказался не столь бездонным, и скоро из его чудесной утробы на вагонный столик был извлечён вовсе не чудесный лёгкий дорожный завтрак. Лёгкий отнюдь не оттого что больше в пакете ничего нет, но потому что больше не хочется в столь ранний час. Завтрак примечательного пассажира состоял из пластиковой ванночки диетического творожка, бутылочки заморского питьевого йогурта и жёлтого спелого банана. Пассажир распределил блюда по порядку их употребления на первое, второе и десерт, разложил на столике в строгом соответствии и с подкупающей искренностью улыбкой обратился, наконец, к сидевшему напротив попутчику.
– Не желаете ли присоединиться?
Лицо8, к которому был обращён вопрос, было совсем иное, отличное от радушного путешественника и видом своим и, как угадывалось, содержанием. Несколько моложе, лет около сорока, хмурое, задумчивое, как бы отрешённое от мира, само, что называется, в себе. Оно сидело на своём диване с противоположной стороны от столика, и глаза его цепким взглядом пытались выхватить из проносящихся мимо вагонного окна сгустков тумана куски окружающей действительности. Казалось, человек этот вновь знакомится с забытым, ставшим уже чужим для него миром, тщательно и придирчиво отыскивает место в нём, примеряя к нему своё я, примиряясь с ним. Внешний вид этого пассажира, его платье – наглухо застёгнутая на все пуговицы чёрная рубашка и чёрные же брюки – рисовали его как человёка церковного, а длинные, убранные в тугую косичку волосы и густая окладистая борода только подтверждали это предположение. Лицо человека не выражало ничего – ни радости, ни огорчения,… оно было спокойным и бесстрастным, хотя назвать его каменным тоже ни в коем случае невозможно. Что-то живое и тёплое угадывалось в нём, впрочем, не явно, но сокровенно, на уровне подсознательного ощущения. Может быть виной тому глаза, единственно жившие на его лице кипучей осмысленной жизнью,… но как бы самостоятельной, отстранённой от всего существа человека. Он вовсе не ложился в эту ночь, потому как только за полчаса до пробуждения своего радушного попутчика зашёл в вагон на какой-то промежуточной станции. Стараясь не делать шума, не расстилая даже постели, он сел на диване возле окна и окунулся взглядом в кисею тумана за стеклом, утонул в нём. Казалось, он не замечал движений и действий пассажира напротив. И если бы не приятный, бархатный баритон последнего, пригласивший разделить с ним скромную трапезу, чёрный человек так, наверное, и оставался бы вне вагонной жизни вплоть до самой Москвы.
Они сошлись.
Монах – будем до поры называть нашего героя так, пока он не представился и не объявил нам своего имени – как бы очнулся, вышел из состояния созерцательной задумчивости и медленно перевёл взгляд на своего нечаянного визави. Затем на любезно предложенный ему завтрак… и вновь на попутчика. Глаза в глаза. Встретив во взгляде искреннюю, открытую улыбку и неподдельное участие, улыбнулся сам сквозь густые запущенные усы. Лицо ожило, а глаза, и без того живые, повеселели и заиграли ответным блеском.
– Благодарю вас. Я не голоден… Ангела вам за трапезой.
– Спасибо… А я позавтракаю. Многолетняя привычка, знаете ли. День не начнётся без лёгкой трапезы, и всё уже в нём будет не так и не то, – ответил радушный пассажир и приступил, наконец, к творожку.
– Простите, я разбудил вас, когда входил в купе? – забеспокоился монах. – Вы спали, а я сел в Княжпогосте9 совсем рано. Старался не шуметь, да вот… Простите ради Бога.
– Знаете, вы вовсе не разбудили меня. Я птица рассветная, просыпаюсь в это время без будильника, тоже многолетняя привычка. Так что не извиняйтесь, всё нормально.
И радушный пассажир целиком ушёл в свой завтрак, давая, может быть, понять собеседнику, что радушие радушием, разговоры разговорами, а ежедневные насущные дела, знаете ли, по распорядку, менять который он не намерен ни при каких обстоятельствах. Тот в свою очередь и не думал настаивать, он вернулся в прежнее состояние созерцательности и немого диалога с туманом за оконным стеклом, который, надо сказать, существенно поредел и продолжал интенсивно таять под всё более вступающими в свои права лучами восходящего солнца. О чём он думал в этот ранний утренний час, с чем олицетворял своё теперешнее состояние и свою будущность? С быстро тающим и обещающим в скором времени исчезнуть совсем туманом? Или с восходящим и всё более властно заявляющим о себе солнцем?
А тем временем дневное светило уже довольно высоко поднялось над горизонтом и уже не мимоходом, не осторожно, но жадно слизывало горячим языком самые плотные, самые сочные сгустки сливочного тумана. Было очевидно, что оно об эту пору испытывало наиболее сильные и неудержимые приступы утреннего сладострастия, всей своей энергией неистово поглощая, растворяя в себе ночного гостя, который лениво и вальяжно разлёгся у самой поверхности земли, предполагая видимо отлежаться тут в холодке, в стороне от кипучей земной жизни. Не получилось. Да он и не старался особо. Ему нравятся ласки солнечных язычков, возбуждающих, будоражащих, пусть растворяющих, поглощающих его в себе, но ведь в СЕБЕ же. Да и разве то грех – отдаться утреннему солнцу со всеми потрохами, позабыв о своём я, об умиротворяющем покое ночи, о тишине и недвижности? Земля, успокоенная ночным туманом и разбуженная к жизни игривым любящим солнцем, просыпалась, возрождалась из небытия, вступала в новое, никогда ещё не бывшее ранее Сегодня.
«Где ты, моё Солнышко? – прозвучало в отяжелевшем, отвыкшем от простой мирской радости сознании монаха. – Взойдёшь ли ты ещё когда на моём небосклоне?».
– Красота! – прокатилось где-то вдалеке, по ту сторону сознания, в другой, параллельной вселенной. Мягкий бархатный баритон расплылся по пространству купе, завибрировал, зазвучал, отражаясь многократно от стен вагона, и проник-таки в сознание просыпающегося чёрного человека.
– Что? Вы мне?
– Я говорю, красота-то какая! – воодушевлённо сказал, почти пропел радушный пассажир. Он уже расправился со своим нехитрым завтраком и снова пребывал в самом открытом для окружающих, самом наилучшем и притягательном расположении духа. Глаза его горели, улыбка светилась, лицо излучало столько энергии и радушия, что душа монаха вдруг улыбнулась невольно, потянулась нечаянно и робко к этому неожиданному свету, озаряясь, наполняясь его свечением, осторожно вибрируя в унисон и вбирая в себя такую новую, давно забытую, некогда похороненную навеки радость. Привыкшая за последние годы оставаться закрытой самой в себе, она вдруг ощутила наполняемость чем-то … не вполне пока понятным, может быть опасным, но чрезвычайно приятным. Вместе с тем чувствовалось, как её словно покидает что-то, уступая место новому ощущению, что-то своё, до боли родное, априори присущее. Но покидает как бы не совсем, не навсегда, а только оберегая, предостерегая от чего-то. И от этого ощущения душе стало немножко больно. Но боль эта, оттеснённая в сторону нахлынувшей радостью, потопталась ещё на месте, поныла беззвучно и отошла вовсе.
В это время поезд вырвался вдруг из плотных объятий тёмного леса на необозримый простор, ничем не ограниченный, разве что линией горизонта да склоняющегося за неё, тонущего в ней синего неба. Где-то внизу, казалось, прямо под колёсами поезда внезапно раскинулась широкая, могучая река, уносящая свои неспешные воды далеко-далеко, к точке соприкосновения с небесами и питающая, должно быть, их чистой лазоревой синью. Воздух, лишённый тумана, но ещё не прогретый насквозь, был тих и прозрачен настолько, что казался вовсе неподвижным. Всё вокруг убедительно внушало человеку мысль, что жизнь, выбранная им, как средство коротания вечности – занятие вовсе не безнадёжное.
– Нет, ну красиво-то как! До чего ж замечательно, правда!? Ведь правда же?! – восторженно пропел в третий раз радушный пассажир, и настолько восхищённо, что не согласиться с ним было ни в коем случае нельзя, даже если бы за окном простирался серый лунный пейзаж. – Как всё-таки удивительно хороша наша русская природа! До осязательности хороша! Прямо хоть бери её голыми руками в охапку и на холст, и на холст!
– Вы, однако, художник! – проговорил с неподдельным чувством монах, и не понятно было, чем он более впечатлился: действительной ли красотой русского пейзажа, или же зажигательным, просто-таки заразительным воодушевлением своего попутчика.
– Да! В душе художник! – не без гордости заявил тот, и было очевидно, что замечание монаха ему явно польстило. – А по жизни совсем нет. Даже напротив… Ммм… это так важно, найти своё,… мм… именно своё место в жизни,… мм… своё дело, которому мог бы отдавать всего себя без остатка… мм… и делать это, заметьте, с удовольствием, а не по необходимости, – он перешёл на философский тон, тщательно подбирая слова, по нескольку секунд задумываясь над ними. При этом восторг его несколько спал. – Я своё место, как мне кажется, не нашёл… К сожалению… Так часто бывает… – попутчик совсем было сник, но только на одно крохотное мгновение. Видимо, подобные мгновения были ему не свойственны. – Только не подумайте, что я какая-нибудь никчемная побрякушка. Нет. Дело, которым я занимаюсь, очень важное и полезное, … и интересное, … и доход приносит… мм… немалый, … и оно мне нравится, … мм… держит меня определённо и положительно… Это МОЁ дело! Без сомнения моё! – он снова начал увлекаться и воодушевляться, даже подался несколько вперёд, ближе к собеседнику, будто собираясь развеять все его ни вдруг возникшие сомнения раз и навсегда. … Или свои? Но почему-то передумал и, склонив голову на бок, освещая своё круглое лицо открытой, обворожительной улыбкой не только губ, но и глаз, закончил мысль доверительно. – Но всё кажется, что шагая по жизни уверенными, твёрдыми шагами, я прошёл мимо чего-то,… о котором теперь сожалею.
Вдохновенный пассажир отвернулся к окну и, не снимая с лица улыбки, погрузился взглядом в расцвеченный восходящим солнцем пейзаж. В его глазах, как бы подтверждая только что сказанное, жило своей обособленной жизнью сожаление, не затеняющее, впрочем, радушия и очарования, но изрядно добавляющее к его личности доверительности и симпатии.
Монах не встревал в монолог попутчика. Несмотря на образовавшийся интервал в разговоре, он чувствовал, почти знал, что собеседник высказал ещё не всё и что в очень скором времени продолжит. Он не ошибся. Выдержав весьма непродолжительную паузу, тот, не отрываясь от окна, действительно заговорил.
– Но я имею прямое отношение к живописи. Я собиратель. У меня есть небольшая, совсем небольшая ещё коллекция художников одной не старой, не очень пока известной, но весьма примечательной и интересной школы. Я начал собирать её несколько лет назад, сначала, как и многие, просто для оформления интерьера дома, а потом втянулся, знаете ли, даже увлёкся. И это моя вторая жизнь, в ней я преображаюсь, взлетаю, … мм… отдыхаю от первой, дополняю, … мм… даже исполняю её. Вот так бы я сказал.
– А у меня всё не так, всё наоборот, – заговорил, наконец, чёрный человек, определяя каким-то подсознательным чутьём, что пришла его очередь. – И себя я знаю, и место своё, не сомневаюсь в нём ни разу,… а только иду куда-то … мимо, будто успею ещё вернуться. Вот уж пятый десяток разменял, а всё иду,… не дойду никак. И кидает меня из стороны в сторону, увлекает, зажигает,… всё звёзды, звёзды, звёзды… яркие, горячие, манящие, одна ярче другой… А всё не те, всё не мои… И ведь знаю, что не мои, не обманываюсь на их счёт, не искушаю судьбу. Свою-то звёздочку будто про запас держу, в шкатулочке заветной, что на дубе том, где русалка на ветвях сидит10. Дескать, вот напитаюсь всяко-разным, напробуюсь, насытюсь до тошноты, тогда и к ней Любимой,… заждалась уж, небось. Только дорога к тому дубу всё больше забываться стала, зарастать тернием, нехоженая. Так и живу – путник без дороги, инок без обители, патриот без отечества. «Всю жизнь ломать одну комедь и, умирая, умереть…»…
– Как-то уж больно мудрёно, – перебил его попутчик и, казалось, совсем не заметил этого, будто имел на то своё неоспоримое право. – Я уж было составил об вас свой вердикт: ваша внешность, молчаливость, некая отрешённость. А теперь и не знаю даже, прав я был или не прав, – вдохновенный пассажир пристально всматривался теперь в чёрного человека, а в глазах его вдруг появилась лукавая хитринка. – Нет, правда, разрешите моё недоумение, если это, конечно, не секрет. Кто вы?
– Да какой там секрет? – с готовностью откликнулся монах. – Писатель.
– Писатель?! – неподдельно удивился собеседник и даже несколько отстранился от столика, будто пытался разглядеть попутчика как бы со стороны, более полно и перспективно что ли. – Вот уж не подумал бы… Даже странно… Я, знаете ли, по роду своей деятельности много работаю и общаюсь с людьми, люди мой основной рабочий … мм … материал. Так что с годами я стал весьма приличным физиономистом. Это мой конёк. Мне часто удаётся по одной внешности распознать человека, уж поверьте мне. А вы… А вас… – он даже как будто бы обиделся, заподозрив своего визави в неискренности. – В вас я совсем не увидел писателя. Они такие… Вас я принял скорее за… – неожиданно говоривший осёкся, будто налету поймал готовое сорваться с языка неосторожное слово, – … за художника, – наконец нашёлся радушный пассажир и снова заулыбался. Было видно, что он остался доволен своей находчивостью.
– Вы угадали. Я и это пробовал. И поверьте на слово, не без успеха, – согласился чёрный человек и тоже улыбнулся в ответ. – Только ведь вы не то хотели сказать, правда? Вы хотели сказать – за монаха, не так ли? И тоже попали бы в точку. Вы прекрасный физиономист, уверяю вас, – сказал он утвердительно-убеждённо. Ему почему-то хотелось поддержать собеседника, подфартить ему что ли. Но совсем не из слащавой лести, а из симпатии, по искреннему к нему расположению. И это ему, по всей видимости, удалось. – Хотя… какой из меня монах? – продолжил он после короткой паузы и опустил глаза. Какая-то неприятная мысль омрачила его улыбку и вернула в прежнее состояние задумчивости. – Очередное испытание очередного поприща. Всё только проба, всё временно, всё тленно…
– Ну, зачем же так? Может, ещё наладится… – чистосердечно попытался успокоить монаха радушный пассажир.
– Нет. Не наладится. Да и не нужно… Уже не нужно. Как раз сегодня я покинул свой монастырь. Теперь уж навсегда. Возвращаюсь домой, в Москву, в мир.
Некоторое время оба молчали. Но неловкость паузы не удовлетворяла ни одного, ни другого. Нужно было как-то сменить тему, заговорить о чём-то нейтральном, отвлечённом, более жизненном.
– Ну, раз уж мы, так стремительно опережая естественный ход событий, обменялись верительными грамотами, – нашёлся первым радушный пассажир, – то пора, наверное, и представиться друг другу, чтобы познакомиться, так сказать, вполне. Дорога предстоит ещё длинная, и она мне, не скрою, уже не кажется скучной.
Он вновь сиял самой приветливой и обворожительной улыбкой, даже чуточку привстал для официальности и протянул собеседнику ладонь для рукопожатия.
– Пётр Андреевич. Берзин.
– Аскольд, – охотно и даже с радостью согласился тот, привстав в ответ.
– А по отчеству, простите? – несколько притормозил первый.
– Да бросьте вы, я не привык как-то к отчеству, возраст ещё не тот. Просто Аскольд.
– Прошу меня извинить, но я себя тоже стариком не считаю. А на отчестве всегда настаиваю исключительно ради уважения к отцу. Я моего очень люблю и почитаю, надеюсь, и вы своего тоже. Обращением же по имени-отчеству я приношу некую дань уважения к дающим нам жизни. Вы согласны со мной?
– Аскольд Алексеевич… Богатов.
– Вот это другое дело.
И они горячо и плотно пожали друг другу руки.
Глава 2
– А не принять ли нам по рюмочке коньячку? За знакомство, – Пётр Андреевич сам обрадовался удачной идее, с шумом хлопнул ладонями и потёр их друг о друга.
Аскольд задумался на секунду.
– Простите,… я человек сугубо светский и слабо разбираюсь в монашеских правилах, – заметил его замешательство Берзин и поспешил ретироваться. – Если что, если монастырские обеты запрещают, то… я тоже не буду… искушать вас. У нас ведь пост сейчас вроде? … я слышал.
– Нет-нет, что вы, – встрепенулся Богатов, – я невольно смутил вас, простите, – он снова заулыбался и, подавшись чуть вперёд, определил руки на краю столика. Будто демонстрируя этим, что готов к трапезе. – Монашеских обетов я не давал, не успел. Я послушник,… и то бывший. К тому же пост закончился как раз сегодня. Нынче праздник. Так что… если вы не передумали, то… я с удовольствием.
Пётр Андреевич с готовностью достал свой чудесный дедморозовский пакет и извлёк из него красивую коробку дорогого французского коньяку, а также два маленьких пластиковых стаканчика, нарезанный тоненькими кружочками лимон в пластмассовом дорожном контейнере и увесистую гроздь мясистого чёрного винограда.
– Все фрукты мытые, – уведомил он, с изяществом сервируя столик, – так что не стесняйтесь.
Затем он аккуратно, чтобы не повредить коробку, открыл её, достал бережно на свет Божий тёмную бутылку причудливой формы и потряс ею в воздухе, любуясь на свет игрой шустрых пузырьков.
– Хороший коньяк. Дорогой! – как бы нечаянно заметил Берзин вслух.
– Пётр Андреевич, так может не надо, может не стоит открывать? – смутился в свою очередь Аскольд. – Вещь-то действительно ценная. Небось, для случая брали?
– Стоит, друг мой. Стоит! – уверенно ответил собеседник и самым решительным движением откупорил бутылку. – Хорошая вещь тогда только хороша, когда используется по назначению. Коньяк красив и ароматен в бокале, а вкусен на устах. В бутылке же он вовсе никакой,… что тот чай. Хотя, чаёк тоже в своём роде замечательно,… но это мы в другой раз… попозже. А сейчас…!
Пётр Андреевич ловко и артистично разлил янтарную влагу, наполнив на треть пластиковые стаканчики. По купе поплыл ровными тягучими волнами непередаваемый аромат хорошего коньяка, создавая атмосферу праздника и сближая собутыльников из случайных, посторонних друг другу попутчиков в тесную, радушную компанию сотрапезников.
– За знакомство!
Выпили по единой. Закушали сочным, изрядно сдобренным сахаром кисло-сладким лимоном. И отвалились от столика на мягкие спинки диванов, вкушая неспешное действие крепкого алкоголя. Яркое, рвущееся всеми лучами в купе скорого поезда солнце, звучащая из-за окна симфонией красок, линий и безграничностью объема прелесть природы, само бытие, диктующее упрямо неизбежность своего продолжения, – всё вибрировало в унисон желанию и даже потребности отдаться неторопливому течению жизни без сопротивления. Случается, что ощущение гармонии момента настолько овладевает всем существом человека, что, напрочь отключая разум, до предела обостряет все чувства, окуная его с головой в беспредельность, в вечность. Тогда кажется, что вот это самое мгновение и есть причина и одновременно цель жизни, которая никогда и ни за что теперь не закончится, которая и есть судьба. Так бывает в моменты влюблённости, озарения и за секунду до смерти.
– Хорошо! – объявил Пётр Андреевич.
– Хорошо… – умиротворённо согласился с ним Аскольд.
– Вы упомянули про праздник, – проговорил Берзин, как бы воскрешая что-то в сознании. – Простите Бога ради, я не слишком сведущ в церковных датах, моя жизнь определяет иные приоритеты. А что за праздник?
– День Первоверховных Апостолов Петра и Павла, – просто, без тени осуждения подсказал Богатов. – Кстати, это день вашего Ангела, вы сегодня именинник. Поздравляю. Прошу прощения, что не имею никакого подарка для вас. Так неожиданно всё… Хотя… Постойте…
Аскольд пододвинул к себе простенький чемоданчик, лежащий до сих пор на другом конце дивана, открыл, покопался несколько секунд в его содержимом и достал небольшой предмет прямоугольной формы, аккуратно завёрнутый в лоскут белой материи.
– Вот. Это как раз кстати, – проговорил он, воодушевляясь и разворачивая подарок. – Возьмите, это вам! С праздником вас и с именинами, Пётр Андреевич! От души рад, что пригодилось!
Аскольд протянул на ладони небольшой, размером с записную книжку предмет. Пётр Андреевич принял его в левую руку, свободной правой достал и надел на нос очки и стал внимательно, с неподдельным интересом разглядывать.
Это была икона. Маленький список с древнего оригинала. На иконе изображены двое мужчин в полный рост, головы их на четверть обращены друг к другу и на три четверти во фронт. В руках одного из них книга, у другого древко креста, свиток и три ключа. Над ними помещена полуфигура Иисуса Христа, благословляющего, дающего великую неземную власть.
– Это Апостолы Пётр и Павел, – пояснил Богатов. – Я списал её с Корсунской иконы середины одиннадцатого века, самого раннего из известных произведений русской станковой живописи. Не с оригинала разумеется, с репродукции. Сама икона хранится в Новгородском музее-заповеднике и происходит из Софийского собора. По преданию, её привёз из Корсуни сам великий князь Владимир Мономах, потому она и получила название «Корсунская».
– Так это вы сами писали? – искренне удивился Берзин, не отрываясь от иконки. – Здорово! Великолепно! Такой вещи у меня никогда не было. Вот спасибо! Огромное вам спасибо, Аскольд! Поистине царский подарок!
Пётр Андреевич, не на шутку изумлённый внезапно свалившимися на него и праздником, и подарком, рассыпался словами неподдельной благодарности. Очевидно, несмотря на своё увлечение коллекционированием картин, живую, рукописную икону, пусть современную, но хранящую в себе дух и силу древнего оригинала, он держал в руках действительно впервые. Да ещё подаренную ему столь неожиданно самим автором – мастером-иконописцем. Он даже достал откуда-то карманную лупу и внимательно рассматривал через неё каждый штрих, каждую чёрточку произведения, беспрерывно повторяя вслух: «Вот это да! Вот здорово! Ах, какая прелесть!». От доски ещё доносился запах свежей краски и левкаса, так что Пётр Андреевич не удержался, поднёс иконку к носу и вдохнул воздух полной грудью,… как делают обычно дети с новыми, только что подаренными им вещами.
– Свежая?! – не то спросил, не то утвердительно произнёс Берзин.
– Да. Специально к сегодняшнему празднику делал. Торопился успеть, – Аскольд не скрывал радости и удовлетворения, наблюдая со стороны за всеми движениями и лицом своего нового знакомого. Ему было приятно и по-детски восторженно от мысли, как всё иногда удачно сплетается в этом мире, – и как видите, успел…
– Ещё раз сердечно благодарю вас за подарок, – уже без пафоса, но с неподдельным радушием и искренностью произнёс коллекционер и вновь склонился над образом. – Скажите, а который из них Пётр?
– Тот, который с ключами, крестом и свитком, – Богатов через столик склонился над образом, показывая и разъясняя каноническое значение иконописной атрибутики. – Свиток олицетворяет Христово учение или Евангелие, разносимое святыми посланниками во все языци. Иногда то же значение имеет книга. Видите, Павел держит в руках именно её. Так в христианской иконографии традиционно изображаются все апостолы. Древко креста символизирует крещение и спасение от вечной смерти, а одновременно посох странника – ведь именно апостолы, бродя по миру и крестя людей во имя Отца, Сына и Святаго Духа, создавали первые христианские общины. Ключи же – характерная принадлежность конкретно Петра – означают совокупность церковных Таинств, являющихся символическими ключами от Царствия Небесного. «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»11.
– Так вот ты какой, святой апостол Пётр? – еле слышно прорвался сквозь пелену созерцательного размышления голос Петра Андреевича. А вслух он добавил, отрывая взгляд от доски. – Буду хранить эту икону не только как ваш подарок, но пуще как образ моего небесного покровителя. От всей души благодарю вас, Аскольд Алексеевич!
Берзин неумело перекрестился, поцеловал иконку и определил её на вагонную полочку у изголовья.
– Так вот он и случай! Ну, раз так, тогда нужно за праздник по маленькой! – радостно потирая руки, проговорил он и снова наполнил на треть пластмассовые стаканчики. – С праздником!
– С днём вашего Ангела вас, Пётр Андреевич! – присоединился к тосту Аскольд. – И дай вам Бог здоровья, удачи и большой-большой любви!
– Спасибо!
Тем временем поезд подъезжал к узловой станции. За окном уже появились одинокие пристанционные постройки, отдельные сцепки вагонов и даже целые грузовые составы, качающие в ненасытный центр природные богатства крайнего севера и ожидающие на запасных путях зелёного сигнала светофора. На заброшенных, поросших травой и кустарником тупиковых ветках всё чаще стали встречаться кинутые полуразрушенные локомотивы и вагоны, нашедшие тут своё последние пристанище после нелёгкого и, как оказалось, неблагодарного труда на благо старухи-родины. Лес отпрянул куда-то ближе к линии горизонта, естественной прелести природный пейзаж уступил место убогому рукотворному, которому даже яркое летнее солнце не в силах придать хоть сколько-нибудь красоты и привлекательности. Вагон, сбросив скорость до минимума, вяло и неохотно выкатился к перрону, вздрогнул всеми своими железными нервами и, вздохнув тяжко, остановился как вкопанный.
– Предлагаю выйти на воздух, – сказал Пётр Андреевич. – А то в этом купе чувствуешь себя как аквариумная рыбка в тесной литровой банке. Вы не знаете, сколько тут стоим?
– Полчаса как минимум, – ответил Аскольд. – Узел, тут «лошадь» меняют, так что подышать и размять суставы вполне успеем.
Пассажиры один за другим высыпали на полупустой перрон, впрочем, не расходясь далеко, а ожидая какой-нибудь каверзы, кучковались небольшими группками вблизи дверей своих вагонов.
– Странное ощущение, – проговорил Берзин, тревожно озираясь по сторонам и не находя за что бы зацепиться взглядом. – Будто на забытом Богом острове, покинутом даже туземцами. Мне узловые станции как-то иначе представлялись.
– Так городок-то маленький, что-то около десяти тысяч жителей, даром что узел, – ответил Богатов. – Сама станция основана в тридцать седьмом на месте лагеря, так что город стоит, можно сказать, на костях. Зэки строили эту дорогу, некоторые после срока оставались тут на поселении, работали на станции. Кому было куда ехать – уехали, а для кого мир замкнулся в этих болотах – осели, пустили корни. Человек везде выживает. Мой дед отбывал срок в этих местах, тут и жил потом на поселении, сюда привёз жену с тремя детьми мал мала меньше. Родители мои…
– О, смотрите, коммерция и тут процветает! Значит, жизнь есть даже там, где её быть не должно, – непринуждённо перебил Берзин Аскольда. – Пойдёмте, полюбуемся дарами местной природы. Может быть, купим что-нибудь экзотическое, – и он пошёл, не дожидаясь своего попутчика. Богатов отправился следом.
Слева от здания вокзала, прямо на перроне выстроился небольшой торговый ряд. Разумеется, стихийный, из местных бабушек, которым всегда есть что предложить проезжему люду, даже там, где и предлагать-то особо нечего. Когда свободная торговля единственное средство для выживания (на пенсию ведь не проживёшь), предложение всегда найдётся. А спрос, … какой особый спрос может быть у пассажиров проходящих поездов дальнего следования? Что покушать, коротая скучные дорожные часы, чем полакомиться из скупых даров экзотической северной природы, да так кой-что из сувениров местного фольклорного колорита. Тем и торгуют бабушки-старушки – и проезжим странникам хорошо, и себе ощутимая прибавка к пенсии. Круглая варёная картошечка, изрядно сдобренная сливочным маслицем и щедро окроплённая пахучей зеленью укропа, ещё горячая, сохранившая жар печи под тремя слоями вчерашней газеты и лоскутным стёганым одеялом. Маринованные грибочки – опята, грузди, лисички – так и просятся на острие вилки и быстрёхонько в рот, перебить сивушный запах злого, мутного самогона. И этот, разлитый в литровые штофы, тут же рядышком, под полой хоронится от цепкого взгляда докучливого милиционера. Да ладно б если реквизировал по совести, по акту, а то ведь отымет да сам и выдует, сволочь, а бабушку без сахарку оставит. Тут и различные соленья да выпечка домашняя прямо из печки – колобки да шаньги, пирожки да рыбники, кулебяки с кренделёчками – всё румяное, сдобное, а пахнет так, что пройти мимо ну нет никаких способностей. Особое же место в ряду по праву занимают ягоды из местных северных лесов – черника с голубикой, клюква да морошка, брусника и вороника – всё свежее, спелое, по пакетикам да кулёчкам расфасованное для удобства пассажиру. А хошь, так тебе и перетёртое с сахаром, или в виде варенья, закатанное в пузатые стеклянные банки. На все вкусы товар, что твой восточный базар. Только маленький очень.
У Петра Андреевича аж глаза разбежались, а в носу от запахов так защекотало-заёрзало, что чихай не чихай, а кошель доставай да бери-покупай. Аскольд же, пока Берзин выбирал да торговался со старушками, отошёл в сторону, в самое начало, в голову торгового ряда, где стояла коммерческая палатка, наполненная товаром вовсе не экзотическим, но повседневно-будничным, необходимым не только для проезжего люда. Его не было всего несколько минут, а когда он подошёл снова, Пётр Андреевич уже рассчитался с рыночными бабушками и с наслаждением отправлял в рот прямо из пакетика горсточки свежих лесных ягод. Аскольд тоже не остался без приобретения – он держал в левой руке небольшую прямоугольную коробочку размером чуть поменьше давешней иконки, что подарил своему попутчику. Правой свободной рукой открыл её, достал и определил в рот сигарету, затем чиркнул зажигалкой и закурил.
– Вы курите? – удивился Берзин. – А разве в монастыре можно?
– В монастыре, конечно же, нельзя. Да там и коньяк нельзя, – ответил Богатов, с наслаждением делая глубокую затяжку. – Там я, естественно, не курил, а вот как вышел, вдохнул мирского воздуха, так тут тебе и коньяк, и сигареты… Опьянел немного.
– Ты ещё скажи, что это я тебя совратил с пути истинного, – обиделся Пётр Андреевич, незаметно переходя на «ты».
– Нет, что вы, никто тут не виноват. Я сам и виноват, чай не ребёнок, понимаю, что делаю, – поспешил успокоить его Аскольд и, сделав новую затяжку, выпустил из лёгких струю табачного дыма.
– Фу, какая гадость! Дыши в сторону, – Пётр Андреевич отступил на шаг, Аскольд отвернулся. – Я вот никогда в жизни не курил. Один только раз, ещё в молодости попробовал, мне жутко не понравилось. С тех пор ни разу.
– А я с десяти лет курю, – с сожалением сказал Богатов, и было видно, что сожаление это искреннее. – Бросал сотни раз, в монастыре бросил, казалось, окончательно, четыре года в рот не брал.
– Так может не стоит и начинать снова? Зачем закурил-то?
– А … – махнул рукой Аскольд. – Падший я человек, не могу противиться страстям своим. И хотел бы, верите,… да не могу. Власть они надо мной имеют необоримую, и я поддаюсь той власти, как крыса волшебной дудочке Нильса. Видимо, нет мне спасения. И не будет прощения.
Берзин что-то отвечал, что-то ещё говорил ему на это, но Богатов не слушал. Не из пренебрежения, впрочем, его вниманием всецело завладел огромный лохматый пёс, что ковылял неспешно по перрону от одной группы пассажиров к другой. В псине этой угадывалась и порода, и стать, но только сильно запущенная, изъеденная подавляющими, определяющими всё его бытие условиями бродяжной жизни. Видимо, брошенный когда-то хозяином, он остался один на один с жестоким миром и теперь ищет в нём спасения от голода, холода, болезней, неустроенности своего бессмысленного существования. Шерсть его свалялась и спуталась в колтуны от грязи, правая передняя лапа волочилась, должно быть, пораненная или отмороженная затяжной северной зимой, морда, опущенная почти к самой земле, не смела подняться высоко и гордо, как когда-то в щенячьей юности, когда он был нужен и любим. Только глаза, взирая исподлобья снизу вверх, ещё искали у мира хоть какого-то участия, на что-то ещё надеялись. Хотя и чисто по-собачьи, наивно и безысходно, вовсе не так, как это бывает у людей. Ведь собака не человек – один в лесу ещё не волк.
Подойдя к очередной группе пассажиров, пёс останавливался, вилял мохнатым хвостом, какой-то застарелой собачьей памятью помня, что такое движение когда-то определялось человеком как радость и даже любовь. Он взирал на людей большими преданными глазами, и во взгляде этом читалось: «Смотрите, я такой, как вам нравится, каким вы хотите меня видеть. Полюбите меня и… дайте поесть». Но люди не обращали внимания на пса, они всегда были заняты своими важными разговорами, решали свои неразрешимые проблемы и брезгливо не замечали животину, нечаянно отворачиваясь. Тогда пёс опускал глаза на секунду, снова поднимал их на людей, как бы говоря про себя: «Бедные люди… у них тоже ничего нет», и плёлся дальше, к другой человеческой компании.
Вдруг на перроне появилась девочка лет пяти-шести, не из пассажиров, из местных, живущих в городке при станции. Она летела к собаке со всех ножек, крича на бегу звонким детским голосом.
– Шалик! Шалик! Ну где тебя челти носят?! Совсем ты у меня от лук отбился!
Подбежав, она упала перед псом на колени, развернула перед его мордой свёрток бурой промасленной бумаги и выложила прямо на земле поистине царский завтрак – куски чёрного хлеба, куриные косточки и даже две большие плоские котлеты. Пёс жадно набросился на еду, которая уже через мгновение исчезла в его бездонной утробе.
Девчушка, не вставая с колен, гладила пса по свалявшейся грязной шерсти, обнимала его ручонками, целовала в морду, как самое дорогое в жизни существо, и всё причитала, причитала.
– Шалик… Шалик ты мой бедненький… Солнушко моё,… кушать хочешь, совсем плоголодался… куда же ты убежал? … я ещё вчела плиготовила тебе еду… звала тебя, звала: «Шалик! Шалик!», – а ты молчишь и молчишь,… я всю ночь плакала, что ты у меня такой голодный… глупенький мой… любименький мой Шалик…
Пёс неистово бил воздух хвостом, скулил восторженно, переполняемый собачьей любовью, не раз порывался вскочить на задние лапы, но опасаясь задавить своей массой девочку, только сучил передними об асфальт платформы и всё лизал, лизал свою покровительницу горячим влажным языком.
Люди на перроне с брезгливым неудовольствием наблюдали за этой сценой и отходили прочь, подальше от девочки с собакой и поближе к дверям вагона.
– В каком же свинстве живут ещё у нас в России, – услышал Аскольд голос Петра Андреевича. – И чем дальше от Москвы, тем всё больше свинство является привычной нормой. Какая чудовищная пропасть между столицей и остальной Россией.
Тут объявили отправление поезда, и пассажиры поспешили занять свои места в вагонах, скоро позабыв о несчастной бродячей собаке, о не ведающей светской этики девочке и об их горячей взаимной любви.
Только Аскольд никак не мог оторвать внимания от счастливой пары на перроне невзрачной узловой станции. Уже в вагоне, двигаясь медленно по коридору, он всё смотрел на них сквозь грязные окна, а подойдя к своему купе, не стал входить внутрь. Так и остался стоять возле окна, наблюдая два живых существа, для которых мир вокруг в эту минуту был не более чем условностью, некой внешней обстановкой их огромного внутреннего мира, в котором эти двое каким-то причудливым образом сплелись в одно и заняли собой его полностью. Что их сблизило? Что сроднило до такой чрезвычайной степени два этих совершенно различных, не похожих друг на друга существа? И что разделяет так сугубо, до непримиримости, до враждебности, часто до кровянки такие, казалось, схожие, подобные, единообразные твари Божьи, населяющие собой наш глухой и безучастный человеческий мир? Ответ на этот вопрос искал Богатов, искал вовне, меняя обстановку, тасуя поприща, примеряя на себя то те, то другие обстоятельства жизни. И не находил. В эту минуту подсказка казалась близкой, очевидной, протяни руку и коснёшься кончиками чувствительных пальцев её тёплой бархатистой поверхности. Она притаилась где-то рядом и только ждала терпеливо своего искателя, зная наверняка, что найдёт, отыщет и тогда уж непременно исполнит себя ею.
Поезд уже тронулся, поплыл в прошлое вокзал, полупустой перрон с девочкой и псом, перелистнулась очередная страница, оставляя после себя горечь сожаления о прочитанном и сладость вдохновения от предчувствия предстоящего впереди. Пётр Андреевич, задержавшийся с проводницей за сделкой о чае, подошёл неслышно, постоял пару секунд за спиной Аскольда и, не желая отвлекать его от размышлений, открыл решительно дверь купе.
– Здра-авствуйте! – услышал Богатов за спиной. – Ба! Да у нас тут гости, а мы и не знаем!
Аскольд обернулся, будто на зов трубы. В купе, на самом краешке дивана сидела, плотно сжав колени, молодая темноволосая девушка и большими чёрными глазами испуганно, как маленькая девочка, застигнутая за шкодой, смотрела на вошедшего.
Глава 3
– И каким же это ветром вас к нам занесло? Вы сейчас только вошли? На этой станции? А мы с Аскольдом Алексеевичем уж давно едем, успели даже подружиться. Смотрите, Аскольд Алексеевич, какую попутчицу нам Бог послал! Право, только ради такого чуда стоило останавливаться в этом Богом забытом месте.
Девушка вела себя как-то неестественно, напряжённо как-то, не похоже на пассажира, только что занявшего своё законное место согласно проездному билету. Она то поднимала глаза кверху, то опускала их долу, то улыбалась нервно и натянуто, будто собираясь, но никак не решаясь попросить о чём-то, то вдруг замыкаясь в себе, отгораживаясь от всего мира прочным светонепроницаемым занавесом. Её красивые тонкие руки на плотно сжатых коленях то и дело конвульсивно теребили изрядно уже помятый, испачканный чёрной тушью носовой платок. Так ведёт себя забывшая билет студентка перед строгим профессором, или восточная невеста, впервые увидевшая жениха на роковом ложе первой брачной ночи.
– Извините… – наконец произнесла она и попыталась встать.
– Сидите, сидите! – тут же среагировал на её внезапный порыв Пётр Андреевич. Он по-отечески покровительственно положил ладони рук на её хрупкие плечи, усаживая девушку на место. – Никакого неудобства, вы мне абсолютно не мешаете, напротив, приятно посидеть на одном диване с этакой красавицей. Мы даже готовы, если хотите, уступить вам наши нижние полки, … а сами переберёмся к вам наверх? – Берзин сделал это предложение неожиданно и вполне серьёзно, причём от лица обоих попутчиков, как будто вопрос этот давно уж был решён между ними. – Выбирайте любую, хоть ту, хоть эту. Мой диван по ходу поезда – первой будете встречать все красоты окружающего мира. Хотя, должен вас предупредить, здесь дует немного … ммм … пожалуй, на диване Аскольда Алексеевича вам будет и уютнее, и покойнее, – легко и непринуждённо разрешил он все нюансы, оставалось дело за малым, за незначительным росчерком визы «Не возражаю». – Вы ведь не против, Аскольд Алексеевич?
Богатов всё время этого разговора оставался стоять в коридоре вагона, не двигаясь и, казалось, никак не реагируя на слова Берзина. Он был в эту минуту похож на изваяние, на каменного истукана, безучастного ко всему происходящему, полностью погружённого в свои сокровенные мысли. И мысли его были явно посвящены незнакомке – этой хрупкой потерянной девушке, волею судьбы помещённой в ситуацию, оказавшуюся для неё столь стеснительной, что выход из неё она усиленно искала и никак не могла найти. В глазах Аскольда явно угадывалось напряжение и даже натуга, с которой он отчаянно перетряхивал все антресоли, все самые отдалённые уголки своей захламлённой памяти, пытаясь отыскать в ней что-то, сейчас очень и очень важное для него.
– А где же ваши вещи? – вдруг спросил Пётр Андреевич, внимательно осматривая всё купе. – Что ж вы,… так… налегке? С одним носовым платочком? Непростительное легкомыслие в наше время, – попытался пошутить он, но вышло как-то не очень смешно. Зато вполне основательно, потому что слова эти окончательно смутили девушку.
– Извините. Я всё же пойду, – ещё раз повторила незнакомка, встала и направилась, было, к выходу.
– Постойте! Куда же вы?! – Богатов, не отрывая от неё глаз, решительно сделал шаг в купе и перегородил собою выход. – Вам же… совершенно некуда идти.
Она подняла взгляд на Аскольда. Глаза их встретились, и в этом немом диалоге буквально за одно мгновение промелькнула целая жизнь со всеми её радостями и печалями, невзгодами и надеждами, потерями и приобретениями. От него к ней, от неё к нему.
Этот диалог действительно продолжался не больше крохотного мгновения. Она не смогла вынести его взгляда, пронизывающего насквозь и, казалось, ощупывающего её всю изнутри, обнажающего её самые потаённые чёрточки и … любующегося ими с неожиданным восторгом. Ей не было неприятно или конфузно, напротив, она почувствовала проникновение в себя чего-то такого, всегда желанного, о чём мечталось с тех пор, как впервые осознала себя женщиной, чего так искалось и так не доставало ей все эти годы. Но в то же время именно это осекло, буквально пресекло внутренний позыв к открытости, а точнее всегдашняя привычка отторгать обманчивую привлекательность внешне яркой оболочки, за которой неизменно таится … нет, не обязательно боль, но уж непременно обыденность жизненной прозы. А уж обыденности-то ей хватало вдосталь.
Девушка смущённо опустила глаза, подняла их снова и вновь опустила, обжегшись. Она чувствовала, как тает под горячим напором его взгляда, и от этого ей было страшно стыдно, неловко, обидно за такую свою слабость, но вместе с тем легко и естественно, как птице во время полёта. И как же тут выбрать между привычным и естественным? Как же обозначить себя твёрдо и однозначно, когда так хочется мягкости и многозначительности? Как?! Как!? Невольно её взгляд уткнулся в настежь распахнутую дверь купе, отчего она вся вдруг съёжилась, напряглась, в глазах, ещё только что обещавших ожить и засветиться, вновь утвердился страх.
Не оборачиваясь, даже не отводя взгляда от неё, Аскольд решительно захлопнул за спиной дверь купе. Незнакомка, не в силах больше бороться с нахлынувшими на неё противоречивыми чувствами, вновь опустилась на край дивана и, закрыв лицо руками, заплакала.
– Что такое?! Что случилось?! Вот так оказия, – Пётр Андреевич, несколько растерявшись от такого поворота событий, не знал, что предпринять, как разрулить сложившуюся ситуацию. Он кидал испуганные вопрошающие взгляды то на девушку, то на Аскольда, то, не найдя в них разрешения вопроса, на столик, будто ожидая обнаружить на нём средство, всё объясняющее. – Может, воды? Попейте водички, сударыня… – но, не обнаружив даже воды, тут же нашёлся, – сейчас чай принесут.
В это время проводница действительно принесла два стакана чая в облупившемся золоте дюралевых подстаканников и, готовая ко всему, что может произойти в частной жизни её пассажиров в дороге, поспешно и безучастно ретировалась. Она ведь на работе, а работа ни в коем случае не должна быть подвержена влиянию личных, не имеющих никакого отношения к производственному плану переживаний.
– Успокойтесь. Не надо так…. Всё будет хорошо, – Аскольда почему-то нисколько не удивляли слёзы незнакомки, более того, ему казалось, что всё должно быть именно так, непременно так. Хотя, что должно быть? и почему непременно так? он не мог себе объяснить. Всё шло, как идёт, и этого объяснения на тот момент ему было достаточно.
Он только еле коснулся плеча девушки, но та вдруг перестала плакать, отняла ладони от лица и подняла на него большие чёрные глаза. Богатов инстинктивно одёрнул руку.
– Выпейте чаю, – предложил он после короткой паузы, беря со стола подстаканник и протягивая его незнакомке. – И поверьте, теперь всё будет хорошо.
– Спасибо, – поблагодарила девушка и жадно отпила большой глоток, будто именно в нём и заключалось то самое, так щедро, так искренне обещанное ей «хорошо».
Аскольд со стороны внимательно и пристально рассматривал её. Она уже не казалась столь молодой и столь юной, как увиделось вначале. Морщинки вокруг глаз, а также редкие седые волоски в богатой вороной шевелюре говорили о прожитых годах – что-то около сорока. Но хрупкость и гибкость стана, тонкие, правильного сочетания черты лица, а особенно большие, одухотворённые, полные детской наивности и доверчивости глаза перекрывали все «достижения» возраста и делали её красоту поистине неувядаемой, царской.
Есть женщины, которые не стареют. Которые, как хорошее вино, с годами становятся всё более пьянящими, всё более волнующими сердце и будоражащими кровь, от которых никогда не ожидаешь похмелья, а только неспешное течение послушной мысли при чрезвычайной ясности и прозрачности ума. Эта была из таковых. Богатов невольно залюбовался ею, как полотном великого мастера, в котором и красота, и трогательная нежность и неразрешимая загадка призрачной улыбки, отгадать которую не под силу этому миру, как ни старайся. И действительно, когда незнакомка поднимала вдруг глаза и встречалась взглядом с Аскольдом, она улыбалась именно такой волшебной улыбкой – благодарной, ничего не обещающей взамен, но столь чистой и бесхитростной, что всё обещалось само собой.
– Спасибо вам, – сказала она, допив чай почти до конца и возвращая стакан, – вы правда мне здорово помогли.
Богатов потянулся за стаканом и невольно поймал её руку. А может, это было не так уж и невольно, возможно само провидение приблизило их друг к другу и подарило точку касания, столь наивную и безвинную, что подозревать в чём-то кого-нибудь из них стало бы верхом глупости. Но на то она и глупость, чтобы суметь оказаться в самый ненужный момент в самом ненужном месте.
Дверь в купе с шумом распахнулась настежь, и на пороге появился совершенно незнакомый мужчина, явно не по возрасту седой и с гневным, горящим взором. Седина в сочетании со строгими, правильными чертами придавала его лицу чрезвычайный шарм и красоту, а гневный, острый как разящий меч взгляд делал эту красоту поистине демонической. Незнакомка импульсивно отдёрнула руку, стакан упал, разливая по полу остатки недопитого чая. В воздухе повисла тревожная тишина, даже Пётр Андреевич, всегда знающий, что и как сказать, на этот раз молчал. Незваный гость медленно и строго оглядел всех присутствующих и остановил взгляд на девушке. При этом глаза его выражали неописуемый гнев и даже ярость, граничащую с безумием.
– Пойдём, Белла. Хватит, нагулялась уже, – сказал мужчина на удивление спокойно и даже холодно, но было очевидно, что удалось ему это с трудом.
Он взял женщину за руку, властно, хотя и не грубо поднял её с дивана и вывел из купе, как выводят породистую кобылицу из загона.
Через мгновение он вернулся.
– Извините, – произнёс так же холодно на прощание и захлопнул дверь.
Поезд нёсся как угорелый сквозь непроходимый чёрный лес, неистово стуча колёсами и завывая могучей тревожной сиреной на редких крохотных полустанках. Солнце уже довольно высоко поднялось по небесной лестнице наверх и должно было особенно рьяно печь, испепеляя всё вокруг. Однако небольшая, одинокая, но чрезвычайно плотная тучка выплыла откуда-то и загородила собой его сияющий диск, отчего лес справа и слева от вагона стал ещё чернее, ещё непрогляднее. И ладно бы дождик, в такую сушь земля особенно нуждается во влаге, но у тучки на этот счёт были, видимо, свои мнения и планы. Она просто вынырнула из небытия и взгромоздилась тут посреди небосвода для всеобщего осмотрения, заслонив собой солнце. Ни дождя, ни света, кругом только чёрный, казавшийся мёртвым лес.
Проводница уже подняла и унесла опрокинутый стакан, вытерла с пола пролитый чай и оставила двух попутчиков вновь наедине друг с другом да с их разговорами и мыслями. Только разговор, прерванный столь внезапно и неприятно, никак не возобновлялся, не клеился, будто в купе было вовсе не двое, а как бы один и ещё один,… каждый сам по себе, без обоюдоувлекательной беседы, всяк со своими индивидуальными думами. Но если такое положение вполне способно удовлетворить монаха, порой даже писателя, то человека светского, открытого, привыкшего находиться в центре внимания, оно никоим образом не удовлетворяло.
– А вы, я вижу, в монастыре своём не только по коньяку да сигаретам соскучились, – нашёлся вдруг Пётр Андреевич как прервать паузу. Слова эти прозвучали вовсе не как устыжение, но напротив, как приглашение к развитию привлекательной, пикантной темы. О чём же ещё говорить под мелодичное постукивание вагонных колёс двум интеллигентным господам,… как не о дамах?
– Эх, давайте ваш коньяк! Гулять, так гулять! – ожил Аскольд.
Берзину, по всей видимости, не очень понравилась идея погулять с его коньяком, но увидав, как вновь засветились, заиграли, глаза попутчика, перечить не стал. Наверное, перспектива провести остаток пути в одном купе с преисполненной своих тяжких думок мумией ему глянулась ещё меньше. Он снова достал убранную уже бутылку и разлил по стаканчикам свежие порции.
– Ну, за баб-с! – лихо, по-гусарски поднял свою Пётр Андреевич.
– Нет. За баб стоя пьют, – слегка улыбнувшись, принял шутку Аскольд и добавил тихо, – а мы так, без излишней шумихи. За женщин!
Выпили. Закусили лимончиком.
– Понравилась? – спросил Берзин, тщательно облизывая сладкие от засахаренного лимона пальцы.
– Очень… – не задумываясь, ответил Богатов.
Он был как бы не в себе, будто преисполненный энергией для немедленного решительного действия, не терпящего отлагательства. Но сила эта бурлила, играла, копилась у него внутри, в то время как внешняя оболочка, будто облитая толстым слоем застывшего воска, оставалась незыблемой, сдержанно спокойной.
– Значит, вот этакая красота тебя привлекает?
– Да… – Аскольд отвёл глаза в сторону, сосредоточив взгляд на некой невидимой точке, как бы всматриваясь внутрь себя, в самую глубь,… но уже через секунду вернулся к Берзину, – … такая.
– Художественная красота? – уточнил Пётр Андреевич и, не дожидаясь ответа, продолжил. – Да. Хороша штучка. Очень хороша. Но … если так можно выразиться … не совсем в моём вкусе. Я люблю этаких, знаете,… с горчинкой,… с лёгким таким изъянчиком,… чтобы было, за что уцепиться глазу. А с этими прынцессами одна морока – то капризы, то слёзы ни с того, ни с сего, то … ищи её вон по всему поезду. Ай… – махнул он рукой, – сплошные семейные неурядицы и нервотрёпка.
– Она не такая, – тихо, но твёрдо сказал Богатов, будто речь шла о его давней хорошей знакомой. Было заметно, что разговор этот ему неприятен.
– Эх, друг мой, да откуда ты знаешь, какая она? Такая, не такая…
– Знаю, – отрезал Аскольд и так посмотрел прямо в глаза Петру Андреевичу, что тот осёкся, определив про себя недвусмысленно: «Знает».
Разговор снова прервался, едва начавшись. В воздухе всё ещё витало напряжение, оставленное седым незваным гостем. Он сумел, появившись всего на несколько секунд, внести полный разлад в так удачно зарождающуюся идиллию кратковременной, ни к чему не обязывающей дорожной дружбы. И ведь чем более она ни к чему не обязывающая, тем более как бы дружба. Но это в идеале, а в жизни за всё нужно платить, точнее сказать, подпитывать. Поэтому Пётр Андреевич, уже без стороннего предложения сам взял в руку бутылку и снова наполнил на треть стаканчики живой, веселящей сердце влагой.
Выпили молча. Нужно было что-то предпринять, найти какой-то переходный момент, «момент истины», протянуть некую связующую нить для склеивания расстроившейся внезапно компании. Хорошо, когда кто-то из собеседников имеет способность находить такую нить, это своего рода талант, воистину находка для любого общества, даже самого необязательного, краткосрочного.
– Эх… – шумно вздохнул Берзин и начал свой монолог. – Был у меня один приятель,… хороший приятель, близкий, почти что друг. Он и сейчас ещё есть да вполне себе здравствует, дай Бог прожить ему ещё долго и счастливо. Мужчина он, надо сказать, серьёзный, положительный, при хорошем деле и на приличной должности. Так что со стороны может показаться – живёт себе человек, словно в масле сыр катается. И угораздило же этого моего приятеля влюбиться. Да не просто так, а всерьёз, что называется, до выворота души на изнанку. Не лишним будет обозначить, что у него семья, замечательная жена, дети хоть и не маленькие уже, но … но всё ж таки дети. Видит он, что дело швах – чем дальше, тем больше отдаляется он от семьи и прилепляется к этой своей возлюбленной. И у той семья замечательная – муж хороший человек, сын. Вот встретились они как-то, бутылку вина дорогого взяли и стали говорить этот давно назревший разговор. Ни тот, ни другая семьи свои рушить не хотят, это святое, а и друг без друга им никак невозможно, так уже прилепились-приклеились, что не отодрать без крови. Погоревали они так, поплакали дружка дружке в плечо, а делать нечего, чем дальше, тем больнее рвать по живому. А рвать-таки придётся, ничего не попишешь. Это всё мне приятель мой сам потом рассказывал за рюмкой коньяку,… вот как я вам сейчас тут. Да-а… Так и порешили, что была у них это последняя, прощальная встреча, их лебединая песня. Пропели они её с невиданной страстью и вдохновением да разошлись навсегда. Приходит он домой, думает: «Слава Богу, что жене ничего не успел сказать, не наломал дров. Если б она узнала про такое, то ни секунды не осталась бы со мной. Это уж я точно знаю». Стоит он так в прихожей, спиной дверь подпирает, а на душе хреново, в глазах слёзы горючие, в горле комок огромадный, размером с земной шар, не проглотить его, не выплюнуть. Тут жена из комнаты вышла, подходит к нему, кладёт свою тёплую мягкую руку ему на плечо и говорит так тихо, с сочувствием: «Ну что, милый, тяжело расставаться с любовью? Вот и мне тяжело. Раздевайся, будем ужинать». Смахнул он слезу украдкой, сглотнул комок и стал жить дальше. Так и живёт по сей день. С женой.
Пётр Андреевич закончил свой рассказ и отвернулся к окну. Пока он говорил, тучка ни то рассосалась, ни то улетела куда-то, ни то пролилась тёплым дождиком на неведомые земли. Солнце снова единолично царствовало на небосводе и расцвечивало природу множеством ярких и сочных красок. Жизнь за окном вагона снова налаживалась, настраивалась на нужный лад и беседа наших попутчиков.
– Моя жена тоже замечательная женщина, мой единственный друг на всей земле, – с чувством проговорил Аскольд, и глаза его в этот момент светились искренней благодарностью.
– Жена?! Какая жена? Ты женат?! – неподдельно удивился Берзин. – Как же так? Монахам разве разрешается жениться?
– А я и не спрашивал ни у кого разрешения, – спокойно, глядя прямо в глаза Петру Андреевичу, сказал Богатов. – Я попросту взял и украл её.
Глава 4
– Украл?! Как это украл? Как в кино что ли? – засмеялся Пётр Андреевич. – «Будешь жарить шашлык из этот невеста, не забудь пирегласить…»12
– Вы напрасно смеётесь, – совсем без обиды улыбнулся Аскольд, – я ведь взаправду украл.
– Да ну…? – всё ещё не верил Берзин, и хотя уста его продолжали улыбаться, глаза уже выражали неподдельный, живой интерес. – Ты это серьёзно?! Вот так взял и украл?! Занимательно!
– Именно вот так взял и украл. В новогоднюю ночь напоил её гражданского мужа, уложил его баиньки, а её в такси и домой. Так что никакого шашлыка вам не видать.
– Что ж она, тоже пьяная была, ничего не соображала? – продолжал сомневаться Пётр Андреевич.
– Нет, что вы. Она как бы на распутье была. Мы на тот момент уже около года дружили, я ухаживал за ней, невзирая на мужа,… предупредил ведь даже, что украду. Они посмеялись тогда, сочли за шутку. А я ведь не шутил. Мне думается, что она даже ждала чего-то такого, то есть заранее смирилась и выжидала только, кто из нас активнее будет и красивее её добьётся.
– А он что, муж её гражданский, так и уступил? – всё более втягивался в интригу Берзин.
– Нет, конечно. Когда проснулся и не увидел никого в квартире, всё понял. Стал звонить, ругаться, требовать,… потом просить. Через несколько дней приехал сам в галстуке, с цветами и бутылкой дорогого вина. «Я, – говорит, – за Нюрой. Она моя жена и мы скоро распишемся. Ты, – говорит, – не имеешь права её удерживать».
– Ну а ты что? – не унимался Пётр Андреевич, предчувствуя, наверное, романтический трагичный финал с дуэлью.
– Ничего такого, что вы ожидаете, ни разборок, ни драки с поножовщиной, ни проклятий до седьмого колена. Всё спокойно и прозаично. «А я и не удерживаю, – отвечаю, – она не вещь какая-нибудь, чтобы её удерживать насильно. Нюра взрослая, самостоятельная личность, вот пусть сейчас перед нами обоими сама и решает, с кем ей оставаться».
– И что…?
– Уехала…






