Россия и мусульманский мир № 10 / 2011 Сченснович Валентина
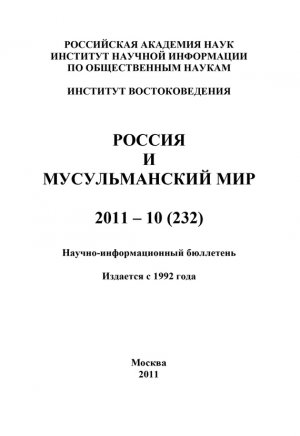
РОССИЯ В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Дмитрий Ефременко, доктор политических наук (ИНИОН РАН)
Второе десятилетие XXI в. началось в мировой политике с трагедии маленького человека в провинциальном тунисском городке Сиди-Бузид – самосожжения молодого торговца, который не вынес оскорбления, нанесенного ему местной чиновницей. В других обстоятельствах это событие, вероятно, осталось бы лишь темой пересудов в лавках и кафе тамошней медины, но на сей раз оно в считанные недели превратилось в ураган, охвативший весь Арабский Восток. И хотя предпосылки обрушения режимов Бен Али и Мубарака, гражданской войны и операции международных коалиционных сил в Ливии являются системными, именно крошечный камешек столкнул лавину фундаментальных изменений в одном из ключевых регионов планеты.
Революционные потрясения в странах Арабского Востока уже стали предметом политического анализа, причем сторонники тех или иных подходов спешат увидеть в этих событиях подтверждение своих идей либо повод для их корректировки. Очень многое определяется тем, как описывать международную ситуацию в целом – как процесс нелинейный, многовариантный и не имеющий заранее предрешенного результата в духе «конца истории» Ф. Фукуямы, либо как общее следование за цивилизационным авангардом, который, разумеется, знает, куда идет. Происходящее уместнее описывать в терминах не «волн демократизации», а политической турбулентности. Малые события порождают цепную реакцию массового, низового протеста, за которым организованные политические силы – от партий и движений в самих арабских странах до зарубежных государств, международных организаций и военно-политических блоков – вынуждены следовать, пытаясь направить его в нужное русло. И с куда большим основанием нынешние катаклизмы могут быть интерпретированы как предвестники вступления мирового сообщества в область неизведанного, где его, возможно, ожидает еще более сильная встряска.
Наиболее значительный вклад в разработку идеи турбулентности в мировой политике внес Д. Розенау. Свою основную работу по этой теме он опубликовал в самом начале событий, обваливших Берлинскую стену, а вскоре – и Советский Союз. Идя по пути радикализации теорий взаимозависимости, Розенау писал о вступлении мира в эру «постмеждународной» политики, когда глобальные политические процессы начинают определяться разнонаправленными действиями немыслимого прежде множества коллективных акторов, руководствующихся разными целями и использующих для их достижения новейшие технические возможности. Результатом становится длительная хаотизация международных процессов, сохраняющаяся и даже нарастающая в условиях, когда продолжают функционировать стабильные структуры политического управления. При этом турбулентность превращается в неотъемлемый атрибут мировой динамики, указывающий не только на потрясения, сопровождающие те или иные «штатные» сдвиги в основных переменных составляющих локальных или глобальных процессов, но и на изменения, опрокидывающие все устоявшиеся правила, модели и закономерности.
С тех пор прошло два десятилетия. Тем не менее мир явно остается во власти все того же потока, мощь и продолжительность которого заставляют задуматься о фундаментальном характере глобальных изменений. За эти 20 лет были периоды относительного затишья, но их мимолетность показывала, что источники турбулентности не только не иссякают (как ожидали многие после окончания «холодной войны»), а множатся, возникая порой и там, где никто не ждал их появления.
Похоже, что сегодня мы имеем дело с новым качеством турбулентности, обусловленным двумя взаимосвязанными процессами. Один из них – глобализация. Другой – поствестернизация – еще только утверждается в мировом социально-научном дискурсе. Его не надо смешивать с девестернизацией. Речь идет о том, что, опираясь на полутысячелетний опыт доминирования Запада, учитывая и перерабатывая его, мировая цивилизация будет далее развиваться совсем не как глобальный Запад. Причем конкретные параметры новой фазы цивилизационного развития еще до конца не ясны, а то, что мы наблюдаем сейчас, – это длительный и турбулентный переход, «междуцарствие модерна», тревожное преддверие новой эры.
Основные характеристики турбулентности XXI в. (начавшегося, впрочем, в 1991 г., по истечении «короткого двадцатого века», по выражению Э. Хобсбаума) связаны не только с завершением эпохи доминирования Запада, но и с глобальностью мировых процессов. Речь теперь идет не просто об усиливающейся тенденции к взаимозависимости и транснационализации, но о таком качественном состоянии, когда мир-система, обретя единство, оказалась закрытой, замкнутой, не имеющей внешней периферии. Новое качество состоит в том, что турбулентность происходит в системе, лишенной возможностей внешней экспансии и, следовательно, снижения внутреннего давления.
Разумеется, внутри замкнутой глобальной системы сохранилось еще довольно много внутренних переборок и перегородок, остаточных рудиментов разделенного на части мира, в котором при необходимости всегда можно было найти новые пространства для хозяйственного освоения, оттока «избыточного» населения или хотя бы для загрязнения отходами индустриальной деятельности. Сохранение подобных рудиментов суверенитета и партикулярности само по себе создает перепады внутреннего давления и, следовательно, турбулентные потоки. И здесь уже многое зависит от того, насколько устойчивы эти унаследованные от Вестфальской эпохи перегородки: или это всего лишь бесполезные руины, или же старомодные, но еще относительно надежные укрепления, способные служить защитой от вихревых потоков средней мощности. Во всяком случае, в поисках причин современной турбулентности следует очень серьезно отнестись к асимметрии суверенитетов в системе международных отношений и увеличивающемуся разнообразию существующих типов государственности.
Экономические факторы, как и в прежние эпохи, играют определяющую роль в обеспечении стабильности или дестабилизации социальных систем и политических режимов. Однако в «замкнутом» мире движение потоков капитала менее чем когда-либо соответствует идеальным представлениям о «естественном регуляторе» экономических процессов. Напротив, мгновенные перетоки капитала, нередко обусловленные спекулятивной игрой или конъюнктурными обстоятельствами, в считанные дни могут поставить процветавшие нации на грань экономического коллапса и социального взрыва. При этом сокращающиеся возможности пространственной экспансии капитала, прежде всего финансового, компенсируются лихорадочным стремлением к экспансии во времени, т.е. к различным формам «жизни взаймы», «надуванию пузырей» во всех областях экономики и финансов, где это только возможно – от сырья и недвижимости до сектора высоких технологий. На протяжении первого десятилетия XXI в. большинство из этих пузырей последовательно лопались. И сегодня последним рубежом экспансии капитала во времени становится надувание пузыря государственного долга. В случае США – крупнейшей в мире экономики и страны – эмитента мировой валюты – оно чревато глобальным коллапсом, размеры которого могут значительно превзойти масштабы кризиса 2008–2009 гг. Но турбулентности способны провоцировать и меры экономического оздоровления, которые будут означать значительное сокращение расходов в государственном и частном секторах Соединенных Штатов, что приведет к схлопыванию потребительского спроса в глобальном масштабе и сделает реальной угрозу новой рецессии мировой экономики.
Турбулентность в международной политике в настоящее время как никогда прежде связана и с тем, что можно назвать турбулентностью естественной, – возрастающей уязвимостью социотехнических систем перед природными катаклизмами, часть из которых, по всей видимости, обусловлена антропогенным воздействием на климат планеты и критически важные для равновесия глобальной окружающей среды экосистемы. Множатся свидетельства того, что через природные аномалии и катастрофы биосфера все чаще предопределяет поведение человека и социальных общностей. К числу прямых следствий этих процессов относятся повсеместное обострение проблемы продовольственной безопасности, растущее неравноправие в доступе к пресной воде, все менее контролируемые миграционные потоки и появление очагов социальной нестабильности даже в прежде «благополучных» обществах. Однако и в тех случаях, когда положительная обратная связь между масштабом природных катастроф и антропогенным воздействием отсутствует, можно все чаще наблюдать феномен, когда природная катастрофа с большим количеством разрушений и человеческих жертв в одной из частей планеты порождает комплексные и долгосрочные последствия. Один из последних трагических примеров – землетрясение и цунами в Японии, спровоцировавшие самую серьезную после Чернобыля аварию на объекте атомной энергетики. Это событие будет иметь долгосрочные последствия для мировой энергетической политики, по сути дела, еще более сужая и без того ограниченный набор возможностей в решении энергетических проблем человечества.
На этом фоне положение России противоречиво, поскольку она уже значительно интегрирована в глобальные процессы, но вовлеченность не является тотальной, и часть потоков мировой турбулентности обходит нас стороной. Разумеется, не все. Расчеты российских соправителей на особое положение «тихой гавани» были, как известно, с легкостью опрокинуты кризисным штормом 2008 г. Но все же с потоками менее сильными пока вполне успешно справляются старомодные бастионы суверенного государства, а некоторые из более сильных ветров затрагивают нас, скорее, по касательной.
После распада СССР нынешнее поколение россиян чуть раньше других народов ведущих стран успело накопить свой собственный опыт выживания в эру «великих потрясений», и адаптивные способности в этом отношении у нас развиты лучше. Более того, во многом благодаря достаточно высокой степени внешнеполитической маневренности России в хаотизирующемся мире удалось достичь по-своему уникального состояния, когда отношения с большинством стран являются хорошими или удовлетворительными. Даже в экономическом отношении ниша крупнейшего поставщика энергоносителей оказалась более надежной, чем почетные позиции флагмана экономики знаний. Вероятнее всего, это состояние ситуативно, преходяще, оно подобно штилю внутри «глаза тайфуна». Но пока России удается умещаться внутри этой зоны – нам в самом деле, как заметил недавно С. Караганов, «везет». Вопрос, однако, состоит в том, как долго Россия сможет оставаться в достаточно выигрышном положении при продолжающемся усилении турбулентности.
Здесь есть по меньшей мере две составляющие.
Во-первых, способность и далее умело вести лайнер российской внешней политики через зону турбулентности, опираясь на представления о мире, адекватные современным глобальным процессам.
Во-вторых, и это главное, – не допустить того, чтобы Россия сама превратилась в новый мощный источник мировой дестабилизации. Именно последнее обстоятельство является определяющим в дискуссии о возможной эволюции российской внешней политики после думских выборов 2011 г. и президентских выборов 2012 г.
В первые три года существования путинско-медведевского дуумвирата внешняя политика в основном оставалась вне сферы реальных или мнимых противоречий между соправителями. Мюнхенская программа-минимум – длительная приостановка продвижения НАТО на постсоветском пространстве – была выполнена еще в 2008 г. Вслед за этим при сохранении прежних ориентиров Москве было необходимо продемонстрировать снижение накала полемики, готовность к диалогу и выстраиванию партнерских отношений с Западом в контексте совместных усилий по преодолению последствий глобального экономического кризиса. Президент Дмитрий Медведев эффективно решал эти задачи, которые, несомненно, были частью совместной стратегии дуумвиров.
На этом фоне неожиданностью стал всплеск заочной полемики между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым по поводу резолюции ООН № 1973, открывшей путь военной операции против режима Каддафи. Любопытно, что полемика вспыхнула уже после того, как Кремль принял решение (скорее все-таки принципиально согласованное) не накладывать вето на эту резолюцию. Причем это явно было решение, основанное на расчете выгод и издержек ситуации, когда Москва не препятствует Западу втянуться в очередную войну в исламском мире. Разница, очевидно, заключалась в том, что Путин сразу после начала авиаударов по ливийским военным объектам не чувствовал себя связанным какими-либо обязательствами перед новой коалицией и использовал стандартный оборот антизападной риторики, тогда как Медведев выступил с оправданием если не действий Запада, то, во всяком случае, принятой резолюции.
В потоке суждений и комментариев экспертов, стремившихся в очередной раз увидеть признаки бесповоротного раскола тандема, мало кто обратил внимание, что президент России аргументировал свою позицию с использованием терминологии гуманитарного интервенционизма. Ранее подобная линия аргументаций использовалась во время пятидневной войны в августе 2008 г. Но в целом идеи гуманитарного интервенционизма явно не относились к числу популярных в России внешнеполитических дискурсов. И прежде чем задаться вопросом о его перспективах, стоит подумать о том, почему, кроме политического реализма, у нас явно отсутствуют устойчивые течения или школы внешнеполитической мысли, сопоставимые с либеральным вильсонианством или популистским джексонианством в США? Нельзя ведь сказать, что подобные идеи у нас вовсе не звучат. Напротив, российское экспертное сообщество вполне в состоянии предлагать эти идеи a la carte, или по крайней мере транслировать их от внешних источников генерации. Однако помимо предложения необходим спрос.
Но каковы же источники и механизмы формирования такого спроса? Те или иные направления внешнеполитической мысли будут устойчивыми, только если они связаны со стабильными и влиятельными группами интересов, а сами эти интересы выражены в соответствующих идеологемах. Понятно, что из-за разрывов исторической преемственности в XX в. у нас нет прямых соответствий течениям масштаба джексонианства или вильсонианства. Могли бы они появиться, если бы не эти разрывы? Несомненно, да. Ведь уже в установочном для русского консерватизма тексте – карамзинской «Записке о древней и новой России» – историософская аргументация в пользу самодержавной «вертикали власти» спроецирована на вполне конкретные обстоятельства европейской политики после Тильзитского мира. Но если идеи Карамзина относительно природы российской власти отчасти применимы и к внутриполитической ситуации в начале XXI в., то его оценки турбулентной эпохи Французской революции и Наполеоновских войн будут поучительными для тех кто пытается сориентироваться в бурлящем мире поствестернизации.
Сложнее будет с «опрокидыванием» в современность внешнеполитических идей дореволюционных либералов. Скорее, случайностью выглядит аналогия между империалистическими устремлениями кадетского лидера П. Милюкова и чубайсовской идеей «либеральной империи», которая в свое время вызвала непродолжительную оживленную полемику, но серьезного концептуального развития так и не получила.
Устойчивость и востребованность внешнеполитических идей напрямую определяются интересами влиятельных сил и артикуляцией этих интересов в публичном пространстве. В постсоветскую эпоху появились принципиально новые группы интересов, которые на протяжении 1990-х годов вполне успешно осваивали публичное пространство. Воссоздание вертикали власти не означало устранения групп интересов – напротив, происходила их дальнейшая консолидация. Однако формы артикуляции и механизмы согласования различных интересов и разрешения конфликтов существенно изменились, будучи в период путинского президентства тесно привязанными к власти. Пожалуй, наилучшим образом специфику этой ситуации описывает предложенная Ю. Пивоваровым метафора «властной плазмы», способной объединять даже несовместимые друг с другом кластеры российской элиты на основе специфического регулирования отношений «власть–собственность. Именно в этой аморфной субстанции разрешаются и возникают вновь конфликты между основными группами интересов. «Властная плазма» служит питательной средой для дальнейшего структурирования и дифференциации групп интересов, часть из которых имеет уже вполне определенные геоэкономические и геополитические предпочтения (постсоветское пространство, Европейский союз, США, Китай и страны АТР). Впрочем, эти предпочтения артикулированы пока довольно невнятно.
Политические дискуссии предвыборного года, распространившиеся и на сферу российской внешней политики, свидетельствуют о том что «властная плазма» как механизм политико-экономического управления, «разруливания» конфликтов перестает устраивать многие влиятельные силы, равно как и массовые группы, на которые эти силы хотели бы или могли бы опереться. Сама ситуация реконфигурации власти и начала первого «длинного» (шестилетнего) президентства означает не только завершение промежуточного периода тандемократии, но и возможность эмансипации основных групп интересов. Если «после дуумвирата» они заявят о себе, перейдя из состояния «властной плазмы» к полноценному существованию в публичном политическом пространстве, то, по всей вероятности, будет запущен и процесс формирования устойчивых внешнеполитических доктрин. Доктрин, опирающихся не на предпочтения отдельных экспертов, а на формируемый стабильными структурами, укорененными в российском обществе.
Основой процесса являются как общие макросоциальные изменения, связанные с укреплением российского среднего класса и формированием его идентичности, так и с дальнейшей трансформацией структуры элитарных групп. По всей видимости, в ближайшие годы средний класс, как и другие крупные социальные группы, еще не будет в состоянии сформировать четкий запрос на то или иное направление внешней политики. Скорее, запрос останется размытым и внутренне противоречивым, в чем-то отдаленно напоминающим весьма эклектичные внешнеполитические устремления тех широких слоев американского общества, на которые опираются сегодня оппоненты президента Обамы, в том числе пассионарии из «партии чаепития». В Америке, однако, элитарные группы способны артикулировать запросы широких слоев, сопрягать их с интересами бизнеса, военно-промышленного комплекса, различных меньшинств и т.д. Группы российской элиты, погруженные во «властную плазму», варятся в собственном соку, не испытывая (до последнего времени) сильной потребности во взаимодействии с массовыми группами. В конечном счете речь идет о качестве нынешней российской элиты, о степени ее укорененности в современном обществе и об осознании ответственности перед этим обществом.
Российский городской средний класс, или «новые сердитые», как метко назвал его представителей А. Дадаев, информационно и технологически уже вполне интегрирован в глобализированный мир, но это не значит, что при жестком критицизме в отношении собственной власти и элиты он заведомо будет генерировать прозападный и промодернизационный запросы. Скорее это будет установка на то, чтобы отношения России с внешним миром начали реально работать на его, среднего класса, интересы. Но представители критически настроенного среднего класса в числе первых откажутся поддержать политику, которая при всех декларациях открытости Западу и стремления к модернизации будет реально работать лишь в интересах нескольких элитарных групп.
Не исключено, что в среднесрочной перспективе появятся основания говорить о формировании широких коалиций в поддержку стабильности или обновления, коалиций, отражающих и массовые запросы, и интересы тех или иных групп элиты. Формирование таких коалиций могло бы стать основой трансформации социально-политического порядка, преодоления нынешней модели «властной плазмы». Одним из множественных последствий появления таких коалиций, по всей видимости, станет и «укоренение» в российском публичном пространстве различных школ внешнеполитической мысли. Вопрос состоит в том, будут ли эти изменения ускорены электоральными кампаниями 2011–2012 гг. или же окажутся сопряжены с другими, возможно, тревожными событиями эпохи «после дуумвирата».
От того, какой будет новая конфигурация власти после выборов в 2011 и 2012 гг., зависит не столько радикальное изменение российского внешнеполитического курса (довольно маловероятное), сколько то, станет ли Россия новым источником глобальной турбулентности. И здесь обнаруживается, что менее важен результат, конкретная персона на вершине властного Олимпа, нежели сам процесс выборов, их способность (или неспособность) обеспечить легитимность следующего президентства. Потребность в новой полноценной легитимности вызвана уже тем, что модель «властной плазмы» утрачивает эффективность, переставая отвечать нуждам ряда влиятельных групп и массовым социальным запросам.
Следует подчеркнуть, что это должна быть легитимность в глазах граждан России (критерии ОБСЕ или других наднациональных институций, дающих оценки электоральным процедурам, являются в данном случае не более чем субсидиарными). А она не сводится лишь к чистоте процедуры выборов, но складывается также из соответствия политики избранного президента массовым ожиданиям. В этом смысле легитимность президентства Б. Ельцина обеспечивалась не только победой в реальной конкурентной борьбе на выборах 12 июня 1991 г., но прежде всего огромным потенциалом надежд, которые возлагали на него самые разные слои населения. Выборы 1996 г. едва ли укрепили эту легитимность, но изначального запаса надежд хватило на все 1990-е годы. В случае Путина наибольшую роль в легитимации власти сыграли не конкурентные выборы, но соответствие изменившемуся социальному запросу. Легитимность дуумвирата Путин–Медведев была инерционной, продолжающей легитимность путинского президентства.
Основная проблема нынешних выборов состоит именно в необходимости получения новой легитимности, и сейчас все большее количество представителей самых разных политических взглядов сходятся в том, что наилучшим инструментом решения этой задачи могут быть выборы, выигранные в реальной конкурентной борьбе. В нынешних условиях одержать победу с использованием административного ресурса способен любой располагающий им кандидат. Но такая победа практически не создаст новому президенту легитимности. На эксплуатацию остатков прежнего доверия мог бы в лучшем случае рассчитывать Владимир Путин, опираясь на патерналистски ориентированный электорат, но предложив ему некий новый социальный контракт в духе обновленного политического консерватизма или модифицированного солидаризма. Ну а если при полном использовании всех административных рычагов победа будет обеспечена кандидату, декларирующему либеральные ценности, то с высокой степенью вероятности можно ожидать либо полной делегитимации нового президентства (со всеми последствиями, известными по последним годам горбачёвского правления), либо радикального поворота, означающего отказ от принципа «свобода лучше, чем несвобода».
Альтернативные свободные выборы – совсем не панацея; использование этого инструмента в условиях «вегетарианского», по выражению И. Крастева, авторитаризма способно привести и к непредсказуемым последствиям. Но сегодня в российской политике необходим «гамбургский счет», нужно понять реальное соотношение сил и интересов (в том числе внешнеполитических), а не пытаться усыплять себя разговорами о безальтернативности модернизации либо о непреходящей ценности политической стабильности. Обеспечение представительства сил самой разной направленности, реально присутствующих в обществе, но не существующих в официальном политическом ландшафте, является средством предупреждения внутренней турбулентности.
Между тем признаки утраты контроля и проявлений делегитимации явно обозначились уже в конце 2010 г., когда стало ясно, что на арену общественной и политической жизни выходит новая внесистемная сила. Акция болельщиков «Спартака» на Манежной площади 11 декабря 2010 г. стала симптомом нарастания внутренней политической турбулентности, продемонстрировав спонтанность, потенциал массового участия, быстроту мобилизации, неподконтрольность легально действующим политическим силам и растерянность властей. Особенно тревожным показателем неблагополучия явилась направленность протестного потенциала. Москвичи наблюдали не просто выплеск ксенофобских настроений, в основе которого лежит примитивное деление на «своих» и «чужих», но готовность провести это деление по карте страны, отгородиться (а то и осуществить сецессию) от части территории российского государства. «Национал-изоляционизм» – так можно назвать это направление, если оно получит серьезное идеологическое обоснование, – представляет собой исключительно опасную утопию, попытка осуществления которой автоматически превратит Россию в одну из основных зон мировой турбулентности.
Протест, прорвавшийся на поверхность в конце прошлого года, сразу же обнажил то, что ни для кого не было секретом, – структурную и конструктивную уязвимость нынешнего Российского государства. Обрушение Советского Союза не могло не привести к появлению опасных трещин и в государственной конструкции Российской Федерации. На протяжении 1990-х годов центральная власть стремилась не допустить, чтобы эти трещины расширились до критического уровня. В следующем десятилетии как будто удалось большее: трещины замазали и подштукатурили. Теперь штукатурка начала осыпаться, и сотрясение даже средней силы способно эти трещины вновь расширить. В таких обстоятельствах конкурентные выборы как наиболее эффективный способ легитимации власти и обеспечения представительства основных групп интересов могли бы стать средством укрепления государственности, нахождения разумного баланса между стабильностью и модернизацией, упрочения позиций России в турбулентном мире.
Внутренняя уязвимость государственной конструкции и внешняя турбулентность – вот рамочные условия следующего президентства. Любые усилия по разработке российской внешнеполитической стратегии во втором десятилетии XXI в. окажутся тщетными, если завершение периода дуумвирата будет способствовать нарастанию тенденций внутренней дестабилизации, напряжения в межэтнических и федеративных отношениях и превращению России в новый источник глобальных потрясений. То, как Россия преодолеет рубеж 2012 г., станет определяющим и с точки зрения эффективности ее внешней политики.
Очевидно, что избранный президент (неважно, кто персонально им окажется) должен иметь новый полноценный мандат, а не пытаться закрепиться у власти, эксплуатируя остатки прежней легитимности. Разумеется, укреплению новой легитимности будут способствовать и ключевые внутриполитические мероприятия начального периода следующего президентства. И если консолидация власти пройдет успешно, не вызывая нарастания социального недовольства и политической напряженности, то вновь избранный президент, очевидно, захочет обладать максимально полным набором инструментов внешнеполитической деятельности.
В этом смысле едва ли оправданно идти на самоограничение политического маневра, следуя какой-либо нормативной доктрине. Глобальную турбулентность после произнесения присяги российского президента никто не отменит. Скорее, напротив, следует ожидать новых потрясений, вызванных прежде всего мировой экономической динамикой, а именно тем, что ни одну из основных причин кризиса 2008–2009 гг. устранить не удалось, болезнь загнана внутрь. Наверняка и процессы поствестернизации породят немало новых шквальных порывов.
Если фундаментальную неопределенность «междуцарствия модерна» и глобальную турбулентность рассматривать как Zeit-diagnose (диагноз времени) начала XXI в., то для российской внешней политики это означает необходимость решения трех взаимосвязанных задач:
– предотвращать либо минимизировать дестабилизирующее воздействие глобальной турбулентности на внутриполитические процессы;
– насколько возможно использовать глобальную турбулентность в российских интересах;
– добиваться полноценного участия России в определении будущих правил игры – нового мирового порядка, который рано или поздно придет на смену «междуцарствию модерна».
Первые две задачи представляют собой попытку продлить «момент везения», подольше удержаться внутри «глаза тайфуна». Их решение потребует сохранения максимальной степени внешнеполитической маневренности, открытости к конструктивному взаимодействию со всеми влиятельными акторами мировой политики и недопущения поспешного встраивания в ту или иную жесткую конфигурацию военно-политических союзов и интеграционных механизмов, где Россия окажется на положении ведомого.
Усиление конкурентной борьбы между США и Китаем за глобальное лидерство станет, очевидно, одним из основных трендов предстоящего десятилетия. Объективно Россия обладает потенциалом, способным обеспечить стратегический перевес одной из сторон. Однако Москве здесь есть чему поучиться у того же Пекина, который в последние два десятилетия «холодной войны» пребывал в сходном положении. Избранная Мао Цзэдуном и его наследниками тактика «обезьяны, наблюдающей за схваткой двух тигров», оказалась выигрышной, причем торжествующая обезьяна так и не присоединилась ни к одному из участников схватки. В нынешних обстоятельствах Россия может максимизировать выгоды, не присоединяясь ни к одному из соперников, но стремясь выстроить партнерские отношения с каждым из них.
К настоящему моменту, несмотря на серьезные достижения политики перезагрузки, российско-американские отношения так и не приблизились к уровню отношений между Москвой и Пекином. Основная трудность состоит здесь в неспособности Москвы и Вашингтона согласовать принципиально новую повестку двусторонних отношений, отвечающую современным реалиям. В результате к концу (первого?) президентского срока Барака Обамы в повестку двусторонних отношений может быть включена проблема противоракетной обороны, которая, по всей видимости, выявит пределы российско-американской перезагрузки, а то и вовсе ее похоронит. Вместе с тем возвышение Китая рано или поздно заставит Москву и Вашингтон выработать новый формат взаимодействия, причем имя и партийно-политическая принадлежность будущих лидеров России и США едва ли значительно повлияют на этот процесс.
Существенное изменение формата российско-американских отношений также будет связано с возможностью полноценного участия России в определении рамочных условий и институциональных механизмов нового международного порядка. Однако поиск в этом направлении не может вестись только по линии Москва – Вашингтон. В кратко– и среднесрочной перспективе речь идет о возможности совместных действий ключевых международных игроков для обеспечения относительной управляемости на фоне накопления конфликтного потенциала в ряде важных регионов планеты, турбулентности на товарных и финансовых рынках, новых миграционных волн, растущей активности различных сетевых сообществ, деградации окружающей среды, техногенных катастроф и т.д.
Процесс поиска новой модели глобального управления является многосторонним и конкурентным, и в этом смысле он также может продуцировать турбулентность. В последние годы мы стали свидетелями лихорадочного поиска тех механизмов глобального управления, которые окажутся достаточно работоспособными в условиях экономического кризиса. Мы видели и попытки оживить институты Вашингтонского консенсуса, и усилия сформировать более представительный клуб ведущих мировых экономик (G20), и новые структуры многостороннего сотрудничества (БРИКС). Очевидно, что в интересах России активное участие в большинстве возможных конфигураций, ориентированных на формирование новой системы глобального управления. Исключением могут быть те политические структуры, участие в которых ведет к прямому вовлечению России в региональные конфликты либо в соперничество за мировое лидерство на стороне одного из основных претендентов.
Многовекторность российской дипломатии, скорее всего, сохранится после выборов 2012 г. Даже если внешнеполитическая деятельность будет жестко подчинена задачам модернизации, понимаемой преимущественно в инструментальном смысле, все равно потребуются и быстрое реагирование на турбулентность, и готовность к ситуативным коалициям, и использование различных доктринальных установок, позволяющих обосновать те или иные действия, оправданные в соответствующих обстоятельствах. Следовательно, идеи и риторику гуманитарного интервенционизма также желательно сохранять в арсенале на случай, когда придется предпринимать соответствующие действия на постсоветском пространстве (а вероятность подобного поворота событий, к сожалению, сбрасывать со счетов нельзя). Но было бы, конечно, странно, если именно эти идеи станут краеугольным камнем внешнеполитической философии нового президентства.
По всей видимости, России в период первого «длинного» президентства следует быть готовой к возникновению угрожающей турбулентности на постсоветском пространстве либо в непосредственной близости от него. Прежде всего, нельзя исключать возможность дестабилизации положения в Центральной Азии, что может быть связано как с массовыми социальными протестами и межэтническими столкновениями, так и с естественной сменой поколений политических лидеров (уже произошедшей в Туркменистане и приближающейся в остальных странах региона). Даже если сам регион в эти годы сохранит видимую стабильность, постоянным источником турбулентности останется Афганистан, где после ликвидации Усамы бен Ладена могут быть реализованы различные сценарии, позволяющие значительно сократить или вовсе завершить западное военное присутствие.
Крайне опасна для Москвы была бы и расконсервация таких региональных конфликтов, как карабахский и приднестровский. Возобновление открытого противоборства их участников привело бы если не к прямому вовлечению России, то, во всяком случае, к серьезному нарушению хрупкого равновесия на всем постсоветском пространстве и к открытому вмешательству отдельных стран Запада либо его военно-политических институтов в дела СНГ.
Одним из несомненных политических достижений периода дуумвирата стало формирование Таможенного союза и создание фундамента для Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. В настоящее время, однако, ситуация остается недостаточно устойчивой, и связано это как с экономическими, так и с политическими причинами, прежде всего, с проблемой стабильности режима Александра Лукашенко. Очевидно, что закрепление этих успехов России на постсоветском пространстве станет важной задачей следующего президентства, неизбежно сопряженной с попытками стабилизирующего воздействия на положение в странах – участницах Таможенного союза и ЕЭП.
Позитивные изменения в российско-украинских отношениях после избрания президентом Украины В. Януковича относятся к числу наиболее ярких событий 2010 г. Но есть опасность растратить этот потенциал – если Москва и Киев будут ориентироваться на существующие шаблоны межгосударственных связей на постсоветском пространстве. «Бегство от Москвы» – альфа и омега политики прежней украинской власти – оказалось прорывом не в Европу, а в геополитический тупик. Но и резкие движения в противоположном направлении не сулят Киеву больших дивидендов, особенно если опираться они будут на существующие институциональные формы сотрудничества постсоветских государств. России следовало бы помочь нынешней украинской власти в определении особого места Украины в Большой Европе, где она могла бы играть действительно активную и уникальную роль, к которой с равным уважением будут относиться и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. В стратегическом плане стабильность и перспективы развития постсоветского пространства напрямую будут зависеть от нахождения новой формулы российско-украинского партнерства.
Роль России в мире «междуцарствия модерна» будет в первую очередь определяться тем, удастся ли ей избежать внутренней дестабилизации. Если внутренняя стабильность сохранится, активность Москвы на международной арене станет возрастать независимо от имени человека, который в 2012 г. принесет в Большом Кремлевском дворце президентскую присягу. Вместе с тем внутриполитическая эволюция будет способствовать постепенному формированию спроса со стороны основных групп интересов на те или иные доктрины, которые станут оказывать большее влияние на российскую внешнюю политику. Иначе говоря, в среднесрочной перспективе внешняя политика России уже не будет выражением консенсуса «властной плазмы» по поводу отношений с внешним миром, но начнет отражать более эксплицированные интересы влиятельных групп, как массовых, так и элитарных. Вместе с тем мировая турбулентность и коллизии эры поствестернизации внесут свои, возможно, очень серьезные, коррективы и в повседневную внешнеполитическую деятельность, и в теоретическое осмысление ее основных задач.
«Россия в глобальной политике», М., 2011 г., № 3, май–июнь, с. 8–22.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИСЛАМСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ (На примере Пермского края)
Альбина Михалёва, кандидат политических наук, Институт философии и права УрО РАН (г. Пермь)
Проблема соотношения исламского и регионального в сознании мусульман изначально содержит определенное противоречие – исламская идентичность в доктринальном контексте реализуется на транснациональном уровне и не должна иметь региональных измерений. С другой стороны, религия как неотъемлемая часть менталитета неизбежно реагирует на происходящие в социуме изменения. История ислама демонстрирует возможность подобной адаптации доктринальных норм к конкретным региональным условиям в зависимости от конфессиональной, этнической, географической и даже социально-политической составляющей. Яркими примерами подобной регионализации на национальном и наднациональном уровне могут служить такие бренды, как «евроислам» (в российской (Р. Хакимов) и западной интерпретации (Б. Тиби)), «турецкий ислам» (М. Айдинп), «русский ислам» (С. Градировский), получившие свое продолжение на государственном уровне.
Чтобы оценить роль регионального компонента в сознании мусульман, необходимо обратиться к анализу процессов, протекающих на низовом, локальном уровне, которые могут быть раскрыты через субъектное измерение исламской идентичности. При этом религиозная идентичность понимается как психологическая категория, составная часть социальной идентичности личности, и проявляется в осознании своей принадлежности к определенной конфессиональной общности. Эмпирической основой исследования послужили результаты опросов (2002, 2007–2008) и интервью (2007–2008, 2010), проведенных автором в Пермском крае за последние восемь лет. Модель государственно-исламских взаимоотношений в данном регионе можно охарактеризовать как взаимно дистанцированную со слабо активными местными исламскими лидерами. Аналогичные характеристики справедливы для значительной группы немусульманских регионов, что позволяет рассчитывать на определенную универсальность выводов для данной группы регионов.
Ислам как маркер идентичности определенной части российского населения становится заметным явлением в 1990-е годы с активизацией так называемых «возрожденческих» процессов. В Пермской области в 2002 г. о своей религиозности заявили 76,7 % опрошенных татар и башкир. Эти данные демонстрируют одну из особенностей религиозного сознания, в том и числе и исламского, а именно – способность быстрой регенерации казалось бы утраченных ценностей: «Она (вера), наверное, была заложена генетически, принадлежность к исламу – воспитанием». Наблюдаемый феномен вполне объясним с точки зрения психологии меньшинства и латентности религиозных представлений в советский период. Даже непрактикующие мусульмане на вопрос о возможности смены веры безапелляционно утверждают: «Есть я мусульманка и останусь и умру мусульманкой, и другую веру я не приму».
Для самих верующих «быть мусульманином» означает соблюдать определенные нравственные принципы, обряды, ощущать сопричастность к общему историческому прошлому (в ракурсе этнической истории), соответствовать внешнему виду и определенным чертам характера и психологии. В то же самое время структурное содержание исламской идентичности среди верующих сильно размыто, а уровень осведомленности в исламском вероучении оставляет желать лучшего. Лишь 37,9 % опрошенных знакомы с основными положениями веры.
По-прежнему немалую роль в самоидентификации верующих играет этнический фактор: «Хотя мы считаем себя мусульманами-татарами, но трех слов, начинающихся на “м” – мулла, мусульманин, мечеть, – мы не знали».
Исламская идентичность, как и любая другая, не статичное явление, и она в свою очередь подвержена изменениям. Трансформация религиозных норм и поведенческих моделей в сознании верующих особо заметна в сфере семейных, гендерных, межконфессиональных отношений. По словам имама одной из деревень Пермского края, при проведении обряда бракосочетания по исламской традиции (никаха): «…один обед до перерыва проходит без спиртного, я прощаюсь с ними, ухожу, потом, наверное, выносят спиртное, подают. Ну, у нас сейчас население и молодежь очень увлекается спиртным, и работы там нет, и женщины есть, – вот это отрицательная сторона. Люди лучше сейчас поддаются спиртному, чем религии».
Мусульманская идентичность опрошенных не всегда нацелена на выполнение предписанной религиозной практики, с правилами и ритуалами которой некоторые из респондентов не знакомы, хотя подчеркивают их бесспорную значимость и авторитет: «Ну, вообще-то я считаю себя верующим человеком, но, может быть, не так достаточно, как надо было бы, т.е. соблюдая все нормы исламские. Я не соблюдаю из-за своего здоровья, но в душе я всегда верю» (жен., Пермь, 2008). Субъективное обоснование верующими несоблюдения обрядовых норм доказывает пластичность протекаемых в их сознании процессов. На деле предписанный пятикратный намаз регулярно соблюдают 38,5 % опрошенных, что выше среднестатистических общероссийских показателей (10 %). Периодически это делают 36,5 % мусульман (31 % по России). Остальные верующие (25 %) не молятся, поэтому справедливо говорить об их номинальной, а не фактической религиозности.
Вместе с тем не стоит недооценивать значимость исламского фактора: все же 87,7 % опрошенных мусульман Пермского края в 2007 г. указали на значимость религии в их жизни. Другое дело, что религии все чаще отводится смыслообразующая функция: на первый план ставится значимость эмоционально-религиозного опыта; религиозная практика секуляризируется, сокращается число практикуемых обрядов.
Условия, которые оказывают влияние на актуализацию исламской идентичности в сознании отдельных граждан, в каждом конкретном случае различны: необходимо учитывать особенности социализации, субъективные жизненные обстоятельства верующих, их теоретическую фундированность, психологическую комфортность проживания в том или ином регионе и т.д. Однако можно назвать и общее условие – наличие религиозного окружения (супруги, родственники, друзья). По-прежнему важным каналом трансляции, поддержания и передачи исламских ценностей остается институт семьи.
Актуализации религиозности способствует и внешний фактор – статус религиозного меньшинства и вытекающие из этого следствия; так, дискуссии в средствах массовой информации о сущности ислама, его совместимости с демократическими системами, о его «воинствующем характере» неизбежно ведут к усилению самоидентификации в мусульманской среде.
Помимо условий, способствующих активизации религиозного сознания, можно назвать и основные причины обращения респондентов к вере – это духовные искания и психологическая мотивация личности. В подобных ситуациях религия выполняет идентификационную и компенсаторную функции. Несмотря на внешнюю гомогенность регионального поля при экстраспективном наблюдении, исламская идентичность включает достаточно широкий диапазон социально возможных практик.
Примеров индивидуальной актуализации региональной исламской идентичности («пермские мусульмане») среди информантов практически не встречается. Как показывает анализ интернет-публикаций и СМИ, она продуцируется либо лидерами мусульманских общин, либо региональными СМИ, что лишний раз подтверждает возможность конструирования региональной религиозной идентичности в зависимости от целей и ситуативного контекста.
Согласно данным проведенных опросов, обнаружилось, что значительная часть (34,4 %) респондентов-мусульман испытывают проблемы с локальным структурированием своей идентичности. Остальная масса идентифицирует себя в рамках России: либо на уровне прихода (19,4 %), либо на уровне области (14 %), либо государства (11,3 %). Свою связь с миром ощущает лишь 21 % мусульман. Региональный компонент идентичности актуализирует чуть меньше половины опрошенных (44,7 %). Однако все верующие связывают свое будущее исключительно с Россией: «Я россиянин. Россия моя родина по воле Всевышнего. Мы ведь не выбираем свою родину, не выбираем эпоху. Аллаху виднее… Любой мусульманин должен быть защитником своей родины». Исламская идентичность респондентов реализуется в поликонфессиональном социуме. Опрошенные привыкли ощущать себя частью сложного мира со множеством идентификационных и культурных образцов, что является гарантией свободного отправления их религиозных убеждений. Верующие преодолевают двойной вызов: в культурном поле в рамках этноконфессионального меньшинства и в современном региональном обществе, где они пытаются найти собственное место. При этом мусульманское бытие и современность не являются контртезисами. В то же время исламское региональное поле не может предложить им привлекательных перспектив для самореализации. Допуская частичное совмещение различных социокультурных нормативных и ценностных систем, опрошенные ощущают себя живущими как минимум в двух мирах. Балансируя между различными культурными требованиями, респонденты пересматривают свое субъективное отношение к культурным образцам. Социальные практики предшествующих поколений не вполне отвечают современным профессиональным и религиозным требованиям, а потому верующие вырабатывают свои стратегии преодоления вызова, в том числе за счет сокращения религиозной обрядности.
Мусульмане, принявшие участие в опросе, неоднократно пережили негативный опыт по отношению к своей инаковости: «Когда мы начали уже платок одевать, нас “кришнаитками” обзывали, то еще как-то, вот». Однако опрошенные не разделяют радикальных настроений и силовых методов решения проблем. «Как Вы относитесь к терактам? Они могут стать решением проблем?» – «Это ужасно. Это глупость. Я тут сама испытала это. Я в этом году ездила на дачу. Содрала здесь лоб и одела платок. Лицо у меня загорело летом. Ну у меня обыкновенная черная одежда, платок, сарафан какой-то, почему-то одела длинный. И вот я зашла в автобус. Во-первых, от меня все отсели, кондуктор ко мне не подошел, я даже деньги не заплатила. Потом я зашла на главпочтамт платить за телефон деньги. Сразу вышли два охранника, встали рядом со мной. Ну, я как заплатила, они со мной вышли и посмотрели, куда я пошла. Я ощутила сама на себе, что это такое. Это, конечно, не решение проблемы, это глупость».
Большая часть мусульман живет и строит свои планы относительно будущего в поликонфессиональной среде. Все это не позволяет рассматривать ислам и носителей исламской идентичности в российских поликонфессиональных регионах в качестве угрозы существующей системе. С другой стороны, нельзя не отрицать, что в силу гетерогенности мусульманской уммы, достаточно широкого диапазона социально возможных практик под исламской идентичностью могут скрываться также и экстремистские силы.
Вопрос о специфике исламской идентичности в отдельных регионах напрямую связан с проблемой соотношении доктринального и регионального ислама. Учитывая исторический процесс взаимопроникновения местной и исламской культур, терминологически корректнее говорить не о региональных разновидностях ислама («русский», «турецкий» и т.д.), а о региональных формах его бытования. Религиозное сознание мусульман Пермского края подвержено трансформационным процессам. Мы наблюдаем размывание религиозной традиции, которая между тем не утрачивает своей значимости. Исламская идентичность информантов прочно переплетена с позитивной российской идентичностью. Процесс регионализации сознания верующих более заметен в этническом поле, что не может не влиять на ее конфессиональную составля-ющую. При этом слабость регионального аспекта исламской идентичности не означает невозможности ее конструирования для определенных общественно-политических целей.
«Идентичность как предмет политического анализа», М., 2011 г., с. 252–256.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ОТ СЕПАРАТИЗМА К РАДИКАЛЬНОМУ ИСЛАМУ
Замир Думанов, политолог (Кабардино-Балкарский НЦ РАН)
В настоящее время на Северном Кавказе (СК) наблюдается затяжной этнополитический кризис, который сильно сдерживает развитие региона и делает его чрезвычайно уязвимым. Многие проблемы определились еще в советские времена (переселение целых народов, перекраивание границ, неравномерное распределение производств), но значительная их часть актуализировалась в «переходный период» (спад промышленного производства, достигавший в некоторых республиках 90 %, разрушение этнически сложившегося «разделения труда», массовая безработица). В результате демократизация и либерализация, не будучи подкреплены экономически, стали выливаться в межэтнические и межконфессиональные конфликты и противоречия, самыми яркими из которых стали «чеченский кризис» и осетино-ингушский конфликт 1992 г.
Сегодня валовый региональный продукт (ВРП) на СК в пересчете на душу населения существенно ниже, чем в целом по РФ. Так, в Кабардино-Балкарии (КБ) накануне террористической атаки в Нальчике 13 октября 2005 г. уровень безработицы оценивался в 27 % экономически активного населения (при этом возраст каждого третьего безработного был 16–29 лет!). В результате республики СК относятся к группе либо малообеспеченных, либо бедных регионов. При этом роль теневой экономики в регионе велика, как нигде в России.
По данным экспертов, почти каждый третий житель так или иначе занят в сфере теневой экономики, а в Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане эти показатели достигают 80 %, при среднероссийских 20–25 %. Нельзя в этой связи не упомянуть и о коррупции, разъедающей все уровни региональной власти. Так, опрос, проведенный в декабре 2008 г., показал, что 77 % опрошенных жителей Нальчика лично сталкивались с проявлениями коррупции в различных социальных институтах и сферах жизни; при этом 75 % уверены в том, что масштабы коррупции в республике в ближайшие несколько лет либо не изменятся, либо возрастут. Естественно, такая уязвимость в сфере экономической безопасности использовалась различными экстремистскими силами. В начале 1990-х годов на первом месте были сепаратисты и этнонационалисты, выдвигавшие проекты отделения не только от России, но и от республик, в состав которых были включены представители той или иной этнической группы (например, проект создания Лезгистана на землях, населенных лезгинами в Азербайджане и в Дагестане). В Карачаево-Черкесии только в 1991 г. было провозглашено пять республик, включая и две казачьи. В Кабардино-Балкарии в 1991–1992 гг. интенсивно шел процесс раздела республики по этническому принципу (с организацией референдума и «межевания земель»). Действовала и Конфедерация горских народов Кавказа, которая несла на знаменах идеи «общего кавказского дома» без участия российских «архитекторов».
Но наиболее ярким примером этносепаратизма была Чечня, которая в общей сложности в течение шести лет существовала вне правового и социально-политического пространства России. Однако даже этот конфликт не был в чистом виде этнополитическим. Так, в составе разогнанного Дж. Дудаевым 6 сентября 1991 г. Верховного Совета республики были и сторонники сохранения Чечено-Ингушетии в составе России, а противостояние Москвы и Грозного было только одним конфликтом из множества: между Грозным и Надтеречным районом, куда Дудаев хотел назначить своего префекта; между республиканской властью и мэрией столицы Чечни; между светскими националистами и религиозными радикалами; между сторонниками суфийского ислама и салафитами и т.д. И все они использовали друг против друга силу. Это происходило на фоне существования многочисленных чеченских общин за пределами республики внутри РФ и активного этнического бизнеса, а большинство чеченцев даже в ходе военных действий предпочитали уезжать в Россию, а не в дальнее зарубежье.
Пик популярности этнического национализма пришелся на первую половину 1990-х годов. Это объясняется тем, что, во-первых, распад любого надэтнического образования сопровождается и обостряется поиском «корней», обретением новой идентичности; во-вторых, северокавказские республики в составе РФ в течение 70 лет входили в состав СССР, с одной стороны, проводившего политику государственного атеизма, а с другой – способствовавшего правовой институционализации этничности. Поэтому исламские «радикалы», появившиеся в начале 1990-х годов на СК, стремились сочетать религиозную риторику с этнонационализмом. Однако в дальнейшем этнонационализм (и этносепаратизм) утратил популярность, поскольку в условиях этнической пестроты СК этнонационализм (и сепаратизм) чреват конфликтами. Этнонационализм не смог разрешить и ряд насущных проблем этноэлит (в частности, надежды на территориальную реабилитацию), и они, забыв обещания, данные «своим народам», занялись приватизацией власти и собственности.
Большое влияние на спад популярности этнического национализма и сепаратизма оказал и провалившийся государственный эксперимент «Ичкерия». В де-факто независимой Чечне не удалось построить государство, сравнимое хотя бы с Абхазией или Нагорным Карабахом. Более того, «вольная Ичкерия» вела себя по отношению к соседям столь агрессивно, что Россия для них была меньшим злом по сравнению с Чечней. Таким образом, сегодня можно констатировать, что этнонационализм в условиях СК потерпел историческое поражение, возможно, временное, особенно при неправильной политике федерального центра.
Поэтому сегодня радикальные протестные движения против федеральной или республиканской власти используют не этнонационалистический (или сепаратистский), а исламистский язык (так как надежды на то, что Запад предпочтет продолжение распада «империи зла», не оправдались и взоры вчерашних националистов обратились на Восток). Так, если в лозунгах «ичкерийцев» антизападничество не присутствовало, то Д. Умаров назвал врагом «истинных мусульман» не только РФ, но и западный мир, а вместо упраздненной им «Республики Ичкерия» провозгласил Кавказский Эмират. «Свобода Чечни» уступила место лозунгам «исламской солидарности».
В результате в середине 1990-х годов на СК сложилась радикально-исламистская среда, в которой для региона был сформирован проект так называемого «чистого ислама». Его идеологи умело использовали психологические методы воздействия (апелляция к неуспешным слоям населения, лишенным возможностей карьерного роста, получения качественного образования). В условиях массовой безработицы, прежде всего, среди молодежи, такая пропаганда находит поддержку. И все это формировалось в условиях отсутствия внятной стратегии социального, экономического, политического развития Северного Кавказа. Как результат, началось распространение радикального ислама не только на Чечню, Дагестан, Ингушетию, но и на республики, где традиционно религиозность населения была ниже. Отсюда и трагические события в столице КБР Нальчике 13 октября 2005 г. В то же время было бы большой ошибкой считать все протестное движение на СК исламистским. В республиках существует и светская оппозиция, чья критика в большей степени направлена против республиканских властей. Это очень разные по политическому происхождению и взглядам люди, объединенные неприятием региональной власти, а в Дагестане – это даже активисты целого ряда общероссийских партий. И хотя в 2007–2008 гг. их сила и влияние были серьезно ослаблены, они присутствуют и сегодня.
Нельзя совершенно игнорировать и «внутриаппаратную оппозицию» во всех субъектах региона, которая не выступает с публичными лозунгами и не ведет открытых дебатов, но роль в кадровой политике, принятии управленческих решений нельзя недооценивать. Таким образом, сегодня на СК не этносепаратизм, а радикальный исламизм является главным вызовом безопасности государства и общества. И это политическое течение питается такими пороками и федеральной и региональной власти, как непотизм, закрытость, коррупционность, неумение и нежелание вести диалог с оппонентами.
Наряду с перечисленными проблемами на Юге России отчетливо проявились и внешние угрозы безопасности – к СК привлечено внимание не только традиционных стратегических соперников России в регионе (прежде всего Турции и Ирана), но и международных террористических организаций, движений религиозно-экстремистского толка. Следовательно, многие угрозы и вызовы безопасности на СК (конфликты, социальные взрывы, миграционные процессы и т.п.) при неблагоприятном развитии событий способны дестабилизировать ситуацию в общероссийском масштабе, распространить свое негативное воздействие за пределы региона. Однако эта ситуация не является необратимой.
Сегодня региональная и национальная политика РФ должна быть политикой иного качества и уровня, в основе которой должны лежать следующие принципы.
1. Признание как федеральной, так и региональной властями затяжного этнополитического кризиса системообразующим элементом региональных социально-политических процессов.
2. Главным критерием эффективности принимаемых решений должно стать их стабилизирующее воздействие на этнополитическую сферу.
3. Отказ от попыток ускоренного решения ситуации и готовность к длительной и кропотливой работе по ее преодолению.
4. Работа с причинами, а не следствиями; переход от реактивной к превентивной и проективной политике в этнополитической сфере.
5. Отход от «заигрывания» с этнополитическими элитами; повышение ответственности этнополитических элит за положение дел в субъектах РФ.
6. Аргументированное разоблачение СМИ, органами власти шовинизма, национализма, политического экстремизма и сепаратизма.
«Фундаментальные проблемы пространственного развития Юга России: Междисциплинарный синтез», Р. на/Д., 2010 г., с. 98–101.
РЕАЛЬНОСТИ И СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ ИСЛАМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Алексей Малашенко, доктор исторических наук
О значении ислама для политической обстановки на российском Кавказе написано множество книг и статей. Большинство из них идеологизировано и политизировано, что в нынешней обстановке неизбежно, но мешает адекватному пониманию роли религии в регионе. Некоторые авторы опасаются высказывать свое мнение, предпочитая излагать его в частных беседах. Таким образом, можно говорить о первой реальности – сознательном искажении истинного положения дел с исламом. При всем том не вызывает разногласий вторая реальность: на Северном Кавказе (СК) религия и политика неразделимы, здесь политизирован весь ислам, все его разновидности – салафизм, тарикатизм, ислам мазхабов.
Реальность третья заключается в том, что в регионе на протяжении двух десятилетий существует оппозиция, в своей идеологии опирающаяся на постулаты ислама, действующая в рамках «исламского призыва». Несмотря на то что наличие этой оппозиции ни у кого не вызывает сомнения, она официально не рассматривается как политическая сила. Федеральная власть, а зачастую и некоторые главы местных субъектов предпочитают именовать эту категорию «бандитами» и «ваххабитами», сознательно или по неведению помещая эти определения через запятую. Таким образом, формируется стереотип № 1 – «исламская оппозиция есть бандиты».
Стремление власти так трактовать исламскую оппозицию объяснимо ее желанием свести политические сложности к заурядным криминальным разборкам: в этом случае силовые методы применяются, дескать, против уголовников, что заведомо оправдывает любые действия. Политический момент, таким образом, выводится за скобки, а с власти, как местной, так и федеральной, пусть частично, но снимается ответственность за положение в регионе.
Стереотип № 1 порождает стереотип № 2, суть которого в том, что оппозицию можно победить военным путем. А ведь весь мировой опыт последних десятилетий свидетельствует, что избавиться от религиозной оппозиции, опираясь исключительно на силовые методы, невозможно. Даже находясь под непрестанным давлением и терпя неудачи, исламисты сохраняют огромный запас политической, человеческой энергии, остаются пружиной, способной решительно распрямиться, дестабилизируя внутреннюю обстановку. Такова четвертая реальность.
С другой стороны, есть и пятая реальность, которая состоит в том, что исламская оппозиция не есть некое в чистом виде «классическое» религиозно-политическое движение. Это конгломерат, в котором задействованы также и паразитирующие на исламе криминальные структуры. И можно в известной степени понять представителей силовых структур, которые далеко не всегда представляют, кто в данный момент им противостоит с калашниковым в руках – честный религиозный фанатик или выходец из уголовного мира, отстаивающий свои меркантильные интересы. (Хотя, конечно, за годы междоусобицы в регионе правоохранительные органы были обязаны научиться тому, как различать своих оппонентов и каким образом действовать против каждого из них.)
Шестой реальностью и одновременно стереотипом № 3 являются северокавказские ваххабиты. Само применение к кавказским оппозиционерам такой дефиниции выглядит условно. К возникшему еще в XVIII в. ваххабизму они имеют весьма приблизительное отношение. Их также называют и салафитами, и фундаменталистами, и исламистами, и джихадистами. Суть не в терминах, но в программных установках оппозиционеров. А их главная цель достаточно очевидна: заставить общество жить по законам шариата, создать на российском Кавказе исламский анклав, т.е. некое подобие исламского государства. Они выдвигают исламскую альтернативу как единственную, которая может разрешить все социально-политические проблемы региона, восстановить социальную справедливость, вернуть утраченную связь между обществом и властью (уже исламской).
Находящихся в оппозиции сторонников исламской альтернативы можно подразделить на две группы. Первая продолжает бороться за отделение региона от России и создание исламского государства (что-то вроде виртуального «кавказского имарата»). Вторая – за образование шариатской территории в пределах России. В чистом виде сепаратизм на Кавказе себя изжил. Позиции же тех, кто поддерживает шариатизацию в пределах РФ, выглядят внушительнее. Можно бесконечно долго спорить о возможности воплощения в жизнь идеи исламской альтернативы. Но ее поддерживают не только исламские оппозиционеры. В нее верит значительная, лояльная власти часть кавказских мусульман, уставшая от постоянного напряжения, от коррупции властей, наконец, от безысходности собственной жизни. К исламу как к пути выхода из кризиса обращаются все чаще. На СК, особенно в трех его восточных республиках – Дагестане, Чечне, Ингушетии, происходит исламизация общества, что становится седьмой реальностью. Хотя и не в столь сильной степени, она затронула и Кабардино-Балкарию, менее заметна – на западе Кавказа. Адыгея, Карачаево-Черкесия, мусульманская Осетия всегда были не столь исламизированы и предрасположены к религиозному радикализму. Однако и на западе региона исламский фактор ощущается все острее. К тому же сказывается активность ислама у соседей.
Здесь необходимо отметить еще одно, на наш взгляд, существенное обстоятельство. Исламизация происходит параллельно с «реконструкцией» (термин рабочий, и потому не совсем корректный) кавказской этнокультурной традиции, квинтэссенцией выражения которой является адат. Многие кавказоведы считают его истинной, примордиальной традицией, оппонирующей пришедшему на Кавказ позже шариату. Это мнение в значительной степени справедливо, оно опирается на историю народов Кавказа, на их зачастую сильное сопротивление исламизации. Примеры борьбы именем ислама против кавказских обычаев известны со времен Средневековья. Это противостояние ярко проявилось в XVIII–XIX вв. на востоке СК – на территории Дагестана и Чечни. В конце XX–XXI вв. обе идентичности – собственно исламская и этнокультурная – в каком-то смысле задействованы в одном направлении – во имя восстановление порядка. Обе традиции переплетены друг с другом, они все более выступают как фактор регулирования отношений в обществе. Исламизация является частью общей традиционализации местного социума, которая вызвана целым рядом обстоятельств: слабостью или отсутствием современного экономического сектора, упадком образования, миграцией русского населения, а также квалифицированных кадров из местных этносов. Наконец, причина традиционализации – это упоминавшееся выше бессилие и бездействие федерального законодательства, что и компенсируется реставрацией обычая.
Восьмой реальностью следует признать изменения, произошедшие в отношениях между традиционным (кавказским) и салафитским исламом. В последние 20 лет они были крайне напряженными, и между обоими направлениями велась борьба, в которой традиционалисты (тарикатисты, сторонники мазхабов) выступали заодно с властью. В последние годы, несмотря на сохраняющиеся противоречия между традиционалистами и салафитами, выявились точки их соприкосновения. И те и другие выступают за исламизацию общества; и те и другие полагают, что выход из кризиса возможен лишь на пути ислама. И традиционалисты и салафиты придерживаются мнения, что сегодня главным врагом ислама является Запад, глобализация. Они солидаризируются с зарубежными радикалами – палестинским ХАМАСом, Ираном, в скрытых формах – и с афганскими экстремистами.
Девятая реальность: в Чечне, в меньшей степени в Дагестане и Ингушетии ретрадиционализация и исламизация поощряются, а иногда и инициируются светской властью. Это особенно характерно для Чечни, где президент Рамзан Кадыров использует ислам для укрепления своей власти и консолидации вокруг себя общества. Такой подход имеет свои плюсы и свои издержки. Полностью отвергать его или наоборот абсолютизировать будет поспешным. С одной стороны, «перехват» властью традиции у оппозиционных, экстремистских сил может способствовать росту ее авторитета у мусульман. Вопрос, однако, в том, насколько светская власть и ее союзники из числа лояльного духовенства способны успешно конкурировать с искушенными проповедниками и активистами из числа радикалов.
Исламизация общества может способствовать его расколу, поскольку далеко не все жители Кавказа готовы ее поддержать. Среди сторонников немало молодежи, тогда как значительная часть старшего и среднего поколений, воспитанных в советский период, относится к религии индифферентно и даже настороженно, опасаясь крайних форм ее проявления. Наконец, нельзя игнорировать и то обстоятельство, что с этими пуританскими нравами далеко не всегда согласуется собственно кавказский менталитет и местные поведенческие нормы. Традиционализация, так или иначе, становится откатом назад, возникает проблема, насколько она сочетаема с официально провозглашенным в стране курсом на модернизацию.
Десятая реальность такова, что традиционализация северокавказского общества дистанцирует его от российской «ойкумены». Абсолютизация собственной ценностной системы и нормативов поведения при отсутствии четко артикулированной парадигмы общероссийских гражданских ценностей превращает СК в некое «внутреннее зарубежье». Одиннадцатая реальность – поддержка исламских радикалов их зарубежными единомышленниками. Наиболее ощутимой она была в 1990-е. Проникновение на мусульманские территории России исламского фундаментализма явилось неизбежным следствием обрушения существовавшего во времена СССР «железного занавеса». Это открыло путь для внешнего влияния не только с Запада, но также и с мусульманского Юга, с Ближнего Востока, Персидского залива, Афганистана. На Кавказе обосновался ряд влиятельных международных исламских организаций, в том числе экстремистского толка. Новая исламская идеология оказалась привлекательной, особенно для молодежи, испытывавшей разочарование в прошлом страны и не видевшей позитивных перспектив в будущем. Именно в то время сложился стереотип № 4, будто именно внешний фактор – главная, если вообще не единственная, причина возникновения радикализма в регионе. Этот давно ставший составной частью российской официальной идеологии и пропаганды миф тиражируется политиками и чиновниками самых разных рангов. Основной же причиной радикализации ислама остаются внутренние обстоятельства. Во второй половине «нулевых годов» нынешнего века влияние на кавказский ислам извне резко уменьшилось. Этому способствовало известное разочарование местных мусульман в зарубежных миссионерах, считавших кавказский ислам несоответствующим ортодоксальной традиции, неуважительно отзывавшихся о местных нравах. Между «новым» (именуемым иногда «арабским») исламом и исламом кавказским сохраняется заметная дистанция. Кроме того, деятельность некоторых международных организаций запрещена Российским государством на том основании, что они дестабилизировали обстановку и способствовали росту экстремизма. Закончилась война в Чечне.
Двенадцатая реальность – отсутствие у федерального центра стратегического видения ситуация в регионе, его неспособность предложить эффективную программу для выхода из кризиса, в частности, предотвращения дальнейшей политизации и радикализации ислама. Создание нового федерального округа, назначение его руководителем менеджера в ранге вице-премьера свидетельствует не только о значении, которое федеральная власть придает Кавказскому региону, но также является признанием неудачи ее предыдущей политики. Зато среди политических и религиозных деятелей, как в регионе, так и в Москве, утвердился стереотип № 5, в соответствии с которым «дерадикализация» ислама, ослабление тяги мусульман к салафизму и ваххабизму возможны с помощью совершенствования исламского образования. Кстати, этот стереотип распространен в Европе, в США. Однако хорошо известно и то, что высокий уровень религиозного образования, глубокое знание ислама присущи также и многим радикалам. Представлять их «невеждами» – глубокое заблуждение.
Качественное религиозное образование знакомит со всеми направлениями в исламе. Молодой человек, который всерьез занимается богословием, мусульманской юриспруденцией, мусульманской культурой, имеет больше возможностей для своего личного выбора в исламе. И нет никаких гарантий, что он отдаст предпочтение именно той интерпретации ислама, которая кажется удобной властям и которая будет обязательно отличаться от радикальной. Исламская образовательная система в России еще только формируется. Российское мусульманство не располагает достаточным количеством профессионально подготовленных преподавателей и проповедников для обучения и одновременно воспитания религиозной молодежи. Хорошо известно, что многие «официальные имамы» страшатся открытых публичных дискуссий со своими оппонентами, поскольку последние знают ислам и к тому же владеют навыками публичных выступлений.
Реальность тринадцатая. Джихад, который мы наблюдаем на СК, не есть исключение. Джихад – часть ислама, составляющая исламского мировоззрения, а не только сиюминутное проявление «исламского призыва» (да'ва исламийя). У него несколько интерпретаций, главная из которых: всякое усилие, совершаемое во имя ислама, – борьба за распространение ислама, за его защиту, за его продвижение, т.е. за исламизацию. Малый джихад, или газават, вооруженная борьба не есть нечто самостоятельное, но прежде всего часть большого джихада. Противопоставлять большой джихад малому не имеет смысла. Крайние проявления джихада нельзя устранить с помощью решения наиболее острых социальных вопросов, например безработицы, которая на том же российском Кавказе считается главной причиной поддержки молодежью исламского сопротивления. Конечно, в благоприятных социально-экономических условиях джихад окажется более ориентирован на решение мирных проблем, однако он все равно не утратит дух миссионерства.
Исламская оппозиция на СК действует в контексте международного джихада, совершающегося по всему мусульманскому миру. Общее с Кавказом можно обнаружить в Судане, Алжире, Пакистане, Йемене. Исламизм нельзя «устранить» при помощи демократизации. Исламисты способны использовать демократические инструменты, о чем свидетельствует опыт Ирана, Палестины, Судана, Египта, Пакистана, Марокко и т.д. Исламизм сохраняет активность и влияние при авторитарных режимах – в Узбекистане, Саудовской Аравии, Киргизии, Таджикистане.
И последняя реальность. Она слишком очевидна, чтобы ее не замечать, зато и слишком неприятна для тех, кто ищет прямолинейных подходов к разрешению кавказских проблем. Ислам, как религия, как идеология, как регулятор общественных отношений, многогранен, заключает в себе конгломерат самых разных, порой противоречивых, установок. Как и в любой религии, в исламе всегда присутствовали радикальные тенденции, ему не чужд дух экспансии, причем не только идейной, но и политической. Ислам нужно воспринимать таким, какой он есть, с учетом его местных кавказских особенностей, а также воздействия на него иных, распространенных в других регионах трактовок. Изолироваться от внешнего влияния просто-напросто невозможно. В связи с этим следует упомянуть последний (но не по значению) стереотип, в соответствии с которым можно-де создать некий «удобный» для власти «послушный» ислам.
«Исламский вопрос», как и вообще проблема традиции на российском Кавказе, неизбежно встанет перед главой нового образованного в 2010 г. Северо-Кавказского федерального округа Александром Хлопониным. Призванный на Кавказ из Красноярского края как успешный менеджер, способный решать самые запутанные экономические проблемы, он отдает себе отчет о всей сложности ситуации в регионе, в том числе понимает, что «не единой экономикой» ему придется заниматься. «Северный Кавказ, – по выражению председателя Комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Госдумы Ставропольского края Бориса Оболенца, – это вообще другая цивилизация». Одной из причин назначения Хлопонина на эту непростую должность эксперты называют отсутствие у него «кавказских корней», иначе говоря, он не вовлечен внутрь кавказских отношений между кланами, группами интересов, ему никогда не приходилось иметь дело с исламской междоусобицей. Главе нового федерального округа предстоит разобраться и сформировать свое понимание ислама и выработать такой подход, при котором использование ислама как обоюдоострого средства политической борьбы не оказалось бы препятствием на пути задуманных экономических и социальных преобразований. При формировании своего подхода Хлопонин, конечно же, будет опираться на мнения силовиков, считающих, что единственным средством общения с «неформальным» исламом является силовой нажим. Естественно, он не может не учитывать предлагаемое федеральной властью определение исламской оппозиции как «бандитов». Вместе с тем, будучи прагматиком, он не может не понимать, насколько неоднородны силы, выступающие под лозунгами ислама. Доведут до его сведения и то, что многие влиятельные политики в Дагестане, Кабардино-Балкарии не склонны абсолютизировать силовые методы и в принципе согласны с необходимостью диалога (разумеется, не с «непримиримыми»).
Думается, что Хлопонин будет прислушиваться к этому мнению. Кроме того, ему целесообразно включить в свою команду независимых экспертов, как кавказских, так и «внешних», способных представить объективный, неидеологизированный и неполитизированный анализ ситуации. Экономический прагматизм должен подкрепляться прагматизмом в оценке политической ситуации. Так или иначе, но успех его менеджерских замыслов зависит, в том числе, и от того, насколько ему удастся отойти от упоминавшихся выше стереотипов. Частным, но вместе с тем показательным доказательством надежд, связанных с приходом А. Хлопонина, становится реакция на его назначение со стороны именно исламистской оппозиции, тех, кто ее поддерживает или просто ей симпатизирует. Иными словами, продолжит ли она действовать столь же активно, как и в предыдущий год, или почувствует, что в обществе в связи с новым назначенцем появились некоторые ожидания и потому ее акции могут вызвать только раздражение людей и привести к падению авторитета? Или, напротив, фрустрация останется прежней, и радикалы, воспользовавшись этим, продолжат свою деятельность? Очевидно, А. Хлопонину для успешности своей миссии важно, с одной стороны, заставить поверить себе колеблющуюся, протестную часть мусульман, но с другой – изолировать экстремистов от общества. А для этого необходимы быстрые видимые успехи. Одним из них может стать сдерживание агрессивности радикалов с помощью установления постоянного (не обязательно публичного) контакта между ними и новой администрацией. Скорее всего, это будет выглядеть не как слабость, но как своего рода мудрость нового руководства.
He отрицая необходимость борьбы, в том числе вооруженной, с экстремизмом и терроризмом, важно понимать, что экстремистами люди становятся не в одночасье. Они проходят непростой путь от «исламских диссидентов», оппозиционеров, с которыми можно и нужно вести диалог, тем самым предотвращая их дальнейшее движение в сторону экстремизма. Такой диалог нельзя превращать в идейно-политическую кампанию, он должен вестись постоянно, я бы даже сказал, вечно, ибо без него достичь стабилизации, создать и поддерживать нормальную обстановку на российском СК невозможно.
«Государственная служба», М., 2010 г., март-апрель, с. 76–79.
КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН В МЕЖДУНАРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА
Парвин Дарабади, доктор исторических наук (Бакинский государственный университет, Азербайджан)
В последовавший после распада Советского Союза в конце 1991 г. период начался процесс постепенного превращения Каспийского региона в серьезный геополитический и геоэкономический фактор. Регион стал восприниматься не как самозамкнутый и статичный, а в динамике глобального геополитического взаимодействия. В то же время он является лишь одним из узлов напряженности в системе современных геополитических процессов.
Важнейшим внешним фактором, оказывающим влияние на Каспийский регион, является значительное расширение в начале XXI в. круга стран, имеющих здесь свои геополитические и геоэкономические интересы. Совокупность географического положения и растущего значения каспийских энергетических ресурсов привела к росту стратегической важности Кавказа и Каспия для мировой, в том числе и европейской, безопасности. Не случайно X. Солана, отмечая важность Кавказа для Европы, еще в 1997 г., выступая в Баку, подчеркивал, что «Европа не будет полностью безопасной, пока страны Кавказа будут оставаться за пределами европейской (системы) безопасности»:
Наряду с традиционными «геополитическими игроками»: Россией, США, Великобританией, Турцией и Ираном – все большую политико-экономическую активность здесь проявляют Франция, Германия, Китай, Япония, Пакистан, Саудовская Аравия, Израиль, ряд других стран, что, в свою очередь, значительно усложняет ситуацию в регионе. Их взаимоотношения, наряду с прочим, определяются и интересами контроля над региональными топливно-энергетическими ресурсами и средствами их транспортировки. Находясь в центре геополитического разлома постсоветского пространства, Каспийский регион начиная с 1990-х годов стал неотъемлемой частью новой «Большой игры» в мире, ведущейся по классическим правилам геополитики.
С заключением в Баку 20 сентября 1994 г. «Контракта века» на разработку каспийских нефтяных месторождений Азербайджана активизировался процесс вовлечения кавказских и прикаспийских стран в разыгрываемую в регионе мировыми и региональными державами «геополитическую игру» на «каспийской шахматной доске», в роли главных игроков выступили Россия и Запад. Для России чрезвычайно важную стратегическую роль на Кавказе традиционно играла и продолжает играть Армения, которая является ее традиционным «форпостом» в этом регионе. К тому же эта страна служит для России основной базой противостояния проникновению НАТО и Турции в этот регион. По мнению некоторых российских экспертов, она «обречена быть вечным союзником России», а «в геополитическом коде Армении доминирует традиционный российский вектор».
Грузия как единственная кавказская страна, имеющая выход к Черному морю, также имеет стратегическое значение в отношениях России и Запада. По территории этой страны проходят транскавказские транспортные линии – железнодорожные и автомобильные, к которым за последние годы прибавились магистральные нефтегазовые трубопроводы. Грузия, в особенности после «революции роз» 2003 г., открыто придерживается прозападной ориентации, а ее пребывание в СНГ и до осени 2008 г. носило скорее символический характер.
После распада СССР осетины и абхазы были использованы Россией с целью заставить Грузию уступить давлению Москвы и отказаться от намерений вступить в НАТО. В России ясно осознавали, что Грузия, видящая свое будущее в единстве с Западом, является важным звеном в цепи, по которой западное влияние распространяется через Турцию и Азербайджан в Центральную Азию. Неслучайно, что именно по отношению к Грузии Россия применяла наиболее жесткую политику. Вначале это было введение визового режима, торгового эмбарго, «случайные» бомбардировки приграничных районов и пр. В условиях, когда присоединение Грузии к НАТО стало реальной перспективой, в августе 2008 г. Россия применила прямые военно-силовые методы, приведшие в конце концов к отторжению от Грузии Абхазии и Южной Осетии и выходу страны осенью того же года из СНГ.
Эта акция позволила РФ:
– во-первых, расширить сферу своего влияния на Черном море;
– во-вторых, Россия провела запретную черту, указывающую пределы для расширения НАТО на Восток на «кавказском направлении»;
– в-третьих, эти события продемонстрировали слабость позиций Запада на Кавказе, выявив разногласия как среди европейских стран, так и между «Старой Европой» и Соединенными Штатами, которые ограничились, в основном, разного рода «резолюциями об озабоченности» и весьма неэффективными дипломатическими демаршами;
– в-четвертых, другие стремящиеся в НАТО постсоветские государства получили недвусмысленный жесткий сигнал о том, что их настойчивые стремления в Альянс могут закончиться войной с последующим расчленением их территорий.
С другой стороны, августовский кризис 2008 г. объективно открыл новые возможности для активизации на Кавказе Турции, которая выступила с инициативой создания системы региональной безопасности («Платформы мира и стабильности на Кавказе»), включающей в себя пять кавказских стран: Турцию, Россию, Азербайджан, Грузию и Армению, и приступила к налаживанию прерванных в 1993 г. отношений с Арменией. Все это свидетельствует о том, что Турция явно намерена использовать кризис на Кавказе для укрепления собственного влияния в регионе и своего статуса как регионального центра силы. Россия же, учитывая сложившуюся на Кавказе ситуацию, склонна поддержать инициативы Турции о создании «Платформы мира и стабильности на Кавказе» с условием участия в этом проекте Ирана, что позволило бы значительно ограничить влияние США и Евросоюза в этом регионе.
Попытки усилить свое влияние в Каспийском регионе предпринимает и Иран – региональная держава континентального типа, антиамериканская, антиатлантическая геополитически активная страна, чьи интересы в регионе во многом совпадают с интересами России. Учитывая, что территория Ирана является одним из геополитически ключевых звеньев для новых независимых государств Кавказа и Центральной Азии, полностью исключить Тегеран из участия в каспийских проектах Западу вряд ли удастся. Именно Иран, наряду с Арменией, является основным стратегическим союзником России, противостоящим продвижению НАТО на Восток.
Прежде всего, для Тегерана важно не допустить усиления влияния прозападных сил, способных лишить Иран доступа к важному со стратегической и экономической точек зрения региону. В свою очередь, расширение влияния на Кавказе и в Центральной Азии позволит Ирану укрепить свой статус региональной державы, что заставит тот же Запад считаться с позицией этой страны на международной арене. Основную же ставку в «каспийском направлении» своей внешней политики Тегеран делает на Россию как реальную силу, противодействующую натиску Запада в этот регион.
Принципиально поддерживая развитие международного сотрудничества во всем Каспийском регионе, в том числе в освоении его энергетических и биологических ресурсов, иранская сторона твердо выступает против какого-либо военного присутствия здесь нерегиональных стран. В то же время собственные интересы Ирана при определенном развитии событий могут способствовать дестабилизации обстановки в Каспийском регионе. В первую очередь речь идет о проблеме статуса Каспийского моря. Первоначально Иран занимал позицию, чрезвычайно близкую к российской: Каспийское море и его ресурсы должны рассматриваться с точки зрения кондоминиума – как общее богатство, без границ и секторов. Однако в дальнейшем руководство Ирана решило воспользоваться результатами развала Советского Союза, начав претендовать на большую, чем прежде, часть при разделе Каспийского моря, т.е. вместо 13 % – доля, на которую были согласны большинство прикаспийских стран, – на 20 % акватории Каспия.
Между тем, согласно трехстороннему соглашению, заключенному Россией, Казахстаном и Азербайджаном в мае 2003 г., было разделено 64 % акватории Каспия в его северной части. Казахстан получил 27 %, Россия – 19, Азербайджан – 18, Ирану и Туркменистану оставили 36 %, предложив делить их по своему усмотрению.
В целом же проблема окончательного определения международно-правового статуса Каспия из-за особых позиций Ирана и Туркменистана зашла в тупик. Причем в южной части акватории, где расположены перспективные месторождения нефти, неминуемо сталкиваются интересы Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Несмотря на то что на протяжении последних двух десятков лет ведутся достаточно интенсивные переговоры между Тегераном, Баку и Ашхабадом, конфликтный потенциал этой проблемы далеко не исчерпан.
Еще одно направление, где интересы Ирана в определенной степени вступают в конфликт с интересами России, – это проблема транспортировки энергоресурсов на мировые рынки. Иран предлагает прикаспийским государствам, прежде всего Казахстану и Туркменистану, направить часть своего экспорта через его территорию. Тегеран готов предоставить для этого готовую инфраструктуру: порты, причалы, нефтеперерабатывающие заводы в районе Персидского залива. Возможна и другая форма сделки, когда север Ирана снабжался бы энергоресурсами из Каспийского региона, а аналогичный их объем Тегеран продавал бы от лица этих стран на мировом рынке. Реализация подобных предложений объективно снизила бы роль России в регионе. Против подобных планов открыто выступают и США, которые полагают, что Иран стремится в перспективе «воспрепятствовать свободному перемещению энергоресурсов в мире».
Хотя Иран и Россия не располагают большими запасами нефти и газа в своих секторах Каспийского моря, давление со стороны сменявших друг друга администраций Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, которое испытывали за последние десятилетия и продолжают испытывать обе страны, в значительной степени способствовало сближению их позиций по ряду кардинальных вопросов, затрагивающих в целом Каспийский регион, например по вопросу о необходимости не допустить здесь доминирование Запада.
Стремление же Ирана осуществить свою ядерную программу способно спровоцировать неадекватную реакцию Запада, прежде всего США и Израиля, что может кардинально изменить всю военно-политическую ситуацию на Большом Ближнем Востоке с далеко идущими геополитическим последствиями как для Ирана, так и для России, не говоря уже о других прикаспийских странах.
Среди важных геополитических игроков, определяющих будущее Большого Среднего Востока и непосредственно влияющих на геополитические сдвиги на постсоветском пространстве, в особенности на Кавказе, выделяется Турция. После разрушения советского геополитического пространства в 1991 г. Турция получила реальный шанс максимально использовать новую конфигурацию на Кавказе и в Центральной Азии для усиления здесь своего геополитического влияния. В создавшейся в регионе геополитической ситуации Турция использовала собственное особое геостратегическое положение государства, «находящегося и в Европе, и в Азии», связи с евро-атлантическими военно-политическими структурами и идеологию весьма европеизированной, модернистской, но в то же время традиционно мусульманской страны. В наступившем столетии Турция предпринимает попытки корректировать свою внешнюю политику на «кавказско-каспийском направлении», взяв курс на укрепление отношений с Россией и Ираном, в частности в энергетической сфере. Вместе с тем, в целом, Турция, как и Иран, в настоящее время не обладает достаточными военно-политическими и экономическими возможностями, чтобы обеспечить себе доминирование в Каспийском регионе, вытеснив оттуда Россию и Запад.
Повышение интереса Китая к Каспийскому региону за последние два десятилетия продиктовано прежде всего тем, что Пекин явно опасается установления геополитического контроля США над регионом и приближения зоны американского влияния к своим границам. Во-вторых, в условиях резкого роста китайского импорта нефти и нефтепродуктов за последние годы Пекин стремится «застолбить», по крайней мере, хоть какой-то доступ к запасам нефти и газа Каспия на будущее в рамках общей задачи обеспечения своей энергетической безопасности. В целом, у Китая в этом регионе есть фундаментальные геоэкономические и гeoполитические интересы, в связи с чем его активность с течением времени будет только усиливаться, особенно в восточной части региона. Это связано, прежде всего, с перспективами китайско-казахстанского и китайско-туркменского сотрудничества, в результате чего Китай рассчитывает существенно расширить сырьевую базу для развития собственного топливно-энергетического сектора. Однако выход США в Центральную Азию может поставить под вопрос реализацию этого вектора китайской политики, что делает возможным возобновление интереса КНР к российским энергетическим ресурсам. Неслучайно в наступившем столетии Китай делает главный упор на активизацию сотрудничества с Россией и центральноазиатскими государствами как в двустороннем формате, так и в рамках ШОС.






