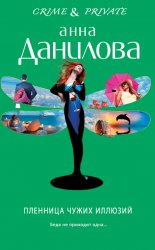С войной не шутят Поволяев Валерий
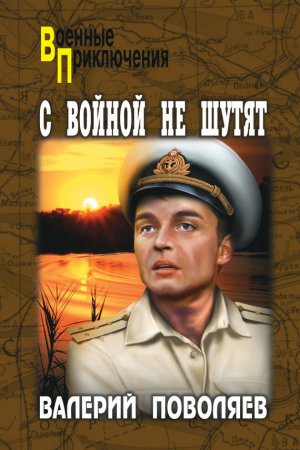
Мослаков почувствовал, как затылок ему сдавило что-то жаркое, распаренный асфальт под ногами дрогнул.
– Тогда скажите хоть, из какой вы сказки? – взмолился он.
– Вы не боитесь, что с вас за эту розу возьмут штраф в пятьдесят минимальных окладов? – спросила она строго.
– Не боюсь! – Паша гордо выпятил грудь. – Такие розы не имеют права расти на уличных газонах.
Наконец он смог получше рассмотреть девушку. Всякие красотки с обложек модных журналов, дивные топ-модели с ногами-ходулями и роскошными, до пояса волосами не годились ей в подметки. Это была настоящая врубелевская царевна. Длинная шея, персиковые, с легким, золотящимся на солнце пушком, щеки. Глаза такие, что в них можно утонуть – нырнешь и не вынырнешь, во взгляде скрыто нечто такое, что никогда не разгадать – ласковое, зовущее, таинственное. Верхняя губа приподнята вопросительным уголком, словно бы девушка хотела что-то спросить, но не решалась.
Мослаков ошеломленно покрутил головой, подумал, что в другой раз он спрятал бы свои восхищенные чувства куда-нибудь подальше, в самый глухой угол, но только не сейчас.
Девушка оглянулась – услышала непрекращающиеся стенания пенсионера.
– Ради вас я готов уплатить и пятьдесят минимальных окладов, – Мослаков сверкнул белыми зубами. – Не жалко.
Лицо девушки неожиданно смягчилось, в глазах что-то дрогнуло, она улыбнулась Мослакову. Это была его улыбка, она принадлежала ему – не улице, не солнцу, не роскошным иномаркам, проносящимся совсем рядом по шипящему разгоряченному асфальту, а ему. Лично.
Так иногда бывает: между совершенно незнакомыми людьми вдруг что-то пробегает, проносится какая-то электрическая искра, и мир мигом делается иным, и люди становятся иными – делаются красивее, добрее. Пусть это звучит слишком наивно, но это так. Странная невидимая связь, притягивающая людей друг к другу, действительно существует. Девушка наконец тоже рассмотрела человека, стоявшего перед ней. Человек был одет в простые джинсы с белесыми вытертостями на коленях и старую футболку с блеклым застиранным названием, увидела его глаза – надежные мужские глаза, подтянутое лицо с ямочкой на подбородке…
К пресловутым «новым русским» этот человек не относился – не та одежда, нет на шее «голды» – толстой золотой цепи, – нет перстней на пальцах и главное – отсутствует сальная улыбка и выражение вседозволенности в глазах; к «старым русским» он тоже не имел отношения, для этого не вышел ни возрастом, ни партийностью, ни брюзгливостью, он был – кем-то средним между «старыми» и «новыми»… Девушка протянула Мослакову руку:
– Ира!
А Мослаков вдруг засуетился, засмущался, у него совершенно исчезла напористость, позволившая ему выскочить из машины едва ли не на ходу и погнаться за незнакомой девчонкой, – покраснел, вытер пальцы о джинсы и ответно протянул руку девушке.
Она поняла, что неожиданно раскусила этого человека, он сделался ей понятен, как будто они давно были знакомы. Губы Иры дрогнули в смущенной улыбке.
– А по отчеству? – спросил Паша.
– По отчеству не обязательно.
– А по фамилии?
– По фамилии Лушникова.
Мослаков почувствовал, как по лицу его начинает расползаться жар – он не знал, что теперь говорить Ире Лушниковой, как говорить, что сделать, чтобы тоненькая ниточка, протянувшаяся между ними, не оборвалась. Он едва не застонал от досады – не знал, как побороть собственное онемение.
– Ира, вы верите в конец света? – вопрос этот вырвался у него помимо воли.
– Верю. А вы?
– В то, что он произойдет после какого-нибудь затмения солнца, – нет, но в то, что это будет в результате наших различных деяний, – верю. Есть такой академик Никита Моисеев, так он сказал, что если мы будем испытывать наше атомное оружие и дальше, то однажды наступит ядерная ночь. А после нее – ядерная зима. Солнце не взойдет, на земле не вырастет трава…
Мослаков понимал, что он несет чепуху, не это надо говорить, совсем другое, но он не мог остановиться. Если он сейчас остановится, то дальше уже не сможет говорить вообще.
– Бр-р-р, – Ира передернула плечами, – холодно становится от такой перспективы.
– И мне холодно, – Мослаков оглянулся на рафик, в котором его терпеливо дожидался мичман. – Ира, я не из Москвы…
– Я вижу.
– До недавнего времени я жил в Баку, в роскошной двухкомнатной квартире. А сейчас – в Астрахани, в чистом поле…
– Там, где воет ветер?
– Там, где воет ветер и волки скалят зубы. Из Баку нас выперли.
– Об этом я читала в газетах. Может, это и не так страшно, как кажется с первого взгляда?
– Может, и не так страшно, – Мослаков приподнял одно плечо и по-детски почесался о него щекой. Жест был трогательным, открытым. – Ир, оставьте мне ваш телефон, – попросил он. – И адрес. Я вам напишу.
Ирина почувствовала, что ей тоже захотелось приподнять одно плечо и потереться о него щекой, как сделал этот парень, еле-еле она подавила в себе это желание.
– Телефон – двести девяносто один…
– Счас, счас… – засуетился Мослаков, хлопая себя по карманам джинсов в поисках клочка бумаги. – Как всегда, мой «паркер» с золотым пером куда-то подевался… Вот напасть! – в голосе его послышались жалобные нотки. – Ира, я запомню телефон и адрес. Вы продиктуйте, а я запомню.
Она поняла, что ей тоже не хочется терять этого человека, – в нем есть нечто такое, чего нет в других. Она пока не смогла словами сформулировать, что же в нем есть, но интуитивно понимала – надежность. Это качество стало для нынешних мужчин редким. Можно, конечно, продиктовать телефон и адрес, но через минуту этот парень все забудет… Она открыла сумочку. Из записной книжки вырвала листок, написала на нем телефон, ниже – адрес.
Мослаков взял листок бумаги, поклонился Ире вежливо, великосветски, будто герой исторического фильма, поднес листок к ноздрям.
– Как божественно пахнет, – произнес он торжественно и одновременно печально, ощущая, что внутри него рождается испуг, – сейчас ему придется расстаться с этой девушкой, а этого очень не хочется. Он потянулся к ее руке, взял пальцы, поднес их к губам. Поцеловал. Затем круто развернулся и прямо через поток машин понесся к своему рафику, к терпеливо ожидавшему его мичману Овчинникову.
– Ну ты, Пашок, и даешь, – восхищенно проговорил тот.
– Такие девушки, дядя Ваня, встречаются один раз в жизни, – произнес Мослаков напористо – еще не успел остыть.
– Да ну!
– Да. Без всяких ну. Только да.
Он оглянулся – хотел засечь в грохочущем задымленном пространстве маленькую стройную фигурку Иры Лушниковой, но это ему не удалось: слишком много было людей, Ира растворилась среди них. Мослаков покрутил головой досадливо, подумал о том, что день этот, солнце нынешнее, жидким желтком растекшееся по небу, будто по сковородке, зеленый остров-газон, растущий посреди улицы, среди машин, на котором, будто верстовые столбы, встали розы на высоких ножках, увенчанные алыми и желтыми головками, приземистую, полустеклянную полубетонную конструкцию метро, ставшую совершенно прозрачной в летнем мареве, он запомнит навсегда. На всю жизнь.
Запомнит как праздник.
– Денег у нас с тобою, дядя Ваня, ноль целых, ноль десятых, – произнес Мослаков где-то за Тулой, среди зеленых замусоренных полей, мелькавших по обе стороны трассы.
– Ноль тысячных, – внес добавление мичман.
– Тех казенных крох, что есть у нас, не хватит даже, чтобы залить воду в радиатор. А посему…
– А посему будем калымить по дороге. Ты эту мысль, Пашок, высказал еще в Москве.
– Да ну? – удивленно произнес Мослаков. – Не помню.
– А я помню. Будем калымить. Если, конечно, попадутся подходящие клиенты. Не то можно нарваться на такого господина, что не только машины лишимся, но и последних двадцати копеек, завалившихся за складку в кошельке.
– Ну уж дудки! А стволы у нас на что! В зубах ими ковырять?
За Тулой они подсадили в рафик пять раздобревших, хорошо одетых теток-челночниц с одинаковыми клетчатыми китайскими сумками, набитыми товаром, доставили их в город Ефремов, где тетки намеревались реализовать свой товар по хорошей цене. В Ефремове машину «зафрахтовал» животастый потный коммерсант, который отнесся к рафику, как к судну, видать, раньше служил на флоте и направо-налево сыпал морскими терминами. Ему надо было перебросить партию видеомагнитофонов в Елец, что и было выполнено «экипажем» рафика в лучшем виде; а дальше пошла мелкая стрельба, которая особых денег им не принесла.
Но две поездки – с челночницами и толстопузым торгашом – навар принесли.
– Нам тут с тобой, Пашок, не только на селедку с хлебом, но и на пиво уже есть, – мичман был большим любителем пива, пристрастился к нему в Якутии, а до этого – в городе Охе, где работал у нефтяников.
– Селедку – отставить!
– Почему?
– Свою рыбу поймаем. Повкуснее селедки.
Паша Мослаков специально скривил маршрут, чтобы глянуть на село со странным названием Леденцы, в котором он двадцать четыре года назад родился.
Впрочем, село он совсем не помнил, поскольку в двухлетнем возрасте был вывезен из него родителями. В памяти осталось лишь призрачное видение: избы, покрытые снегом, холод пространства и трубы, из которых в высокое светящееся небо поднимаются ровные, без единой кривулины, дымы.
Из деревни Леденцы отец его, строитель, старший лейтенант, увез в Карачаево-Черкесию, которая тоже почти не сохранилась у Мослакова в памяти, кроме, может быть, сверкающих золотом ртов горных жителей. Золотые зубы там считаются признаком богатства, авторитета, людей с золотыми зубами уважают. Тоненькие, как прутинки, большеглазые, нежные карачаевские девчонки специально вышибали себе зубы, чтобы вставить золотые. Иначе, считалось, женихи на них даже не посмотрят.
Чего только не вспомнишь, чего только не передумаешь в дороге. В голове возникло даже это, карачаевское…
А потом отца с матерью не стало, они погибли. Селевой поток, сорвавшийся с гор, накрыл крохотный офицерский поселок, разместившийся в ущелье. Пашка в это время находился в пионерском лагере, и его, чтобы куда-то приткнуть, отправили в Нахимовское училище. Особо заниматься Пашкиной судьбой было недосуг. Из Нахимовского он попал в высшее военно-морское, откуда вышел, уже имея на плечах лейтенантские погоны.
Обычная судьба, обычные беды – все как у всех…
Было жарко, солнце припекало так, что дорога под колесами рафика по-змеиному шипела, брызгалась черной слюной, подрагивала зыбко, иногда вообще пропадала, и тогда вместо нее возникала ровная седоватая вода, огромное, в половину шоссе, зеркало, и Мослакову начинало казаться, что рафик вот-вот обратится в корабль, поплывет по водной глади, взбивая буруны и хрипя мотором. Но едва машина въезжала в эту воду, как вода исчезала, отступала поспешно, под колесами снова звенел противный задымленный асфальт.
Это был мираж – то самое призрачное видение, которое возникает только в пустыне, в гибельно-жаркую пору, и способно свести путника с ума. К корпусу рафика нельзя было прикоснуться – металл обжигал.
– Не могу больше, дядя Ваня, – пожаловался Мослаков, – сил нету ехать. Надо окунуться где-нибудь. Вон уже сколько километров без передышки отмотали.
– Пятьсот, – деловито сообщил мичман, глянув на спидометр, – от базы, с которой мы выехали, от ворот – ровно пятьсот.
– Все, хватит! Сворачиваем к первой же речке!
– И перекусить уже пора.
Из еды у них имелось полбуханки черного черствого хлеба, четыре вялых, купленных еще в Астрахани, огурца, четыре сваренных в мундире картофелины и пакетик с солью.
Дедовская еда, паек голодного времени, пайка солдата суворовской поры. Солдаты Суворова от недоедания были, говорят, такие худые, что им мундиры специально подбивали ватой, чтобы выглядели потолще.
С другой стороны, у наших героев в карманах уже имелось кое-что, уже звенели кое-какие деньги.
– Пора, – согласился Мослаков.
– А как насчет рыбки, Паша?
– Будет вода – будет и рыбка.
Солнце продолжало припекать, оно сделалось нестерпимым, будто не куриное яйцо уже растеклось по небу, а жидкий металл, небесный свод был целиком залит расплавленным железом.
Километров через десять они увидели реку – небольшую, спокойную, с прозрачной водой, обрамленную кудрявыми кустами, с песчаными куртинами, на которые наползала вода. Мослаков решительно сбросил скорость, свернул к речке. Скатился в мягкий длинный ложок и остановился только тогда, когда въехал передними колесами в воду.
– Э-э-эхма! – закричал он восторженно, громко, прямо в кабине сбрасывая с себя одежду и наполняясь ликующим, знакомым еще с детства азартом, когда можно было содрать с себя неудобную нахимовскую форменку, почему-то все время жавшую под мышками, сковырнуть с ног тяжелые жаркие ботинки и прыгнуть в воду. А там уж, блаженствуя, поговорить с многомудрыми, все знающими пацанами о жизни, о девчонках, о будущем. Он торопился, не замечая снисходительной улыбки мичмана, наполнялся восторгом, будто резервуар водой, и почти не контролировал себя. – Э-э-э!
Прыгнул в воду и очень ясно услышал сердитое шипение, какое обычно издает раскаленный металл, на который попадает влага.
Продолжая восторженно вскрикивать и охать, Паша, кокетливо прихлопывая ладонью по воде, переплыл на противоположную сторону – в детстве этот стиль плавания называли саженками, – нырнул у противоположного берега под кусты, в яр, через минуту вынырнул, держа в руке крупного неповоротливого рака с широким хвостом.
– Рак! – не удержавшись, ахнул Овчинников. – Самое то к пиву!
Мослаков, не выпуская рачиху из руки, – раз с икрой, то, значит, рачиха – вновь нырнул и довольно долго не показывался на поверхности. Только в воде что-то похрюкивало да наверх выбулькивали крупные пузыри… Мичману начало мниться, что Паша задыхается в воде, он даже представил себя в Пашиной оболочке, и ему тут же стало не хватать воздуха, а Паша все не вылезал и не вылезал, сидел в омутке под берегом, да пускал пузыри. Мичман почувствовал, как тело его пробила дрожь. Но вот Паша громко, пробкой, вылетел на поверхность воды, залопотал что-то непонятное, заухал и возвестил о своей победе ликующим воплем: в другой руке он держал еще одного рака.
– Молоток, товарищ командир! – не стал скрывать своего восхищения мичман.
– Попался законный супружник этой вот самой дамы, – Мослаков потряс рукой, в которой была зажата рачиха, потом потряс другой рукой. – Забился, гад, в нору, клешни выставил – никак не взять. Щелкает клешнявками, кусается и не дается. Но нет таких крепостей, которых не брали бы русские морские офицеры.
У мичмана даже под мышками зачесалось – так захотелось в воду. Но нельзя: раз один сидит в воде, то другой должен на берегу куковать, стеречь оружие и машину – это закон.
Он вытер ладони о траву, поболтал ими в воздухе, остужая кожу, потом вытер пот. Сразу обеими ладонями.
– Жара, как в домне, Пашок, – прокричал он, словно бы Мослаков сам этого не знал.
А капитан-лейтенант тем временем выбрался на берег.
– Рачья речка – явление редкое, – Мослаков запритопывал ногами, сбивая с них ошмотья тяжелого, клейкого ила. – Мы будем круглыми дураками, если уедем отсюда без таза раков. Твоя задача, дядя Ваня, проста – нарвать крапивы, намочить и набить ею ведро. У нас там, в рафике ведро есть…
– Где?
– Э, дядя Ваня, дядя Ваня! Что бы ты делал, если бы о тебе не беспокоился Павел Александрович Мослаков?
Переложив раков в одну руку и надломив им клешни, чтобы не кусались, Мослаков открыл заднюю дверь рафика, приподнял брезент, лежавший на полу, – под брезентом поблескивало своими боками новенькое оцинкованное ведро.
– Ну как? – довольно спросил Мослаков.
– Фокусник! – восхищенно произнес мичман.
– Ловкость рук, и никакого мошенничества. Пока любитель «Смирновской» лобзал бутылку, я это ведро и оприходовал. Пригодится. В дороге вообще все гоже бывает, – Мослаков швырнул раков в ведро. – Главное, дядя Ваня, для сохранения товарного вида этих животных – мокрая крапива. Иначе мы раков до пива не довезем. И костерок надо бы затеплить. Десяток раков мы запечем здесь, пообедаем.
– Прямо в костре, по-походному? С грязью, с пылью, с копотью костерной?
– Зачем же? Сделаем все культурненько, как на каком-нибудь кремлевском приеме в честь высокого иностранного гостя: на настоящем противне, – Мослаков, будто фокусник, вытащил из-под брезента кусок кровельного железа, положил его на траву. – Личный подарок господина прапорщика. Прапор щедрый этот знал, что мы остановимся на берегу рачьей речки.
Мичман почувствовал, что тело его наполняется неким легким восторгом, – ну, будто бы у ребенка, – он издал птичье фырканье, покрутил восхищенно головой:
– Ну, Пашок-Запашок!
А Паша уже вновь мерил реку кокетливыми саженками, отплевывался водой, устремляясь к густому темному кусту, нависшему над блестящей тканью воды.
– Здесь должны быть хорошие добычливые норы, – на плаву, фыркая, прокричал он, – не занесенные илом. Раки, они обязательно чистят свои норы, в иле не живут.
– Они кусаются, Паша! – вдруг воскликнул мичман.
– Ну и что? Это же хорошо! Раки, которые не кусаются нам, дядя Ваня, не нужны. Это дохлые раки.
Через полчаса ведро было полностью набито беспокойно шевелящимися, крупными, будто подобранными для выставки, раками.
– Вот что значит удобрения на поля перестали вывозить, гадость прекратили сбрасывать, – сказал мичман, – в речках сразу раки появились. Чисто стало, дерьма нет. И главное, мерзавцы – как на подбор, все – калиброванные.
– Мелкие тоже попадались, – сказал Паша, отдуваясь и прыгая на одной ноге, вытряхивая налившуюся в ухо воду, – но я их не брал.
В нескольких метрах от машины в небо уже поднимался сизый струистый дымок – на песчаной плешке мичман развел костер, Мослаков кинул на него лист железа – оцинкованный, чистый, блестящий, объявил довольно:
– Сейчас залудим такое блюдо, что ни одному ресторану не приснится.
– Ну Пашок, ну Запашок!
Печеные раки, посыпанные солью, стреляющие душистым парком, нежно щекочущим ноздри, оранжево-красные, с загнутыми лопастями хвостов, были вкусны, таяли во рту, обжигали язык, небо, делали физиономии едоков счастливыми и глупыми. Детский восторг обуял их. Ну, ладно бы обуял только Мослакова, человека молодого, восторгу поддался и лысый, с седыми висками, немало настрадавшийся в жизни мичман…
Поев раков, мичман проворно скинул с себя одежду, затем, опасливо глянув в одну сторону, следом в другую, смахнул трусы и прямо с бережка, животом шлепнулся в воду. Из воды, погрузившись в реку с лысиной и шумно, с воплями и пришлепыванием вынырнув, прокричал:
– Ты, Пашок, посиди малость на берегу, постереги казенное имущество, а я градусы с себя собью…
Капитан-лейтенант со снисходительной улыбкой наблюдал за Овчинниковым, думая о том, что нетребовательному человеку для счастья нужно очень мало: сунет ему судьба маленькую подачку в виде десятка раков и купания в жаркую пору, когда на плечах от солнца дымится кожа, и человек уже счастлив. Эх, жизнь!
Через двадцать минут они двинулись дальше.
Если уж в средней полосе России вызвездилась жара сродни африканской, то можно себе представить, какая она была на Волге, в Астрахани, да в нижней части реки. От жары здесь слепли даже коровы.
По Волге плыло много рыбы: осетры пробивались вверх по течению, за гигантскую плотину Волгоградской ГЭС, тыкались мордами в бетон, разворачивались, пытались взять плотину на скорости, с лету. Здоровенные дураки, привыкшие к собственной силе, они вели себя здесь, как малые дети, увечились, уродовались почем зря, и хотя разные умные дяди построили для них специальный рыбоподъемник, этакий осетровый лифт, дурные осетры про него и знать ничего не хотели. У них существовали собственные правила жизни, собственные законы, и порушить их люди не могли.
Их калечила ГЭС, калечили винты теплоходов, выставляли свои снасти с привязанными к ним десятками тысяч крючков браконьеры.
А тут еще, стоило малость пройти дождям да прибавиться воде, в реку с окраин волжских городов полезла ядовитая химия, смешанная с мусором и разной бытовой дрянью… И как защитить их, родимых, от напастей, которые им придумал человек, не знает никто. В том числе и сам человек. Плывут сверху, из-под плотины, мертвые тяжелые осетры, похожие на бревна, показывая солнцу вздувшиеся животы, в каждом втором таком животе – дорогая икра.
Сторожевик капитан-лейтенанта Никитина, тихо постукивая двигателем, спускался по одному из судоходных банков вниз, к Каспию. Воды было много. В Волге существовало, наверное, не менее пятисот ериков, то есть протоков, и только полтора десятка из них, а может, и того меньше были способны держать в своей воде крупные суда. Это банки. Банк – это глубокий ерик.
Вода кое-где стояла вровень с землей, стоит только чуть побольше дать ход, как на берег, сминая камыши, накатывал кудрявый вал. Если на берегу земля была твердая, сочная, то какой-нибудь страстный любитель овощей, радеющий, чтобы каждая свободная пядь нашей планеты была пущена под огород, обязательно высаживал на ней помидоры. После такой волны от помидоров оставались лишь одни листики.
Никитин стоял в рубке и попыхивал сигаретой. От него сильно пахло «Шипром», он даже сам чувствовал этот запах – тот назойливо лез в ноздри, хотя Никитин и привык к нему.
– Товарищ командир, на нас слева надвигается неопознанный объект, – предупредил его рулевой и, чтобы Никитин получше рассмотрел объект, крутанул штурвал, освобождая командиру пространство для обзора.
В полноводный, рябой от ветерка, приносящегося с недалекого моря, банк вливался ерик. Из ерика неторопливо выплывала крупная полутораметровая туша осетра, перевернутого вверх брюхом. Брюхо имело нежный желтый цвет, отвердело, осетр превратился в бревно.
На осетре сидела толстая важная ворона и с невозмутимым капитанским видом поворачивала голову из одной стороны в другую, словно бы на ходу проверяла глубины, высматривала места поспокойнее, пошире, подавала мертвому осетру команды, куда свернуть.
Вороны – существа чуткие, человеческий взгляд ощущают на большом расстоянии, какое не всегда может взять даже малокалиберная винтовка, и эта ворона тоже, хотя совершенно не боялась железной, вяло громыхающей посудины, взгляд человеческий почувствовала и забеспокоилась, затопталась на мертвом осетре, стрельнула острым злым глазом в железный корабль. Корабль был тяжелый, вода с ним справлялась с трудом, осетр с сидящей на нем вороной шел быстрее и скоро начал догонять сторожевик.
Тем временем из ерика показалась еще одна ворона-капитанша – такая же жирная, едва державшаяся на ногах, тяжелая, видно, объелась икры, которую она выклевывала из распотрошенного брюха. Ворона плыла на огромном, в полтора раза больше, чем первый, дохлом осетре. Осетр, будто лодка, неспешно врезался носом в волну, раздвигал воду всем корпусом и шел так ходко, будто имел собственный мотор.
– Первый раз вижу, чтобы вороны так вольно плавали по Волге, товарищ капитан-лейтенант, – проговорил рулевой, поглядывая вперед, в простор полноводного банка и одновременно косясь на клювастых мореходов, – и главное, воды не боятся. А это на ворон совсем не похоже.
– Пусть подплывут поближе, – с угрозой пробормотал Никитин, – мы из них суп сварим.
– Фу, товарищ командир!
– Чернышу, – добавил Никитин.
На базе у матросов появился общий любимец – пес, которого так и звали – Общий Любимец. И еще – Черныш. Признавал он только людей в военной форме, больше никого. Гражданских яростно облаивал. Что самое интересное – пес ел сырую рыбу. Будто кот. Хотя собаки сырую рыбу не едят. Общий Любимец мог часами сидеть, выжидая где-нибудь в кустах, когда появится достойная добыча. Мель хорошо прогревается солнцем, там любит резвиться разная молодь. А до «мух» этих, до молоди, очень охочи бывают и судак, и окунь, и жерех, и сом, даже крупная тарань, именуемая небрежно тарашкой, и та стремится полакомиться мальками. Поэтому на мели время от времени налетает вихрь, небольшие теплые заводи превращаются в гейзеры, из которых «мухи» выпрыгивают на берег, стараясь переждать налет, а потом вновь шлепаются в воду.
А Общий Любимец, как не раз замечал Никитин, сидит в кустах и терпеливо ждет, когда появится очередной «браток»-налетчик. С большим «братком» ему, конечно, не справиться, большой может и покусать пса, и в воду уволочь, – поэтому он ждет. Ему нужна подходящая «кандидатура».
Вот на мели, осторожно скребя пузом по песчаному дну и ощупывая пространство перед собой мордой, появляется «кандидатура» – пятнистая семидесятисантиметровая щука с узковытянутой головой, похожая на торпеду.
Общий Любимец бросается на щуку в тот момент, когда она, прижавшись к теплому песчаному дну, примерилась уже взвихрить клуб грязи и накинуть его на молодь. Славный это обед – скопище молоди. Но над кустами вдруг возникает черный лохматый шар и стремительно, по-коршуньи, пикирует в воду.
В воздух взвиваются блестящие брызги.
В последний миг щука делает стремительный бросок в сторону, уходя от накрывающего ее шара, но Общий Любимец оказывается проворнее. Он успевает одной лапой ударить щуку по голове, та свечкой взвивается в воздух, и тогда Черныш наносит ей удар второй лапой – более жесткий, прицельный, снизу, в набрякший огузок, провисший между жаберными крышками, щука плюхается в воду и, оглушенная, переворачивается вверх пузом.
Черныш совершает очередной прыжок, последний, и, ловко ухватив зубами рыбу за основание головы, шумно плескаясь, взбрыкивая задними лапами от радости, тащит «кандидатуру» на берег для разбирательства.
Всякий раз Общий Любимец аккуратно съедал свою добычу, ничего не оставлял, даже хребта, а потом бывал весел и сыт целый день…
Первая ворона тем временем приподнялась на осетре, стрельнула глазом в сторону сторожевика, будто из «орудья» пальнула, громко, во всю глотку, что-то проорала. Словно бы подала своей напарнице команду «Пли!». Вторая ворона также приподнялась и также гаркнула на сторожевик, отгоняя его от себя. Никитин в ответ лишь усмехнулся и расстегнул кобуру пистолета.
Первая ворона находилась уже совсем близко. Она вновь долбанула клювом осетровое нутро, выхватила крупный кусок черной, жирной, клейко слипшейся икры и защелкала клювом, стремясь проглотить его разом, замотала по-собачьи головой, закрякала. Икра забила ей пасть, ни вдохнуть, ни выдохнуть, ворона, стремясь проглотить кусок, подпрыгнула на осетре один раз, потом другой и третий, – действовала она осмысленно, совсем как человек, и осмысленностью этой своей, обжорством вызывала в Никитине двойную брезгливость.
– Хоть и говорят, что ты умная птица, а ты птица глупая, – Никитин поморщился, пристроил ствол пистолета у себя на локте и, почти не целясь, выстрелил.
Выстрел был достоин мастера спорта, пуля подсекла ворону, подкинула ее ввысь метра на три. Ворона взлетела вверх раскоряченными лапами, теряя в воздухе перья и пух, застрявший кусок икры выбило у нее из горла, размололо на мелкие куски, и он дробью попадал в воду. Следом в мелкую рябь тяжело шлепнулась сама ворона, дернула пару раз лапами и ушла на дно.
– Через пару суток от нее даже перьев не останется, – сказал Никитин, наводя ствол макарова на вторую ворону. – Здесь много сомов, а для сомов вороны – лучшая еда.
– Отлично, товарищ капитан-лейтенант, – восхищенно прошептал рулевой. – Отличный выстрел. Мне бы так научиться!
Никитин на реплику не обратил внимания.
– Сейчас мы приголубим и вторую, чтобы рот на икру не разевала, – сказал он.
Вторая ворона не ожидала от своей товарки цирковых кульбитов, щелчок выстрела, утонувший в стуке двигателя, не испугал ее. Она приподнялась на осетре, изумленно глянула в воду и в следующий миг, оттолкнувшись лапами от мертвого бревна, тяжело взмахнула крыльями, и Никитин подбил ее выстрелом уже на лету. Пуля проткнула ворону насквозь и зашвырнула в камыши. Два мертвых осетра с опорожненными выклеванными брюхами поплыли дальше.
Рулевой вновь произнес что-то восхищенное, скосив глаза на Никитина. Он пробовал как-то стрелять из макарова еще в Баку, сделал пять выстрелов, и все пять – мимо: у пистолета была сильная отдача, ствол, как ни держи рукоять, обязательно дергался, подпрыгивал, рука после стрельбы ныла.
А капитан-лейтенант щелкал ворон, будто на показательных учениях перед командой генералов. Вот что значит – специалист…
Ночью жара малость спадала и воздух начинал гудеть от комарья и прочей летающей, прыгающей, бегающей, пищащей, зудящей, ползающей, крякающей, скрипящей, свистящей, шуршащей, сипящей живности. Фонарей не было видно, их сплошь облепили мотыльки, бабочки, мошка, жучки, мухи. Свет почти не пробивался сквозь стекло, сочилась какая-то серенькая мертвенная сукровица, в которой невозможно было разглядеть даже собственные пальцы.
Астрахань в ночную пору жила в темноте. Электрический фонарь невозможно было включить – на свет с гуденьем, будто вражеские самолеты, мигом устремлялись летающие твари.
Часовые, охранявшие базу морской пограничной бригады, фонари старались не включать. Даже рот и тот невозможно было открыть – мигом забивало комарьем. Жаркие ночи эти были тревожными. Людей в бригаде не покидало ощущение, что вот-вот должно что-то произойти. Это было ощущение беды.
Территорию базы укрепить пока не удалось, для этого нужны были деньги, нужен был строительный материал – кирпичи, цемент, проволока, бетонные столбы, песок, гравий, кровельное железо. От густого нефтяного духа, повисшего над этой землей, казалось, невозможно было избавиться, он пропитывал людей насквозь, до костей, хотелось немедленно бежать в баню и – мыться, мыться, мыться… Но бани в бригаде еще не было.
Спасало то, что рядом находилась река. На отмелях вода делалась такой горячей, будто ее специально подогревали. Если бы была их воля, матросы из Волги вообще бы не вылезали.
Пропитанный нефтью грунт срезали и на грузовике вывозили на заболоченный соляной пустырь – там все равно ничего не растет, и расти никогда не будет: слишком ядовитые это места. Работа эта была тяжелой, нудной и, главное, ей не было видно ни конца ни края.
Под пропитанной нефтью землей неожиданно обнаружился старый асфальт, положенный еще до войны, – прочный, каменного замеса, такой асфальт способен жить века, его не берет ни время, ни гниль.
Где-то на севере погромыхивал гром, но тучи опорожняли свои чрева за Волгоградом, в степях, до Астрахани не дотягивали; здешние степи страдали от безводья. Земля ссохлась. Пыль, собиравшуюся на городских улицах, можно было поджигать, она горела, как порох.
Оганесов не заставил себя долго ждать – через несколько дней на базу ночью ворвались пять джипов. Напрасно часовой, стоявший в воротах, кричал, срывая себе голос: «Стой, кто идет?», «Стой, стрелять буду!» – на него, во-первых, никто не обращал внимания, а во-вторых, стрелять он все равно бы не осмелился. Приказа у него такого не было. В-третьих, часовой не знал, что из этого может получиться. А получиться могло так, что паренька этого, придушенного стальной удавкой, сбросили бы в воду и отправили плыть ногами вперед в Каспий. Время на улице стояло разбойное. Непростое время.
– Стой, стрелять буду! – надрывался часовой, с ужасом поглядывая на поваленные ворота, на полусбитый, похожий на огрызок зуба кирпичный столб, разрушенный мощным ударом одного из джипов, к носу которого был привинчен «страус» – прочное гнутое приспособление.
Впрочем, столб этот был совсем свеженький, поставили его недавно, два дня назад, он не успел еще толком высохнуть, окаменеть, поэтому джип и снес его так легко.
Разглядев это, часовой, оглушенный, смятый суматохой, занявшейся во дворе, едва не заплакал. Ведь наезд джипов на территорию воинской части в его понимании можно было сравнить лишь с нападением фашистской Германии на Советский Союз.
– Стой, кто идет? – закричал он вновь, не контролируя себя и не слыша того, что кричит. – Стой, стрелять буду!
Наконец его услышали, один из джипов развернулся в сторону несчастного часового, осветил фарами. Из джипа выскочил дюжий, с гладко выскобленным затылком и с хриплым сивушным дыханием молодец и, прикладывая ладонь ко лбу словно былинный богатырь, подступил к часовому, стараясь получше рассмотреть, что это за Змей Горыныч осмелился кричать.
– Стой, стрелять буду! – отчаянно завопил часовой. Был он пареньком в своей вологодской деревне, наверное, храбрым, хвосты коровам скручивал не задумываясь, по-рейнджерски бесстрашно, и девчонкам подолы пробовал задирать, а потом, когда уже ничего не получалось, готовно подставлял им под удар физиономию, терпел, но здесь, на воинской службе, он еще не освоился, и вот – совсем сплоховал, пропустил на территорию воинской части моторизованную банду и запаниковал.
– Стой, стрелять буду! – вновь просипел он смято, голос у него разом исчез, растворился внутри, нырнул в желудок, и он ткнул стволом автомата нависшего над ним бандита.
Бандит ухватился пальцами за ствол калашникова – раз предлагают ему автомат, значит, надо его брать – и ловко вывернул оружие из рук часового.
Лишившись автомата, вологодский паренек не выдержал, прижал руки к лицу и заплакал: он знал, что может быть за потерю оружия на посту. За это могут и судить. Хотя вряд ли… Время ныне такое.
Он отполз в сторону, присел около разрушенного столба, на котором висели сбитые ворота, и притиснулся к нему спиной. Бандиты не обращали на него внимания, вели себя степенно, без суеты, они считали себя хозяевами этой земли и вели себя как хозяева.
– Ну что, спалим главную постройку, что ли? – услышал часовой чей-то трубный вопросительный бас. – Пара канистр с бензином у меня в джипе есть. Взял на всякий случай.
– Зачем? Нам эта постройка еще пригодится. Вояки отсюда все равно уйдут, а мы останемся.
– Тогда давай пару гранат в окно кинем!
– И это не надо делать. Потом помещение ремонтировать придется. Оганесов тебе за гранаты ноги из задницы выдернет.
– Но что-то же сделать надо! Нужно же показать погранцам, что они – никто, а мы – все!
– Погоди, дай малость головой потумкать. Надо покорежить всю технику, что стоит во дворе, – это р-раз…
Он не успел договорить. На крыше штабного дома загорелся прожектор, рассек пространство острым лучом, от него даже воздух задымился, а по пыли, по земле, по вывернутым из преисподней ломаным кускам грунта побежали колючие искры, в следующую секунду с крыши же коротко и злобно гавкнул пулемет. Несколько пуль всадились в землю рядом с джипами, взбили горячие светящиеся облачка.
– С-сука! – встревоженно заорал человек, который только что, «потумкав головой», предлагал покорежить старую грузовую машину – единственную «тягловую» силу в хозяйстве бригады, работающую на расчистке двора. – С-сука!
Пулемет ударил вновь, на этот раз очередь была длиннее, прицельнее, пылевые светящиеся столбики взбились у самых ног налетчиков.
Старший из прибывших «быков» – человек с хриплым голосом, бригадир, вскинул руку с зажатым в ней пистолетом, трижды выстрелил, целясь в прожектор и все три раза промазал. Пулемет загавкал опять.
– Он нам все машины покрошит! – закричал кто-то, давясь собственным криком, испугом, воздухом, будто плохой едой. – Уходить надо!
– Уходим! – незамедлительно скомандовал бригадир. Пообещал с угрозой: – Но еще вернемся!
Налетчики торопливо попрыгали в машины: пулемет – штука серьезная, если начнет сечь – капусту из них нарубит запросто. Напороться на такую грозную дуру они не рассчитывали. Джипы взревели моторами и один за другим понеслись со двора. Из окна последней машины был выброшен отнятый автомат.
Через полчаса на своей старенькой «Волге» приехал комбриг Папугин. Походил по слабоосвещенной территории базы, задумчиво похмыкал в кулак.
– Ладно, – наконец сказал он. – Все это мы восстановим. Потери наши невелики.
Поднялся наверх, на второй этаж, где находился дежурный – старший лейтенант Чубаров. Его сторожевик стоял пока в затоне – не было горючего, да и главный двигатель «семьсот одиннадцатого» требовал переборки. Папугин выслушал доклад и брюзгливо зашевелил ртом:
– Ты чего же такую стрельбу поднял? Да еще из пулемета! Разве телефона нет, чтобы вызвать подмогу из милиции?
– Телефон обрезан, товарищ капитан первого ранга.
Папугин невольно крякнул.
– А радио на что?
– Выход по радио у нас только на корабли.
– Разве в милицейскую волну мы не можем вклиниться?
– Нет. Мы не знаем их частот.
– Надо договориться с управлением внутренних дел…
– Они свои частоты меняют едва ли не каждый день. Бандиты пеленгуют милицейские каналы, поэтому смена там происходит на каждой «утренней линейке».
Комбриг снова крякнул.
– На израсходованные патроны составь, Игорь, акт, – сказал комбриг. С Чубаровым он был на «ты» и по имени: хорошо знал его отца, также капитана первого ранга, умершего несколько лет назад в Баку. – Списать их надо по всей форме.
– Есть составить акт на израсходованные патроны! – Чубаров весело вскинул руку к козырьку.
– Этот Оганесов нас в покое, похоже, не думает оставлять. Поступить с ним так же, как он поступил с нами? – Папугин озадаченно зашевелил губами. – С бандитами по-бандитски? Никто нас не поймет.
– А если разобраться с ними втихую?
– Тоже не пойдет. Но что-то придумать надо…
Рафик с экипажем из двух человек – капитан-лейтенанта Мослакова и мичмана Овчинникова – продолжал нестись на юг. Под колесами повизгивала дорога, жаркий ветер, врывавшийся в окна, обваривал щеки. Часа через два, на Дону, решили устроить рачий обед.
– Главное сейчас, дядя Ваня, найти какой-нибудь скромный сельский магазинчик, где продается дешевое холодное пиво, – Мослаков оторвал руки от руля, хлопнул ладонью о ладонь. – Ах, какая восхитительная вещь – раки с пивом. Это же явление! Диво природы! Жаль только, в русской литературе ракам отведено слишком мало места.