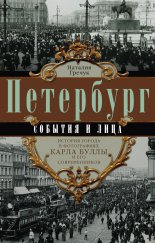Ледобой Козаев Азамат
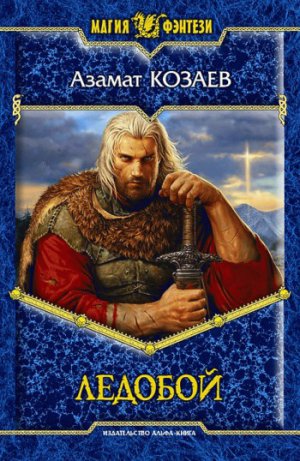
Безрод прислушался. И ничего не услышал. Но город велик, не враз и обойдешь. Может быть, и поют. Наверное, не врет Перегуж.
Сивый припал к чаше. Вкусило горькой полынью, терпкой рябиной, клюквой и чем-то еще. Отменное питье! Последние капли Сивый метнул в воздух, и налетевший ветер унес их с собой, не дав упасть наземь. А Безрод зашатался, перед глазами все поплыло, завертелось. К нему кинулись Перегуж, Стюжень, но Сивый опередил всех. Будто скошенный сноп, рухнул в растоптанную грязь, в лужу воды и крови. Достал-таки второй близнец. Чаша крепкого меда Безрода и свалила.
– В избу. Живо, – рявкнул Стюжень.
Перегуж и кто-то из парней, подхватив беспамятное тело, мигом унесли. Вроде бы плакать надо. А ворожец улыбался.
Рана оказалась не опасной. Меч ровно и аккуратно рассек бок над печенью. Стюжень костяной иглой, волчьим сухожилием деловито сшил разрез. Известно, от волчьего живучей становишься. Во время штопки к Безроду вернулось сознание, и от нечего делать Сивый считал бревна в стене. Одно неудобство – в голове хмель буянил, с глазами играл.
Через день Сивый встал. Только погляди! Перенес-таки старый хрыч в дружинную избу! Что хотел, то исполнил. Безрод потянул бок. Болит, но жить можно. Ишь ты, даже ложе застелили, чтобы мягче почивалось! Вышел на крыльцо. Только что кончился приступ. Вои суетились, носили раненых. На пороге избы двое озирались: куда класть? Сивый кивнул за спину, дескать, клади на мое место. Как раз нагрел для такого случая. Вышел во двор. Там за амбаром, на пустыре стоит одинокая темная, в которой коротал время между поединками. Там и доживать свое. В тишине да темноте спокойнее песни складываются. Жаль только, звезд не видать, не треплет ветер неровно стриженую седину.
Но, повернув за амбар, Безрод остолбенел. Не стало больше темной. Сгорела. Дотла. Сивый сдал назад, в растерянности оглянулся по сторонам. Будто дом родной потерял. Как же так?! Видать, шальная огненная стрела попала в кровлю, в пылу схватки и не заметили. А как отбились, уже догорала. Безрод присел рядом с обугленными головешками и опустил голову. Усмехнулся. Куда теперь идти? Было единственное место, где мог укрыться от «гостеприимства» князя. В дубовых стенах клети все менялось, и съеденный хлеб ни к чему не обязывал. Куда теперь? Осталась только одна крыша – бескрайнее небо над головой. В закатной заре Сивый ступил на пепелище, разгреб сапогом золу, и вдруг из-под ноги, в облачке пыли выкатился березовый чурбак с ликом Ратника. Ты гляди, не сгорел. И даже кровь с лика не сошла.
– Дурак я. Мало таких на свете. – Безрод присел, взял в руки лик, усмехнулся. – Зато видать издалека.
Прижал к груди, бросил плащ на землю и, свернувшись калачиком, встретил осеннюю ночь.
Хоть и студеной выдалась ночь, Сивый будто на печи пролежал. Спекся весь, ровно глина в огне. Сам заполыхал, едва не сгорел. Таким и нашли поутру, в пылу да в жару. На нем даже иней стаял. Дружинные кругами ходили, а на руки взять не решились. Безрод волком глядел и ничего не говорил. Встать не мог, говорить не мог, трясся, будто пес после воды. Свернулся клубком, подтянул колени к груди, молча скалился, да зубы показывал. И лишь когда подошел Стюжень, успокоился. Но даже в горячке усмехался. Дуракам закон не писан, если писан – то не читан, если читан – то не понят, если понят – то не так. Последнее дело уходить на тот свет, оставляя после себя долги. Лучше задолжать другу, но не обмануть честного врага. Чуть не задолжал поединок Брюнсдюру. Что сказал бы ангенн полуночников, узнай о смерти противника? Наверное, удивился бы и спросил: «А где мой поединщик? С последней схватки ушел на своих ногах!» Ответили бы со стены: «Спекся, дурень, лежит в золе!» Усмехнулся бы оттнир и был прав. Сто раз прав.
Безрод открыл глаза. Крыша над головой. В середине и по бокам огромные рогатые столбы. Наверное, амбар. Весь ложами заставлен. Бойцы мрачны, угрюмы, точат оружие, перевязываются, кто-то спит. Горят лучины. Маслянки уже не зажигают. Нечего добро переводить, как бы голодать не пришлось. Многие ложа свободны, чисто застелены полотном, в изголовьях шлемы лежат. Эти, стало быть, отвоевались. Ничего, нанесут еще раненых, сразу после приступа нанесут. Сивый усмехнулся. Жизнь стала похожа на перегонки с ранами: одна затягивается, другая на подходе, третья порожек обивает. Из огня – да в полымя, ни дня без заботы. Уже и забыл – каково это, когда нигде не болит.
Безрод зашевелился, заерзал. Вои подняли головы. Хотел было съязвить, но промолчал. Смотрят настороженно, ровно не поймут, что за зверь такой? Было чудище, знали его страшным, зубастым, клыкастым, а вот сбросило шкуру, и как это называть? Глядят недоверчиво, не знают, каким глазом щуриться. Сапогом, как раньше, запустить неловко, но и княжий приговор по-прежнему в силе.
Сивый приподнялся на локте, поморщился – не с того бока вставать начал – и сбросил ноги вниз. Дружинные как-то странно косились. Многих Безрод уже знал. Моряй, Трескоташа, Щелк, Остряжь, Рядяша… Пока искал сапоги, чувствовал на себе взгляды. Поднял голову, непонимающими глазами оглядел каждого и похолодел.
– Сколько без памяти был?
Прошептал еле слышно, однако, Моряй, лежавший ближе всех, услышал.
– Два.
– Болтал?
– И болтал, – Моряй улыбнулся, – и пел.
– Пел? – Безрод нахмурился. Неужели про счастье, пахнущее молоком? – Что пел?
– Да разное. – Моряй, как ни был измучен, едва не смеялся. – Мало в краску не вогнал, а уж мы всякое слышали!
И весь амбар грянул таким гоготом, что спящие подскочили, а со столбов снялись перепуганные голуби.
Два дня Безрод провалялся в горячке, все это время пел, и закрыть ему рот не было никакой возможности. Почитай, два дня вои не спали, слушали, разинув рты. Иногда боялись, что Сивому не хватит дыхания, так долго держал он голос. Два дня Безрод мотал парней по морям неизбывной тоски и молодецкой удали. Два дня Сивый вспоминал речной плес, поединок за поединком, и теперь вся дружина знала до слова разговор Безрода с вождем полуночников. Два дня без устали твердил, что нужно во что бы то ни стало выйти на плес, просто выйти, а там будь, что будет. Что еще наговорил?
Сивый нащупал сапоги и слабыми руками натянул. Хорошо, что у столба положили, можно встать. Постоял у столба, прогоняя головокружение, сделал шаг. Вои что-то говорили, предлагали плечо для поддержки, но Безрод и глазом не повел. Отмолчался. Ни к чему. До задка сходить помощь не нужна. Да и потом обойдется. У самых дверей Сивый покачнулся и едва не упал. Ухватился за створ, прижался к двери и выстоял свою слабость. А когда Безрод вышел, Моряй буркнул в пол:
– Нет на нем вины. Не он разбой учинил. Те четверо.
– Да что ты говоришь? – с издевкой протянул Взмет, один из восьми битейщиков, которым Безрод рассадил кулаки собственными боками. – Тут прямо и кинусь в ноги прощение отмаливать!
– Ему, дурень, твое прощение вовсе не нужно! – вмешался Прям. – А даже попросишь – все равно не простит.
– Да разбойник он! Справедливым судом, небесным промыслом приговорен к смерти!
– Дурак ты, Взмет, дурак и слепец! Возжелай боги его смерти, лег бы под первый же меч там, на плесе! Трижды ушел на своих ногах.
– Все равно приговорен! – из своего угла встрял Шкура. Он тоже бил.
Прям с сомнением покачал головой.
– Я пожил и людей вижу до дна. Этот не возьмет и пылинки чужой. Помирать будет, а чашу воды у тебя не примет. А ты говоришь, разбойник! Уж на что тяжко было, а не принял от вас, дураков, ни милости, ни прощения. И не примет. В старину говорили, с такой гордыней рождались только Ратниковичи. Самого Ратника сыновья. Так-то!
– Он разбойник! – чуть не в один голос крикнули Шкура и Взмет.
– Тяжко нынче князю. У кого сын на руках не умирал – тому не понять. Я Расшибца учил на лошади ходить, а под лошадью сам выучился. Здоров был! На плечи взметал своего гнедого. А Сивый с княжичем одно лицо. Вот и рвет сердце Отвада. Лютует. Безрод жив, а сын помер. Тяжко князюшке. – Прям говорил, будто сказку сказывал, тихо, напевно. Взмет и Шкура насупились и все равно остались при своем.
– Вот придет – и запусти сапогом в лицо. Думаешь, испугается? – жестко отчеканил Моряй.
Запустить в человека сапогом, зная, что не будет ответа, не это ли последняя гадость? И не потому промолчит, что испугается, а потому, что каждая пара рук теперь на вес золота. Затевать глупые ссоры – делать за оттниров черное дело. А еще в скором времени предстоит выйти на плес к Брюнсдюру, и об этом тоже нельзя забывать. Шкура и Взмет отвернулись, а весь амбар напрягся: что же будет?
По возвращении Сивый замер в дверях и со слабой улыбкой ждал. Сапога. Который почему-то не летел. Безрод оглядел воев одного за другим, и каждый спрятал глаза. Ухмыльнулся, пошел к себе и, как мог, держал спину прямо.
– Больно ты горд, Волочкович. – Голос низкий, густой, хриплый.
Сивый обернулся.
– Сапога ждал? А напрасно. – Рядяша встал у серединного столба, скрестил руки на груди. – Не будет больше сапог. Поиграли, хватит. За один город кровь льем.
Поиграли? Безрод мрачно ухмыльнулся. Как все просто! За один город кровь льем! Сивый доковылял до серединного столба и встал напротив бугая Рядяши. Молча нашел глаза молодца, и взгляд Сивого получился красноречивее слов.
Рядяша конфузливо потупился.
– Вылежал бы себя. – Прям подошел ближе. – Ведь не подарок Брюнсдюр. Сам знаю.
– Тебе-то что за печаль? – усмехнулся Безрод.
– А есть мне печаль, когда хороший человек сам себя губит! – Прям покачал головой. – Не ершись. Дураков на свете больше, чем кажется. На всех зла не удержишь. Вот тебе моя рука. Хочешь – пожми, хочешь – нет.
Сивый долго смотрел на протянутую руку, наконец отвернулся и пошел к себе. Дружинный так и остался с протянутой рукой.
– Думаешь, не знаем, отчего на пепелище ночевал? Под княжью крышу не захотел идти? – Прям говорил в спину без злобы, просто с горечью. – Зло таишь, от людей хоронишься. Как бы один не остался.
И без того один остался. Хуже не станет. А ты, Прям, не марайся, руку тебе не пожму. Не иди против князя, не наживай из-за меня злосчастья. Пожмешь мне руку, а в один прекрасный день все же решит Отвада жизни лишить, да на тебя укажет. Что делать будешь? Станешь веревку на моей шее затягивать и душу пополам рвать.
Ночью Безрод опять стал плох. Метался в бреду, пел, всех переполошил. Бессильные что-либо сделать, раненые ворочались и слушали. Хорошо, что пел Сивый негромко, что-то спокойное вроде колыбельной. И лишь Коряга, измученный бессонницей, с горящими от бешенства глазами подскочил с ложа, схватил нож и ринулся к Безроду. Но путь млечу преградили Щелк и Сдюж. Коряга опомнился, сдул щеки, вернулся на место. А когда Безрод запел про тихую ночку, про теплый ветерок, уснули все, даже Коряга. Глубоко в ночи пришел старый Урач, напоил Безрода горячим отваром и укрыл потеплее.
Утром полуночники двинулись на приступ. Сивый пришел в себя, лишь когда в амбар, грохоча, ввалились вои и, сняв шлемы с пустующих мест, положили раненых. Мрачные, нелюдимые, они тащили друг из друга стрелы и помогали перевязываться. Безрод молча ждал, пока из Моряя вынут стрелу – вошла в шею, но неопасно, – перемотают полотном, и лишь тогда подошел.
– Князь где?
– Слег. Порублен. – Говорил Моряй тяжело, еле слышно. – Но даже порубленный улыбается.
– Их все так же много?
– Уже поменьше. Один-втрое, а то и вдвое. Тоже не зря хлеб едим.
– Денька три еще простоите?
Моряй закрыл глаза. Может, да, а может, нет. Сивый огляделся. Кто еще вчера на ногах стоял, теперь лежмя лежит. Каждый день в городе зажигают погребальные костры. Порубленных находников кладут в ноги павшим защитникам. Сегодня ты зажигаешь костер под соратником, завтра под тобой зажгут. Безрод вышел во двор. Как там нынче Тычок? Должно быть, обезумел старик от запаха боли. Вот уж чего в избытке! Закачало. Сивый прислонился к столбу и ждал, пока не прояснится перед глазами. Выходит, в самом удачном раскладе один-вдвое. Помощи ждать неоткуда. Так или иначе погибать, но уж лучше отпустить дух в бою, чем от голода.
– Чего задумался? Того и гляди, от умных мыслей лоб треснет. – Стюжень вразвалку подошел ближе и без сил рухнул на бревно у столба. Держался за бок, но никаких рук не хватит зажать такую рану. – Вот передохну малость – и к раненым подамся. Вот только передохну…
Безрод покосился на старика. Самого штопать и штопать, а все туда же!
– Руки дрожат?
Сивый взглянул на огромные руки верховного. Вроде не дрожат, а то сам не видит!
– Да не мои, дурень! Твои! Штопать меня станешь.
Безрод поднял с земли жердь, вытянул руки, замер. Перед глазами поплыли звезды, но руки остались тверды. Сивый помог ворожцу встать, и оба неторопливо пошли, один качался, второй шатался. В избе новоявленный ворожец запалил все лучины, все маслянки, из амбара принес лик Ратника, поставил в углу. Заговорил иглы и сухожилия. Старик тяжело дышал, а по широкой скамье уже растеклось озерцо крови.
– Слово скажу. По шее потом дашь, когда встанешь. И не перечь, нынче ты не указ.
Стюжень пил крепкий мед, молчал и только косил налитым кровью глазом. Мол, потом поговорим, ворожец, так твою…
…Безрод обрезал сухожилия, накрыл старика волчьей шубой, сел на лавку у стены, и самого будто выкрали. Даже маслянки не задул. Так и замерли один подле другого – заштопанный старик и ворожец-самоучка. Один на скамье, другой – на лавке у стены, откуда скатился потом на пол. И все равно не проснулся, лишь глухо застонал. Догорели маслянки, изба погрузилась в темень. Заглядывали другие ворожцы, заглядывали воеводы, князь присылал справиться, как там Стюжень.
Сивый очнулся от собственного стона. Послушал дыхание старика, усмехнулся, тихо вышел наружу и, обласканный полной луной, поколченожил к амбару. А когда проходил мимо городской стены, замер. Который день на исходе? Третий? На стенах всегда кипела жизнь, кто-то нес дозор, кто-то точил оружие. Безрода узнали, поздоровались, как с равным. Сивый тяжело поднялся на стену, приложил руки к губам и крикнул, что было мочи:
– Э-э-э-й! Брюнсдюр-ангенн, никак спишь?
Стан полуночников недолго молчал. Из темноты прилетел низкий, могучий голос:
– О да, седой боян, я узнал тебя.
– Я уж думал, спишь. Не ранен ли, Брюнсдюр-ангенн? Хорошо ли почивалось?
– Нет, боян, я не ранен.
– Жду тебя на плесе через день. Застоялся что-то. Скучно.
Брюнсдюр помолчал.
– Хорошо. Я ждал. Не пей, боян, холодного молока. Береги горло. Прошу.
– И ты, Брюнсдюр-ангенн, зазря не подставляйся! И не подходи близко к реке. Сыро, как бы голос не сел.
С того берега реки по морю лунного света приплыл зловещий, раскатистый хохот. Безроду смеяться не хотелось, от боли в боку едва не плакал, но парни, окружившие со всех сторон, смотрели с тайной надеждой. Сивый натужно, деланно расхохотался. Вои, стоявшие ближе всех, отпрянули. Так и слуха лишиться можно. Безрод смеялся с грустным лицом, и силу для смеха черпал не в веселье, а в боли. Отсмеявшись, едва не падая, сполз по бревнам на тесаный настил. От натуги перед глазами зацвело, чисто летом на заливном лугу.
– Чего же так скоро? – спросил кто-то из дружинных. – Рано. Отлежался бы пару дней. Порубит Брюнсдюр.
Безрод молча покачал головой. Нет у вас, бестолочи, пары дней. Нет. День-другой, и сомнут полуночники. Уже который день подряд через стену перелазят. Хорошо, везет пока.
Совершенно обессилел. Ровно в одиночку закидал мешками и бочатами полный трюм Дубининой ладьи. Безрод спустился со стены и, качаясь, поковылял к себе. Стелясь тенью, нырнул в амбар и, как бревно, повалился на ложе. Скоро встанет солнце, а там и поглядим.
Утром Безрод, едва глаза открыл, почувствовал на себе взгляды. Ну, что еще? Опять пел, спать не давал? Чем недовольны? Сивый усмехнулся. Все стоящие на ногах, как один, обступили ложе Безрода. Потрепаны, перевязаны, исхудали, посерели.
– Никак бредил ночью?
Перегуж тут как тут. Воевода сунул руки за пояс, подступил вплотную, насупился, заиграл бровями.
– Что ж ты, подлец, делаешь? Легкой смерти захотелось? В дружину к Ратнику не терпится? Зачем на рожон полез? Почему не вылежался?
Ты гляди, ровно и впрямь отец. Поговорит-поговорит, а возьмет и всыплет.
– Засиделся. На волю хочу. Тесно, душно, задыхаюсь.
Безрод встал перед воеводой. Пока князь от железа страдает, Перегуж всем дружинным заместо отца.
– Ты, парень, языком не трепли. Враз оторву. Не абы кого вызвал – Брюнсдюра! Посечет за здорово живешь! Видал? – Воевода вытащил рубаху из-за пояса, задрал. Уродливый шрам белесой нитью вился по всей груди. – Насилу ушел.
Сивый усмехнулся.
– А я не уйду. Уж как в город вошел, все к тому идет. Скорее бы.
– С огнем играешь.
– Это вам все игры, а я устал.
Безрод обошел воеводу и побрел из амбара вон, соратники поневоле расступались, без помех давая пройти. Удивленно глядели вслед и поджимали губы. Сивый будто сам себя приговорил. Говорит нехотя, смотрит холоднее обычного, ровно покойник ходит по белу свету.
Перегуж сердито оглядел воев. Не того ли хотели? Повесить, утопить, обезглавить, стрелами утыкать? А себя на его место никто не ставил? Конечно, до такого никто не додумался! Не пора ли задуматься, о ком сложат песни после этой войны? О боянах? О млечах? О князе? Как бы не так! О человеке, который заставил весь город расправить плечи, набрать полную грудь воздуху и смеяться во всю мочь. И встал последний против первого. Ведь так? Свою чару пьет до дна сам. Воевода мрачно оглядел дружинных и вышел.
– Всем лежать. Нечего скакать. Утро вечера мудренее.
Безрод ушел на задний двор, сел на бревно и долго смотрел на море. Всего ничего осталось. Дождаться бы завтрашнего утра. Над морем дымка висит, белая, словно молочный дух, а налетит ветер – порвет в клочья, развеет по сторонам. Не было молочного счастья и уже не будет. Даже глазком не взглянул и пальцем не потрогал. Вьется дорожка, у каждого своя, идешь по ней, сколько богами отмерено, в болота лезешь, в трех соснах кружишь, а на чужую не перескочить. Долю не обмануть, глаза не отвести. Как идешь, так и смерть принимаешь. Пятками сверкаешь – в спину бьют, а прямо идешь, головы не гнешь – так и бьют в самое сердце. Тяжко в жизни дуракам. Голова не гнется, зато и видать издалека.
Ноет бок. Но странное дело, только начни мечом махать, вмиг обо всем забудешь. Будто и нет никаких ран. Поплачутся кровью, да усохнут. Завтра не мелочь сопливая на плес выйдет – первый из первых. Таких днем с огнем ищи по всем сторонам – не вдруг и сыщешь. В море бы войти. Пусть обжигает студеная вода. Она ведь, как мать, всякого примет, в грязи извозишься – отмоет, душой зачерствеешь – размягчит. Будет шуметь-пошумливать, ровно колыбельную петь. Безрод закрыл глаза и мысленно вошел в море. И так стало спокойно, будто смыло с души грязь, кровь, дурную память. Перед последним поединком душа должна быть свежа, как роса на лугу, горяча и трепетна, как жеребец в поле.
Никто не посмел войти на задний двор. Дворовые, завернувшие сюда по хозяйственной надобности, замирали и тихонько шли на попятный. Перегуж и сам долго стоял, во все глаза глядел на Безрода.
– Эх, парень, парень. – Воевода горько покачал головой. – Во всем Сторожище от силы один-двое Брюнсдюру под стать, и то – как счастье обернется. Куда тебе с твоими ранами? Эх, парень, парень!..
Сивый перестал шептать, замер неподвижно. Только ветер трепал волосы, с рубахой забавлялся. Перегуж поставил у заднего двора дружинного, чтобы никто войти не смел. Утром седому да худому тяжелее всех придется. В стенке не спрячешься, о помощи не попросишь. Весь на виду.
Вечером Безрод переступил порог амбара, замер на мгновение, и тотчас получил сапогом в грудь, да с такой силой, что едва не вынесло с крыльца. И следом еще несколько.
– Пригладь перья, воробей! – заорал взбешенный Коряга. – Распушил, словно жар-птица! Не ты один жаждешь против Брюнсдюра встать! А если ты сдохнешь, я пойду! И не бывать мне битым, безродина! А жив останешься – про сапог мой помни! Нечего поединками прикрываться! Полно глумиться над честными людьми, предатель, змей островной!
Млеч раскраснелся, жилы на шее взбухли, будто ладейные канаты, достиг предела в своем лютовстве. Разве что на куски Безрода не порвал. Как потерял всю семью, так и обезумел в ненависти к оттнирам. На тень бросался, белый свет стал не мил, себя не берег.
Дергунь и того пуще взбесился. Едва пеной не плевался, чуть рубаху на себе не порвал, за нож схватился. И не понять, что кричал, насилу успокоили. Всем тяжко полуночник вышел. А Безрод знай себе улыбался. Глаза пусты и бессмысленны, в руках сапог теребил. Рядяша встал между Корягой и Сивым, буркнул:
– Охолони, млеч. Назад сдай. Не ершись и к Безроду не цепляйся. Кого увижу за непотребным делом, бить буду смертным боем. Всех касается.
Плюясь руганью, ненавистники Безрода разошлись по местам. И не потому, что испугались, – правда поединка остудила ненависть, вернула рассудок. Рядяша и Моряй, встав рядом, переглянулись. Лишь бы ничего не случилось этой ночью. Не приведите боги оказаться на месте Безрода перед схваткой. Ни друзей, ни покоя. Даже уйти некуда.
– Этот не мог продать своих, – задумчиво промычал Рядяша, стоило Сивому уйти в свой угол. – Руку на отрез дам! Ошибся князь, ох, ошибся! Да и мы хороши!
Восход солнца Безрод встретил на улице. Сидел на колоде, привалясь к стене, глядел на розовато-серое небо и дышал полной грудью. Чем угощал ветер напоследок? Бросил в нос запах моря, что собирал по всей губе, и даже клок тумана урвал с берегов Озорницы.
Все, кто мог ходить, как один вышли во двор. Даже ненавистники. Рядяша и Моряй вышли вперед. Сами пойдут с Безродом до плеса. Хоть и не друзья, но больше не враги. Из утренней дымки вышел Стюжень. Еще тяжело ходить, но дойти до плеса и вернуться назад сил хватит. Губы под бородой сжаты, видать, крепко отговаривал князь. Однако не послушал старый, сам пошел.
Безрод, ни на кого не глядя, встал, двинулся сквозь толпу. Люди расступались молча. Может быть, и хотели сказать что-то доброе, да языки не ворочались. С Безродом говорить – будто с мертвым, слова пропадут втуне, ответа не дождешься. А если порубит его Брюнсдюр? Так и сложит голову душегубом? Так и останется предателем? Ворожец оглядел дружинных. У кого глаза злом не горят, те молча глядят в сторону. Эх, крепко сидит в душах приговор князя!
– А ну стой, парень! – Стюженев голосище разметал тишину двора, ровно шалый ветер палые листья. – Стой, говорю!
Сивый остановился не сразу, будто не услышал. Повернулся и недоуменно стегнул верховного холодным взглядом. Ворожец подошел ближе. Посмотрел сверху вниз, покачал головой да и сгреб в охапку. Безрода видно не стало в могучих стариковских объятиях, только сивая голова наружу и осталась. Не стал вырываться, лишь прижался лицом к твердой, как валун, груди ворожца. Так и замер бы на веки вечные. Жаль, плакать нельзя.
– Хочешь – не хочешь, а и я обниму. – Из-за спины Стюженя вышел Прям. Старик разомкнул объятия, и бывалый воин сдавил Безрода крепким хватом, как родной брат, от души, тепло. Сивый усмехнулся – жаль, не мелочь сопливая, разревелся бы в три ручья.
Сам отстранился и быстро пошел вперед. Рядяша с Моряем – следом, шествие замкнул Стюжень. Коряга отчаянно плюнул под ноги. Как ни лез под мечи на стене, смерть стороной обходит. Не тем везет в жизни. Несправедливо…
Стюжень поцеловал Безрода в лоб, Рядяша и Моряй потрепали по плечу, и на плесе остались лишь двое. Брюнсдюр оказался высок, на полголовы выше Безрода, плечист, велик, но не огромен, по груди вился светлый волос. Князь оттниров глядел спокойно, не суетился. Борода короткая, глаза светлы, едва не белы, кажутся стылыми, ровно весь полуночный холод в них собрал.
– Я пришел, боян.
О-го-го! Вблизи голосище ангенна вышел еще сильнее. У Безрода по спине мурашки разбежались, а внутри зазвенело, будто по струне ударили. Так бывает, когда встанешь возле огромного кленового била, а в него ка-а-ак… Аж хребет чешется. Сивый не удивился бы, окажись Брюнсдюр-ангенн прямым потомком самого Храмна, хозяина небесных гуслей.
Безрод скинул рубаху. Вся шита-перешита, но, видать, больше ее не носить. Брюнсдюр окинул Безрода цепким взглядом, помолчал и нахмурился.
– Я слышал о тебе. Так ты выжил?
– Да, я выжил. А жив ли Сёнге? С тобой пришел? – Голос Безрода звучал ровно змея на камнях – тих, шелестящ, зловещ.
Ангенн усмехнулся, кивнул. Жив милостью богов.
– Передать что? – громыхнул Брюнсдюр, холодно улыбаясь.
– Сам скажу. – Безрод оскалился. – Потом.
Полуночник молча ждал.
Сивый прокашлялся, продышался и повел так, как поют лебединую песню, зная, что потом уже ничего не будет.
– Черный ворон с дуба в небо возвился,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Знать, полягу вскорости в чистые поля,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Я, дружину славную по свету водя,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Видел, как рождается за морем заря,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Стану в битве страшной сам себе судья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
И умчит нас, павших быстрая ладья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
И узрим воочию вящие края,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Я и мной водимые верные друзья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Боле не услышим трелей соловья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Не укусит пяточки жесткая стерня,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Черною завесой по небу паря,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
На поле опустятся стаи воронья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Бравые соратнички – вся моя семья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Кто падет от палицы, кто-то – от копья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Знаю, что поникну на спину коня,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Страшной болью мучим, зубьями скрипя,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
И оставлю тело, об одном моля,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Поскорей испить бы чару забытья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
Чтобы боль уснула, бросила меня,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя,
И тепло укрыли кустики былья,
Будь ко мне поласковей, долюшка моя…
Эхо, непонятно откуда взявшееся на этих просторах, подпевало Безроду переливчатым многоголосьем. Брюнсдюр слушал, опустив меч, глядел в землю, качал головой. Да, этот седой боян сдержал обещание. Сивый замолчал и, глубоко дыша, опустил руки. Взглянул на Брюнсдюра. Ангенн поднял меч и трижды хлопнул лезвием по ладони. Это должное врагу. Мужественному и искусному. Безрод глядел исподлобья и ждал. Брюнсдюр описал руками круг, воздел их над головой и зарокотал, будто струны гусляра…
А когда любопытное и жадное эхо унесло последнее слово, ангенн развел руки, чисто крылья, и повел боевую пляску. Так летает горный мокк, птица самого Тнира, предвестник битв. Горд и величав его полет. Так пляшет на празднике весны лучший боец оттниров. Ангенн могуч и непременно сразит лучшего поединщика боянов. Меч Брюнсдюра ткал в воздухе холодное, блестящее кружево, а мелкие камешки так и разлетались из-под тюленьих сапог. Сивый будто вымерз, пляска Брюнсдюра заворожила и не отпускала. Об этом поединке сложат легенды, сказители обеих сторон воспоют врагов, достойных друг друга, но никто не споет о том, что ангенн полуночников переплясал седого да худого. Безрод рванул на середину плеса – и заплясал. Так взлетит ворон со старого дуба и недобрым вестником улетит в полуночную сторону. Так налетит боянский сокол и порвет полуночного мокка, что залетел слишком далеко на сушу…
Мечи высекли первые искры. Солнце, проглянувшее сквозь плотные облака, оживило клинки, и они заблистали, как маленькие молнии. Ох, и силен ангенн полуночников, ох, и быстр! Путь к победе над Брюнсдюром только один – бить сильнее, быть скорее. Сивый никогда не был так скор, еще малость – и в жилах кровь закипит. Но всюду меч Безрода натыкался на клинок Брюнсдюра. Ангенн одинаково сильно бил с обеих рук, отменно защищался, знал многие приемы, а те, что не знал, схватывал на лету. Полуночник раскачивал защиту Безрода, удлинял ход его меча, и Сивый сам понимал, что не успевает, но битое-перебитое тело жило на пределе. Угадать бы с ударом. Безрод угадал. Безнадежно опаздывая вернуть меч в защиту, Сивый не стал рвать жилы и просто сложился вбок. Меч ангенна просвистел над самыми ребрами, а не догадайся Безрод изогнуться – быть ему располовиненным. Возвращая клинок, Безрод ударил сам. Полуночник резво отскочил, только клок волос потерял. Холодно улыбнулся и коротко кивнул. Боян обещал стать достойным поединщиком и слово держит. Брюнсдюр наотмашь ударил по ногам, не попал, развернул кисть и тут же повел клинок вверх. Подпрыгнув, Безрод избежал удара в ноги, второй застиг его в воздухе, мечи звонко клюнули друг друга, и все бы ничего, но ко всему ангенн мощно наддал плечом. Как будто оглоблей приласкали. Сивый рухнул на спину, а оттнир обрушил на противника град ударов. Три из них Безрод отбил, бросил ноги к плечам и встал через голову. Поднимаясь, повел меч наискосок, слева направо. Полуночник немыслимо изогнулся – и пропустил удар над собой.
Противники встали друг против друга. Сивый повел дело на замах, повел медленно, да ударил быстро. Полуночник ввернулся внутрь удара, пропустил Безрода мимо себя – и стегнул мечом вдогонку. Клинки встретились и разошлись. Уже давно кровоточил Безродов бок, кровоточили все незажившие раны. Сивый устал. Дышал тяжело, бились всего ничего, но сил почти не осталось. А Брюнсдюр пребывал спокоен, холоден и свеж, как будто только что вышел на плес.
Полуночник налетел как вихрь, его меч был везде – справа, слева, сверху, снизу, – Брюнсдюр на ходу менял руку, направление удара, бил двумя руками, бил кинжальным хватом. Безрод и сам так умел, но силы убывали, как снег под жарким солнцем.
И вдруг поединщики, не сговариваясь, отскочили друг от друга. Брюнсдюр, прищурившись, покачал головой. Достойный противник. Очень достойный. Полуночник взял меч двумя руками, опустил рукоять вниз, нацелил клинок Безроду в лицо. Сивый сделал так же. Бойцы осторожно сблизились и медленно скрестили мечи. Клинки подпирали друг друга, а противники ждали. Долго ждали. Очень долго. Начался поединок выдержки и терпения.
Безрод не выдержал, перегорел. Боль залила все тело, еще немного – упал бы от дурноты и немощи. Хотел было ударить, но слабость не дала. Остался на месте, будто на руки и ноги подвесили тяжелые колодки. Лишь еле заметно дернулся. Брюнсдюр по глазам понял, что Сивый «созрел», и решил перехитрить. Дождался рывка Безрода, чтобы уйти в сторону и ударить самому. Разорвал сцепку, прянул влево и без замаха полоснул противника справа налево по груди. И выиграл бы схватку, ударь Безрод на самом деле. Ангенн понял, что попал в ловушку, но остановиться уже не мог. Безрод наитием пригнулся, избегая удара, и подбил клинок Брюнсдюра снизу вверх. Раньше остановился и раньше вернул меч. С оттягом полоснул справа налево и тяжело врубился в туловище, поперек живота, от ребра до ребра. Мгновением позже опоздавший меч оттнира ударил Безрода в грудь.
Противники опустили клинки и неподвижно замерли друг против друга. Мечи стали просто неподъемными. Один из двоих должен пасть. Кровь заливала обоих, в голове звенело, будто в кузне. Судьбу поединка решила усталость Безрода. Нечаянная уловка пришлась как нельзя более к месту. И вышло так, что перехитрил-таки оттнира, сам не хотел, а перехитрил.
Ангенн полуночников рухнул. Повалился ровно дерево под топором, прямой, несгибаемый. Сивый покачнулся, упер меч в землю и всем весом навалился на клинок. Сил ни на что не осталось. Победитель должен уйти с плеса сам, только тогда победа в поединке останется за городом. Таково условие. Безрод проморгался и вздохнул. Что-то горячее, отвратительно липкое растекалось по телу. Скосил глаза и усмехнулся. Кровь, опять кровь. Сколько ее подарил Озорнице? Полуночники напряженно ждали на своем берегу, а тишина кругом встала просто мертвецкая. Обе стороны, как завороженные, следили за каждым вздохом Безрода. Лишь только победитель уйдет с плеса, оттниры подхватят Брюнсдюра на руки и мигом унесут в стан ведунам под иглы. Могуч ангенн, просто так душу не отдаст. А Сторожище изойдет радостным криком, если Сивый на своих ногах уйдет с плеса.
Безрод сделал осторожный шаг. Еще один. Вот рубаха валяется. Нагнуться и поднять сил нет. Наклонишься – больше не встанешь. Проткнул мечом, накрутил на лезвие, так и поднял. Кое-как надел. Вошел в реку, и вода мигом побурела, зарделась, понесла кровавые разводы в море. Как течением не снесло – не понял, как перешел на свой берег – осталось загадкой, как с ног не упал – сам удивился. Так и шел, будто в полусне. Уже в черте города кто-то подхватил на руки, и все провалилось в муторную бездну. Только и заметил напоследок Рядяшину рожу.
Безрод открыл глаза и взглядом уперся в потолок. Всего мутит и выворачивает наизнанку, ослабел настолько, что дыханием даже перо не поднять. Все знакомо: и слабость, и дурнота, как будто это уже было. Самое частое воспоминание – лежишь, укутан по самое горло, ранен, всего мутит и знобит. Будто заблудился по жизни и ходишь по своим же следам, круги нарезаешь. С этой думой и утонул в головокружительной бездне…
Открыл глаза и едва душу не отпустил. Лицо. Огромное, зубы белые, глаза маленькие, склонилось, дыхание слушает. Рядяша. Так ведь и на тот свет можно спровадить!
В дружинную избу к раненым не понесли, уложили в амбаре, на привычное ложе у столба. Хотел оказаться в избе Стюженя, да только никто умирающего не спрашивал.
– Гляди, очнулся! Очнулся! – Чей-то знакомый голос радостно загремел над самым ухом, да так, что Безрод едва концы не отдал.
– Да тише ты! Ревешь, чисто медведь над медом. Глушишь ведь! – Знакомые лица склонились над Безродом. Рядяша, Моряй, Прям, Долгач, Щелк. Сивый оглядел каждого, косил глазами. Шея не поворачивалась, будто не было ее вовсе.
– Стюженя позови, – прошептал Сивый. – Зови.
Старик точно будто из-под земли.
– Ну, чего звал?
Безрод тяжело сглотнул.
– Унеси меня. К себе.
Чтобы услышать, ворожец наклонился к самым губам.
– Ишь ты! Унеси! Раз такие речи повел, точно не помрешь! – буркнул старик в бороду.
– Что сказал, Стюжень? – Старика обступили дружинные. Ворожец оглядел каждого. Потеплели глаза, стали на человеческие похожи. Переполошились, будто друга едва не потеряли. А как растолковать это человеку, который по краешку ходит, не сегодня-завтра за край сверзится? Сивый не потерпит ухода за собой, не хочет быть должным. Того, что все Сторожище в неоплатном долгу, с которым вовек не расплатиться, и понимать не желает. Уже новый день наступил, а Безрод в темном прошлом блуждает. Не зря говорят, что утро вечера мудренее, только Сивый этого знать не хочет. В темном «вчера» бродят оба – и Безрод, и Отвада, бродят и друг друга не видят.
– Прошу! – жжет ухо горячая просьба. – Унеси!
Дурное дело нехитрое. Уноси, не уноси, вои достанут Безрода где угодно, ровно молодые глупые щенки, которые лезут к старому псу и весело лают. Нынче все Сторожище – те глупые игривые щенки, а Безрод – потрепанный, порванный пес…
Вечером, после отраженного натиска, Стюжень сшивал Моряю рану на плече и терпеливо втолковывал, как несмышленому дитяте.
– Не наседайте, дайте человеку передыху. Знаю, виноватишься, в душе горит, но погоди, не торопись. Захочет – сам руку протянет, и не будет у тебя друга вернее. А силком замиряться не станет.
Моряй молчал. Все старый верно говорит, но нельзя справедливость на потом откладывать. Прилетит шальная стрела – и не станет Моряя, а Безрод осиротеет на доброе слово и крепкую дружескую руку. Сделал вид, будто во всем согласен со стариком, но, дождавшись, когда Стюжень по какой-то нужде выйдет из избы, прокрался за тряпичную перегородку, на половину к Безроду. Потоптался, кашлянул. Сивый открыл глаза. Моряй встал под светоч.
– Ты это… парни здравствовать желают, справлялись, не надо ли чего? А нас опять, видишь, посекли за здорово живешь. Лезет и лезет полуночник! Обозлились, видать!
Безрод моргнул, что-то прошептал. Моряй подошел ближе, наклонился.
– Жив ли Перегуж?
– А что ему, старому, сделается? Наперед знает, где стрела упадет, куда меч ударит.
Сивый кивнул. Хорошо, что жив Перегуж.
– Ты вставай поскорее. И полно обиду держать. Я вот молод, и уж на что горяч, но столько не смог бы. Не отвергай руку. Тогда, на судилище, я был не прав. Не прав.
Безрод молча смотрел на Моряя. А я могу. Костенеет душа, не гнется. Старею, наверное. Ни жизни, ни счастья…
Часть 2
СВАТ