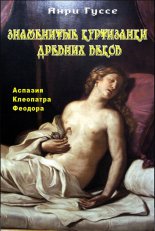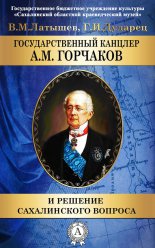Ночной карнавал Крюкова Елена

– А гляди-ка, – хрипло выдавил один из них, высокий и худой Арлекин в клетчатом трико. – У нее побрякушка прицеплена к волосам. Скоморошка чертова. Сорока. Блестящее любила. Что это?!
Они наклонились оба. Всмотрелись. Другой, крепкий, бородатый, с широкими плечами, в венецианской бауте, осторожно тронул мертвые волосы рукой.
– Царская корона, – издевательски процедил. – Только крошечная. Как для куклы. Да она и была кукла. Марионетка. Мы ведь ею управляли, граф. Дергали за ниточки. Вот… дернули в последний раз. Финал! Ваш выход! Давно пора было убрать ее.
Граф молчал. Угол его рта дрожал.
Он смертельно хотел закурить.
Это неподвижное красивое тело раздражало его. Он обнимал его, целовал. Мял. Кусал. Крутил. Вертел. Любил. Любил как мог. А потом ненавидел.
Ненавидел?!
Он рухнул на колени в снег рядом с ней и спрятал дергающуюся голову в красные на морозе ладони, будто пил из горсти и не мог напиться.
А из дворца, щедро освещенного свечами, лампами, факелами, люстрами, светильниками, огнями в тяжелых медных шандалах, лилась, вихрясь и бешенствуя, сверкающая веселая музыка, и она говорила всем, кто вырядился лисой, зайцем, драконом, китайским императором: вот жизнь, а вот смерть, танцуйте, танцуйте, милые, кружитесь в вальсе, в кадрили, в мазурке, выступайте, как павы, в смешном полонезе, ломайтесь и кривляйтесь в шимми и буги-вуги, станцуйте со своей смертью, вы же еще живые, ну, еще шажок, еще па, еще коленце, еще фуэте, так весело вертеться в наслажденье и безумье, так сон похож на явь, и нет у них границы. А эта, убитая?… – да поделом ей, это же была просто шлюха, просто неудачница-куртизанка из чужой страны, и так и не научилась она чисто говорить на нашем языке. Слова ломала. Жизни корежила. Сколько на ее счету убитых душ?!.. кто считал… Вот она лежит. А, да это просто сучонка мадам Лу с Гранд-Катрин! Я знаю ее. Она за нами шпионила. Кто подберет тело? Унесите ее. Заверните в простыню. Что там у нее с затылка в снег свалилось?… Бирюлька. А вдруг заколдованная?… Вы всерьез верите в колдовство, герцог?… А вы дорого покупали ее тело?… Да нет, не особенно. Когда-то она стоила всего пять монет и одну большую красную рыбу. Она очень любила красную рыбу. Кету. Горбушу. И обязательно с икрой. Требовала, чтобы с икрой. Она изумительно раздвигала ноги. Как жареная курица. Едали мы таких курочек. Хочешь поглядеть, как она лежит на снегу? Холодная уже. Где вы ее похороните?… Может… утопить ее в пруду?… Ах, какой веселый карнавал, мамочка!.. А эту белокурую девушку убили понарошку?…
Ну конечно, понарошку, душечка. Кто это сейчас, в наше время, на таком чудесном празднике, убивает по-настоящему. Сейчас уже подадут десерт. Столы во дворце накрыты. Вон лакеи мороженое несут. Инжир. Курагу. Ты любишь курагу? Люблю. А почему она… не шевелится?… Так ряженая же. Играть мертвую так играть. Чтобы никто не догадался.
Эй, ты! Пнуть носком сапога в бок. Пощекотать концом трости нательный крестик между ключиц. Слишком хорошо играешь роль! Классная козочка! Кончай ночевать на снегу! Иди, дуй шампанское! Хлобыщи до умопомрачения! Гуляем на все! Герцог обливает нас шампанским задарма, как золотым дождем! Упейся! Из горла! Вот это карнавал! Карнавал карнавалов! А ты… разлеглась тут, как тюлениха на лежбище! Брось ломать комедию! Вставай! Вставай! Вставай! Эй, ты, вста…
Она лежала не шевелясь.
Ее ярко-желтые крутые кудри перебирал мягкими пальцами надменный, ледяной февральский ветер, налетающий с зимнего залива, куда впадала Зеленоглазая река. Море затаилось рядом.
Если бы она дожила, если бы ее так быстро не застрелили, она бы переплыла это чужое море – раз плюнуть – и вернулась бы.
Игрушечная царская корона, прицепленная к ее темени пошлой резинкой, выдернутой из старых панталон, отвалилась от прически и упала в сугроб, в то время как ее самое поднимали, дергали, как картонную куклу, за руки, за ноги, волокли, переворачивали, встряхивали, бросали, как вещь, на простыни, на связанные узлами полотенца, на носилки, на телегу.
Жить шлюхой и умереть Царицей – это надо было суметь.
…А ты не таращь-то глазенки, а послушай… послушай-ка меня… байки всякие бают… много чего брехливого брешут… сама слышала, да не всякому сказывала… а-ах, зеваю сильно!.. спать хочу… а ты тут еще ворочаешься, все никак не угомонишься… спи, глазок, спи, другой… говорят, баба была одна, так сильно любила Царя, так невозможно… и при нем жила, во дворце, со злата-серебра ела-пила… а уж красавица была писаная: картинка… И вот так уж она любила Царя… а Царь-то ее, кажись, и разлюбил… ух, горе горькое!.. Душа ее до неба в отчаянье взвилась… Стала она думать, как Царю отомстить… а Царь-то к тому времени уже и новой любовью обзавелся, и уже невестой она Царской стала, и уже жениться Царь надумал, велят во дворце свадьбу играть… Глашатаи по всей стране в серебряные трубы прогудели!.. что не спишь, вредная девчонка, а ну-ка, засыпай сей же час… а то рассказывать не буду…
Тишина. Чуть шевелятся под теплым ветром инистые кружева тюля. Рассказ плавный, бормотанье несвязное, шепот сходит на нет, сбивается на вздох, на зевоту, на невнятицу ночной молитвы.
– О-ох, как же она его любила, если сделала такое… такое…
– Какое?… ну, рассказывай скорей…
– А такое… Женился Царь; жена его, красавица, еще краше прежней любовницы глянулась. Забеременела… ну, это уж как всегда… Род людской продолжиться должен… Вот час родов наступил. Стонет молодая царица, извивается в муках… девочку родила… да прехорошенькую!.. лежит младенчик в пеленочках… плачет, вякает, корчится, как червячок… В пеленках кружевных, шелковых… Царских… золотыми коронами по углам вышитых… Закрывай глаза! Закрывай, кому говорят!..
– Не кричи на меня…
– Я и не думаю кричать, моя ягодка… и вот, слушай дальше… та, прежняя-то любовница, прокралась во дворец и… да не сучи ты ножонками!.. отдохни хоть малость!.. сейчас и ночь-то кончится, не успев начаться… и утащила малышку Цесаревну!.. Выкрала!.. А украв, испугалась сильно… бежит с ней, по грязи, по буеракам, задыхается, вопит что есть силы… бежит… на горе утащила младенца, на грех…
– А что такое грех?…
– Все тебе сразу объясни… этого никто не знает, так Бог придумал… зло это, несчастье большое… Кто кого в грех введет – на того страданья всякие посыплются… немощи, болезни… Вот и та красотка-то, бывшая Царская наложница, ох, испугалась… Думает: куда ж бы ее деть-то?… тянет руки девчонка… орет в батистовых пеленках… И положила она ее на крыльцо избы… а дождь сечет!.. а ветер хлещет по щекам!.. завывает в небе, ломает деревья!.. страх, да и только, непогодь какая в мире настала тогда!..
Трещат дрова. Потухает огонь. Тишина сгущается, как старый, засахарившийся в толстостенной банке падевый мед. Скрипят пружины кровати. Поет сверчок. Пахнет куревом – в доме недавно курили; пахнет жареным мясом, деревенской сметаной, мятными лепешками, тонкими цветочными духами, старыми тряпками, прожженными горячим утюгом – ветхое белье отглаживали час назад.
– И гроза не покалечила ее?…
– А то была осенняя гроза: одни слезы да крики, ни грома ни молнии… Вот бросила она младенчика и побежала, прочь побежала куда глаза глядят, не оглядываясь… А девочку подобрали простые люди… вынянчили… воспитали…
– А как они назвали ее?… Воспителлой?…
– Думаешь, я помню, как?… Люди ведь кто что говорят… всех имен-то и не упомнишь… По-разному кликали ее… кто Машкой… кто Маришкой… кто Мариэттой… кто Марго… а по правде ее звали… ее звали… ее…
– Что ты засыпаешь все время!.. Не спи!.. Ты лентяйка!.. ты ленишься мне рассказывать дальше!..
– Ох, прости, старая я стала, что ли… так и клюю носом, как курица… Ну и вот… росла она… росла… и выросла красивая, в точности, как ее мать… и тут началась война… и всех мужиков побили, а всех баб да девчонок в плен забрали… горько в плену-то, тяжко… жить в плену не хочется… руки на себя иные накладывали… а она девочка была умная… смышленая… хлебнула она горя, хлебнула… Не приведи Господь… всякого навидалась… и в канавах спала… и с разбойниками у костра дрожала, а они с нее последнее платьице стаскивали, глумясь и хохоча… и руку за подаянием тянула… и борозды слез пролегли по ее свежим юным щечкам…
– А глазки у нее были синие?…
– Синие, синие… как небо над сугробами…
– А что с ней дальше было?… ну не молчи!..
– Боженька мой милостивый, да когда же ты угомонишься наконец, обо что мне голову разбить, отчаялась я, устала, сейчас подушкой тебя накрою, черной тряпкой обвяжу, как клетку с канарейкой, мигом утихомиришься…
– Кази! Ты где! Дай мне полотенце – вытереться! Я вся вспотела.
Стоящая перед высоким, до потолка, венецианским зеркалом молодая женщина вытирала полотенцем мокрое, распаренное красное лицо. Золотые кудрявые волосы облепляли мокрыми кольцами крутой, как у бычка, лоб. Подруга с нескрываемым восхищением глядела на алые щеки, высокие упругие груди с торчащими врозь сосками. В зеркале отражалась во весь рост вся голая красавица, смеющаяся, с дикими, как у зверя, ослепительными зубами, с неистовым искристым блеском огромных серо-синих глаз. От голой молодой женщины шел пар, будто она только что выскочила из жарко натопленной бани и вывалялась в сугробе.
– Эх и утомилась же я, Кази!.. До чего они мне все надоели!.. Хочу фруктов.
Молодая женщина, наклоняясь и изгибаясь, насухо вытерла перед зеркалом голое тело – подмышки, коленки, живот, бедра, шею, лопатки, ключицы, срамные места, – передохнула, улыбнулась и подмигнула своему отражению; попятилась и плашмя рухнула на обитый атласной, в пошлых цветочках, тканью диван.
– Дай!
Протянула руку. Кази взяла со стола грушу и апельсин – яркие аляповатые фрукты горой лежали в фаянсовой дешевой вазе – кинула грушу голой подружке, сама стала чистить померанец, глубоко, как кошка, вонзая ногти в оранжево сияющую шкуру плода.
– Измучал тебя твой иностранец?
– Они все такие. С причудами. Сделай им то, покажи им это. Зато платят щедро. Мадам довольна. – Нагая криво усмехнулась, снова блеснули великолепные хищные зубы, похожие на крупный отборный жемчуг. – А я недовольна.
Кази подсела к подруге, доедая апельсин. В воздухе тесного, заваленного грудой подушек и думок, прокуренного будуара висел острый запах цитрусовой разломанной корки, напоминающий детство и Рождество. Часы, висящие на стене над головами женщин, пробили три.
Ночь. Глухая ночь. Девушки, не пора ли спать? Или придет новый гость? Черный человек?… А может, синий… или красный?…
– Чем же ты недовольна, Мадлен?… Вот отработаешь свое… по контракту… и гуляй на все четыре стороны…
– Гуляй?! – Голая взвилась. – От мадам гульнешь! Она выжмет из тебя все соки. А потом плюнет, как ты плюешь… эту апельсиновую косточку… Она будет держать тебя здесь до последнего. А когда наступит это последнее… тогда уже… тебе будет… все равно. Мне и сейчас уже… все равно.
– Врешь! – Вскрик Кази отозвался звоном в фарфоровых чашках и хрустальных бокалах, сгрудившихся на неприбранном столе. – Тебе не все равно! Тебе так же хочется жить, как и нам всем! Вырваться отсюда! Выйти замуж! Родить детей! Жить с мужем счастливо! И…
– …и умереть с ним в один день.
Язвительная улыбка снова скривила роскошные губы Мадлен. Полный, персиково-нежный, чувственный рот. Так бы и укусил его, так бы и съел. И клиенты едят. За милую душу. И с сахаром, и с коньяком, и запивая бренди, и просто так, живьем, в собственном соку. Мадлен в собственном соку. Лучшее блюдо мадам Лу. Слаще не бывает. Они все, включая Кази, – просто отребье в сравнении с Мадлен. И они все это знают. И завидуют ей. И гнусавят про нее разные гадости. Она приносит мадам самый большой доход. Как широко, почти раскосо стоят ее коровьи, со сливовой поволокой, безумные глаза!
– Вы все придумываете себе, – процедила Мадлен, вонзая зубы в мякоть груши, смачно всасывая сладкий сок. – Вы обманываете себя. Бедные овечки. Бьются ваши сердечки. Нету у вас умишка ни на грош. Вместо того чтобы слащаво мечтать о сусальных семейных радостях, озаботились бы лучше своими персонами. Какие у вас у всех животы! Ножищи!.. Стыд поглядеть!.. Жир свисает слоями… Себя жалеете. Дрыхнете по утрам, после бурной ночи. Поблажку себе даете. А слабо пробежаться по зимней улице в майке?! Принять холодную ванну?! Отжаться от пола двадцать раз?!..
– Зачем? – Брови Кази поползли вверх. Она облизала пальцы, вымазанные апельсиновым нектаром. – Мне и так хорошо. Я люблю поспать по утрам… А когда же нам расслабиться… благо дрянная мадам не звонит в свой жуткий колокольчик…
– Затем, – вдумчиво произнесла Мадлен, приканчивая грушу, – что важнее тебя самой нет человека в мире. Следи за собой. Содержи себя. Люби себя. Кто сказал: возлюби ближнего, как самого себя?… Вы все и себя-то любить ни капельки не умеете. Будешь на высоте – успех к тебе сам придет. Счастье само на брюхе приползет.
– Что же, Мадлен, – в голосе Кази зазвенели обидчивые слезы, – к тебе-то счастье все никак не приползет на брюхе? А?… Ты-то у нас самая гладкокожая… самая стройная… самая румяная… и пахнешь ты лучше всех… и смеешься звонче… и от богатых клиентов у тебя отбоя нет – только тебя к себе и требуют… И в шкатулке у тебя, небось, скоплено под кроватью и в тумбочке побольше, чем у всех нас…
Голая красавица встала с охнувшего всеми пружинами дивана, выпрямилась, гордо выгнув спину, глянула на чернокудрую худую Кази сверху вниз.
– Потому что ваше счастье – это не мое счастье, – раздельно, чеканя слоги, произнесла она.
Повернулась к Кази задом. Роскошный зад. Цветок. Натура художника. Переливается перламутрово, нежно. Поясница с озорными ямочками так и просит безмолвно быть обвитой жемчужной нитью… либо золотой цепью. Где ювелир, что выкует цепь?
Кази насильно повернула к себе Мадлен за голые плечи. Ее глаза впились в глаза Мадлен.
– А что такое твое счастье? – задыхаясь, спросила Кази. Ее щеки покрылись красными пятнами. – Или это секрет?! Ты злая, Мадлен!
– Я не злая, – пожала плечами голая, – я просто настоящая. А вы все поддельные куклы.
– Кто тебе дал право всех судить?! – сорвалась Кази на крик.
– Не вопи, сейчас сюда мадам прихромает и нам обеим задаст, – устало бросила Мадлен, сдернула с дивана скомканную простыню и укутала ею голые плечи. – Никого я не сужу. Я хочу вырваться. Вырваться отсюда. Но не так вырватьтся, как хотите вы.
– А как?…
В голосе Кази послышалось рыдание. Еще немного, и эта клушка разревется. Ночь. Глубокая ночь. Плачь сколько хочешь. Но плакать нельзя. Могут прийти. Схватить за руку. Потащить. Втолкнуть в чужую комнату. Кинуть на кровать. На диван. На кушетку. На пуфик. Задрать ноги. Содрать тряпки. И пищи не пищи, ты уже не птичка, не зверек. Не сурок, не сорока. Ты просто жалкий человечек. Жалкая женщинка на ночной работе. Ты служишь. Это служба твоя. Ты сама выбрала ее. Ну и служи. А слезы тут при чем. Плачут пусть кошки и собаки. А человечки не плачут. А женщина не человек! Врешь. Женщина больше чем человек. Больше чем нечеловек.
Женщина это женщина.
Родиться женщиной – несчастье. Проклятье.
От кого зависит, девочкой ты прорежешься на свет белый из утробы или мальчиком?! От отца?!
– Так, – Мадлен стояла, повернувшись к черному ночному окну, и неотрывно смотрела в смоляную темень за замерзшим стеклом. – Очень просто. Я вырвусь отсюда и разбогатею. Я буду крутить головы самым богатым людям этой земли. Дурить их, как хочу. И идти все выше. Выше. Выше. Подниматься по лестнице любви. Бежать по ней семимильными шагами. Прыгать через две ступеньки. Выше! Вперед! Вы все болтаетесь уже далеко внизу. А я бегу. Мир раскрывается передо мной. Лучшие отели. Залы. Катания на лошадях. На яхтах. На машинах новейших марок. На собственном корабле. На собственном аэроплане. Блеск брильянтов на моих пальцах. В моих ушах. На моей обнаженной груди. На лучшей в мире груди – лучший в мире брильянт: сколько каратов?…
Улыбка Мадлен пугала Кази. Мадлен наступала на Кази грудью, и Кази пятилась, а Мадлен все наступала, и огнем пылало ее широкоскулое, с гладкой опаловой кожей, лицо, и безумие, смех и озорство вспыхивали в широко стоящих, как у стельной коровы, глазах.
– И к чему тебе все это, Мадлен?… – пропищала Кази, пятясь к окну. – Ну, будешь ты самой богатой женщиной мира… ну и что?… Если ты проживешь без любви…
– А-ха-ха! – захохотала Мадлен. Хохот забился под потолком подстреленной птицей. – А кто тебе сказал, что я обязательно проживу без любви?… Кто из вас лез грязными лапами мне в душу?!.. А может, я лю…
Она осеклась. Табу. Запрет. Этого нельзя говорить. Никогда и никому. Ни при каких условиях. Даже если тебя обсыпали бы золотыми монетами.
Кази ухватилась за штору. Непрочно сидевший в гнезде гвоздь вырвался из стены, и карниз упал с грохотом, чудом не изувечив девушек.
Они стояли секунду опешившие. Потом безудержно расхохотались.
И хохотали, хохотали не переставая. До икоты. До колик в животе. До подергиваний руками и ногами.
– А если бы… а-ха-ха!.. если бы… карниз упал нам на голову?!.. ха-ха-ха-ха!..
– Он сказал нам: бросьте ваши распри… ха-ха-ха!.. дуры девки, обсуждение жизни выеденного яйца не стоит, надо просто жить… просто жить, ха-ха…
– Ты знаешь, Кази… а-ха-ха-ха!.. я все-таки пробьюсь на самый верх… помяни мое слово, ха-ха!.. я на ветер слов не бросаю… Я все равно взлечу выше всех… и буду глядеть оттуда на всех вас, бедняжечек… на землю… на нищету… на беспомощность… на… ха-ха-ха!.. на тебя, Кази, как ты варишь в котле гороховый суп, от которого пучит живот… Я подарю тебе тогда норковую пелерину, Кази!.. она очень красивая, ты схватишь ее дрожащими руками… ты будешь благословлять и крестить меня, когда я поцелую тебя и пойду прочь… прочь… а ты будешь мять и комкать драгоценный мех, нюхать его, гладить дрожащей ладонью – не поддельный ли… прижимать его к щеке, как живого зверя… не верить своему счастью… а-ха-ха… потому что для тебя тогда и этот мех будет казаться счастьем, Кази… настоящим счастьем… да это так и есть… а я буду счастлива тем, что подарила тебе эту маленькую радость…
– Ах, Мадлен!.. – Кази пылко обняла голую подругу, их груди соприкоснулись. – Как я завидую твоей уверенности в завтрашнем дне!.. У меня ее нет…
– У меня тоже нет, – спокойно ответила Мадлен, подходя к вазе и принимаясь за банан. – Я просто хлебнула уже чересчур, Кази. Тебе и не снилось.
– Мы все хлебнули, Мадлен.
– То варево, что хлебала я, Кази, не хлебал никто из вас.
Голос Мадлен стал жестким и колючим, как наждак. Она плотнее закуталась в простыню, села с ногами в угол дивана.
– Дай мне сигарету, Кази, – сказала она резко и вытянула руку, будто клянчила милостыню. – Долго еще до утра? Как отлично, что к нам не идут. Нас оставили в покое. До рассвета. Рассвет зимой поздний. Давай считать в окне звезды через стекло. Давай есть апельсины и бананы. Давай я расскажу тебе свою жизнь.
– Свою жизнь? – протянула Кази. – А ты разве старая старушка?…
– Я старая старушка, – холодно сказала Мадлен. – Мне двести лет. Я помню всякую всячину. Я помню даже то, чего не помню.
– Давай лучше спать, Мадлен, – сказал Кази устало и поежилась – становилось холоднее, мороз за стеной вырисовывал узоры на стекле, дрова в камине догорали. – Совсем немного осталось до утра. Пусть твоя утроба отдохнет. И моя тоже. Не думай, что только одна ты вкалываешь здесь.
– Я не думаю, Кази, – равнодушно согласилась Мадлен. – Отдохнем.
…………… Они нагрянули. Влетели. Гнали и гнались, сметая все на пути. Путь их был неисследим. Война! Дым лез в ноздри, в уши, в душу. Они стреляли? Должно быть. На войне всегда убивают. Так заведено на войне. Обычай такой. Традиция. Они убивали умело, и спеша, задыхаясь, ярясь; и не торопясь, с толком, с расстановкой, маслено, как кот на сметану, щурясь. Люди, сбиваясь в кучу, кричали. Пощадите! Помогите! В ответ – глумливые ухмылки. Зачем пощада, когда и без пощады прожить можно? И без сердца? Что такое сердце? Маленький кровавый мешок, комок, резво бьющийся под ребрами, качающий кровь по холодеющим членам, содрогающийся в жестоких и бессмысленных конвульсиях? Неистовые солдаты! Зачем вы явились!.. Ни за чем. Просто так. Поразвлечься. Поглядеть, как ты, девчонка, будешь визжать и плакать, когда тебя распинают на белом снегу, как ты, мальчишка, будешь плевать на черный лед свои выбитые зубы, видя, как жгут твою родную избу, и черный дым виснет и мотается адским конским хвостом до самого неба.
Они били из орудий, стреляли из железных трубок; я и в страшных снах не видала ни пушек, ни ружей, ни иного оружья, и я не знала, что с неба, в лютом гуле, закладывающим отверстые уши, могут лететь вниз, на землю, железные младенцы в железных пеленках; и, подлетая к земле, разрываться и взрываться, усеивая смертоносными осколками пространство, поражая цель дальнюю и ближнюю; и будут падать наземь, прижимаясь животами к сырой и ледяной земле, к твердому блестящему насту, к свежевыпавшей крупке и зальделой пороше, дрожащие от страха люди, утыкаясь лицами в палые холодные листья, бормоча молитвы и заклинания: «Спаси!.. Сохрани!.. Отведи!..» – а осколки, несомые волной взрыва, будут, острее ежовых игл и древних мечей, впиваться в них, пронзая их плоть, вгоняясь в их бессмертные души, и будут, умирая, плакать распятые на земле люди – оттого, что и они смертны, и душа внутри них, бедная, смертная тоже. И я бросалась вместе со всеми на землю и закрывала ладонями лицо. И я шептала: «Господи!.. Спаси!..»
– Ты!.. Руки вверх!.. Стоять!.. Не двигаться!..
Я стояла и не двигалась.
Вы, захватчики, чужие солдаты. Как вас много, и почему у вас такие одинаковые лица. Вы все вылупились из человеческих яиц в подземном сундуке, где волгло и тоскливо. Вместо носов у вас острые клювы. Не клюйте меня. Я боюсь боли. Я всего лишь девочка. У девочки счастье короткое, как ее девство. Разорвут кружево – красный сок потечет. Красное варенье будет капать с чужих и злых пальцев. Не лезь грязными пальцами, ты… паскуда. Я сама раскинусь. Раскинулось море… поле… снежная степь. И я лежу в степи одна. И ворон кружит надо мной. Ворон думает, что я уже умерла. А это над девочкой вволюшку солдаты посмеялись. Разодрали ее, как курицу, и каждый отщипывал по кусочку беленького, вкусненького мяска. Люди, людоеды. Сволочи. Вы называете это жизнью. Вы называете это войной. Для чего ваша война?! Для того, дура, чтобы съедать таких глупых курочек, как ты. Чем глупее, тем вкуснее. Но мы не съедим тебя. Ты невкусная. У тебя умные глаза. Они прожигают насквозь. Да и состав скоро отправится. Надо успеть закинуть добычу. Ты наша добыча. Ты уже принадлежишь Эроп.
Мир устроен очень просто. Сейчас они свяжут меня грубой веревкой. Веревка вопьется в тело. Кинут в кузов грузовика. Колеса в глинистом киселе проковыряют тропу к подножию товарного вагона, набитого вонючей соломой.
– Вы! Овцы, вашу мать!.. Не вопить!.. Не визжать!.. Вас сейчас погрузить в товарняк и повезти далеко, далеко!.. В Райская страна!.. Туда, где каждая чельовек можно быть счастлива и богата!.. Вы научиль роскошный манир!.. Вы будейт мыть ноги и уши по утро и вечеро! Вы будейт брызгать шея и грудь лючший арома и парфюм Эроп! То ест настоящий культур! Вы не знайт его!.. Вы возить кулак в дерьмо!.. Вы спать на солома!.. Когда вы прибыть в Эроп, солома с ваген жечь, иначе эпидемиа!.. Вы будейт служиль наша господин и госпожа! Хорошо будейт служиль – каждая будейт царица на Карнавал!..
Солдаты в жестоких и тупых касках раскачали и швырнули меня, для смеху, с размаху в открытый вагон товарняка так, что я на миг потеряла сознание. Все поплыло перед глазами. Красные и черные молнии застрочили с исподу сомкнутых век.
Очнулась: кости целы, голова разбита. Из рассеченного виска на пук соломы сочится кровь.
– Тише… что ты ревешь… не плачь… все равно нам теперь не выпрыгнуть на ходу… поезд бежит быстро… прыгнешь – шею сломаешь…
Теплые, соленые слезы на холодных грязных щеках.
– Куда нас везут?… скажи… кто ты…
Ничего не вижу. Ударили сильно. Памяти тоже нет. Отшибло. Что я помню? Избу? Темноту курного утра? Лютый мороз за рыбьими тушами черных бревен? Мать топит печь. Рыжие сполохи ходят по тьме досок, по лавкам, старым тулупам, сваленным на подпечке. Белый, с рыжими пятнами кот лакает молоко из жестяной миски. Мать растапливает печь, ставит самовар, набивает его еловыми шишками, накачивает старым сапогом. В чугуне на подоконнике – тесто. Сейчас будут ставить в печь хлебы. Из остатков, ошметков теста на широкой, как черное озеро, сковороде мать испечет ароматные блины, смазав горелую сковороду кусочком сала, накрученным на старинную, с вензелем, серебряную вилку. Откуда в простом доме Царская вилка?… Мать, ты что, украла вилку?… Смех. На всю избу пахнет свежим вкусным хлебом. Дрова трещат. Царь сам подарил! За любовь!.. Не закрывай вьюшку раньше времени, угоришь. Не угорю! Я крепкая! И тебя крепкую родила. И твоих сестриц и братцев.
– Всех расстреляли… и Маню… и Федю… И Лизку… И Пашу… И мамку… и бабу Феню… Одна я осталась… Зачем… зачем…
Невидимая рука бережно поднимала мою голову с примятой соломы. Поила, поднося кружку ко рту.
– Пей, девонька… вода вымоет из тебя всю грязь…
Они, мои Ангелы, не знали, что Бог приготовил для меня яства из грязи; торты из грязи; отбивные и антрекоты из грязи; колбасы и орехи из грязи; соусы и изысканные вина из грязи. И я буду есть и похваливать: о, Бог! Лучше грязи в мире нет! Никогда такой не едала, не пивала!
А на накрытые белоснежными камчатными скатертями столы все будут метать и метать тарелки, полные отборной, вкуснейшей грязи, кувшины, наполненные густой грязью, аппетитные грязные трюфели, сладчайший грязный шоколад, грязный драгоценный кофе, грязную сметану, в которой ложка стоит.
И в отупении я буду глядеть на это великолепие грязи, и мне будут шептать, гудеть, жужжать в уши: ешь, пробуй, налегай, не отказывайся, это все твое, заказанное тобой, приготовленное для тебя самим Господом Богом, и отнекиваться ты не имеешь права. Если ты отвернешь капризную морду свою – пеняй на себя.
Тебе не поздоровится.
Тебе надо будет заплатить за весь прием.
А у тебя, презренная беднячка, таких монет отродясь не бывало.
Так что жуй, заткнув нос и зажмурив глаза, и не рыпайся.
Вкусно?!
– Как тебя зовут?
Молчание.
– Как тебя зовут, сука?!
Удар. Звон в голове. Щека горит. Она лежит на полу. Ноет скула – она, падая, ударилась щекой о каменную плиту.
– Не помню… сударь.
– Сударь, чударь, мударь! Я твой воспитатель! Поняла!
– Поняла.
– Как тебя зовут?!
Молчание.
Удар ногой в живот.
Она перекатилась по каменному полу живым бочонком, с боку на бок, с боку на бок. Застыла. Лежала животом вниз. Руками держалась за грудь.
– Тебя зовут Мадлен! Поняла!
– Меня зовут Мадлен.
– Еще раз! Ты тупая! Ты должна отвечать на вопросы, когда тебя спрашивает твой воспитатель!
– Меня зовут Мадлен. Меня зовут Мадлен. Меня зовут Мадлен.
Молчание, в которое она погружалась, когда ее не били, длилось месяцами, годами… веками. Во время царственного молчания ее никто не тревожил. Она погружалась глубоко в дрему. Дрема обволавикала ее свадебной вуалью. Опахивала павлиньим веером. В дреме она шла полями; цвели клевер и кашка, жужжали пчелы, шмели, зной полудня насыщал колышащийся воздух. С далекой колокольни долносился благовест. Кого там венчают на царство?… Ах, это просто венчают… Да прилепится жена к мужу своему, и будут плоть едина…
– Встать!
Дрема рассеивается, как туман. В нее уже можно глядеть, как в рыболовную сеть – насквозь.
Виден дюжий мужик. Дощатые плечи. Чугунный живот. Красные волчьи глазенки подо лбом. Между резцами щербинка, как у ребенка, а клыки хищно торчат. На щеке две огромных бородавки. Дьявол пометил, когда мама тужилась, выталкивала его из утробы на свет Божий.
– Встать! Быстро! Поняла!
Она научилась вскоре понимать все с полуслова.
Прежняя память, пропитанная запахом полей и лугов, лукошек, доверху полных дикой земляники, никогда больше не вернулась к ней.
Это была вожделенная Эроп, и это был всего лишь Воспитательный дом. В Воспитательный дом ее засунули хозяева – она оказалась никуда не годной прислугой. Если ей что приказывали сделать – била посуду, сопротивлялась. Куражилась. Сворачивала головы курам и петухам. Поджигала сарай. Кидала горящие головни в погребицу. Не понимала по-эропски ни слова. Глядела, как волчонок. Кольца золотых кудрей свисали ей на крутой бычий лоб. В синих глазах застыла насмешка безумия, надменность пьяного угара. «Да она втихаря прикладывается к бутыли!.. У нас, господин воспитатель, знаете, какие залежи в кладовых!.. Каких только вин у нас нет!.. И Сен-Жозеф, и Арманьяк, и Маронна, и Русанна, и Каро, и Мадо, и рейнское, и гароннское, и базельское, и тюрингское!.. А эта дикарка… эта вреднюга!.. У нее изо рта пахнет алкоголем, господин воспитатель, ей-Богу! Вы сами принюхайтесь!.. Ведь это ужас что такое!.. Какой пример она подаст нашим деткам!.. Изолируйте ее от общества! Воспитайте ее! Сделайте из нее настоящего человека Эроп! Это зачтется вам! А мы от нее отказываемся. Она ночами ходит по дому, как сомнамбула! Наклоняется над нами. Шепчет на своем тарабарском языке: я вас все равно когда-нибудь прирежу!.. Как поняли, что она шепчет?… А мы догадались. У нее такое зверское лицо при этом делалось! Как у волка!..»
Она спала в общей палате. Кучно, душно. Девчонки ночью ворочаются. Зачем матери в изобилии рожают девчонок? Бросовый товар. Все равно каждую когда-нибудь изнасилуют, поставят к стенке раком. Распнут на полу. Полы здесь ледяные. Если провинишься перед господином воспитателем, или кухаркой, или инспекторшей, или раздатчицей, или уборщицей – тебя бросят в карцер. Невеселое место. Одни камни. Камни и железо. Сверху, снизу, справа, слева. Жизни на земле нет. Есть только камни и железо. Однажды, не выдержав муки холодного железа и камня, она захотела похитить в столовой нож-хлеборезку – про запас, на следующее сидение в карцере. Когда девчонка, нарезающая хлеб, на мгновенье оторвала взгляд от мелькающей гильотины огромного черного тесака, зазевалась, повела глазами в окно, на бьющиеся под северным ветром голые зимние ветки, она изловчилась, сунула в мышеловку раздатка лапку, схватила тесак. Сунула под полу платья. С каменным невинным лицом прошествовала к столу, неся в вытянутой руке битую и гнутую миску с плещущейся гнилой баландой. Хваленая Эроп! Пиршество богов! Праздник чрева, языка и души, услажденной изысканными яствами! Она, потупив глаза, уселась за обеденный стол, длинный, как кандальный тракт, вместе с другими обряженными в серое девчонками, и послушно, громко хлебала из оббитой миски горячую идиотскую баланду. Куски ботвы плавали там, сям. Шматки картофелин. Если попадался колбасный обрезок – это был триумф. Нашедшая в миске колбасный обрезок выигрывала столовское пари. Ей полагалась награда – маленькая переходящая из рук в руки живая белая мышка. Мышку надлежало держать в ящике, убирать за ней поганые катышки, кормить ее свежей травой и корочками, украденными на обеде. Считалось, что мышка колдовская. Она могла заколдовать господина Воспитателя, чтобы он, к примеру, не сек провинившихся девчонок солеными розгами и не запирал их в черную комнату.
Черная комната.
Ужас моего детства.
Никакой карцер не сравнится с ней.
Воспитатель вталкивал меня в черную комнату и запирал. Ключ хрустел в замке. Сперва я ничего не видела. Глаза привыкали – я различала очертания койки, устланной черным крепом, черной подушки, черной тумбочки, на черной зеркальной поверхности которой стоял черный стакан, наполненный черной пахучей жидкостью.
Я тогда не знала, что именно так пахнет коньяк.
В моей деревне я никогда его не пила.
У нас мужики пили по праздникам самогон… красненькое… домашние вишневые, клубничные настойки…
Запах коньяка дразнил, насмехался, возбуждал.
Воспитатель заходил через горы времени. Я успевала снова позабыть себя и опять вспомнить. Лежала на койке ничком. Он грубо встряхивал меня за плечо, поворачивал к себе. Тусклый красновато-черный свет сочился из-под потолка, из-под железной двери, исходил от каменной кладки, от блестящей никелированной спинки кровати.
– Ну? – говорил Воспитатель весело. Хриплое дыхание цедилось сквозь его щербатые зубы, как через сито. – Будешь показывать мне танцы своей любимой родины?
Он подходил ко мне. Его лицо отсвечивало дегтем и смолью. Красно, будто у волка, горели зрачки. Он клал ладони на мои колени и раздвигал их. Юбка с хрустом рвалась. Я как бы видела себя со стороны его глазами: вот лежит в полумраке на скрипучей койке беспомощная девчонка, маленькая курочка, и ее ощупывают, исследуют, как в лупу, придирчиво разглядывают, прежде чем… Прежде чем что? Страх собирался в комок, и комок бился в горле подбитым из рогатки воробьем. Что он сделает с тобой, девочка? Он, мужик и издеватель, вдесятеро сильнее тебя? Ты даже не сможешь закричать – он всунет кулак тебе в зубы.
И я действительно не смогла закричать, когда он, испытав меня мукой неведения, тяжело и бесповоротно навалился на меня.
Мое зрение вышло из меня и наблюдало происходящее сверху, из-под потолка с тусклой красной лампой. Мое зрение видело: девочку рвут грубыми руками надвое, и мышцы над локтями мужика бугрятся; она бьется; пытается вырваться; ее придавливают всей тяжестью мужичьего тела к железной панцирной сетке ходящей ходуном койки; чужие зубы кусают ее грудь; ей больно, она хочет закричать, и волосатый кулак влезает в ее распяленный рот, чтобы заткнуть рвущийся наружу крик, и бедное зрение безучастно, отдельно от тела, продолжает видеть, как торчат, по обе стороны подпрыгивающей, страшно колышащейся мужской туши нежные и тощие девчоночьи ноги – ах, худая ты, курочка, плохо в Воспитательном доме кормят тебя. Кому ты когда понравишься. Да никому. Благодари Бога, что этот битюг и мучитель избавил тебя навсегда от веры в любовь. От мечты о счастье.
Зрение видело копошенье двух тел, но не слышало стоны. Я плакала. Слезы медленно стекали по моим щекам, красные слезы, красные капли. Боль внутри меня росла и ширилась. Черная простыня была вся в каплях красных слез.
Воспитатель долго, с отвратительным кряхтением, танцевал на растерзанной мне животом, ребрами, руками и ногами. Отросток внизу брюха Воспитателя, сделавший мне больно, я хотела оторвать, после того как он, сопя, вскочил с моего распятого тельца и стал заправлять черную рубаху в черные брюки. Я протянула птичью лапку руки, схватила воздух. Воспитатель отпрянул, больно ударил меня по руке кулаком.
– Ишь, что задумала, стервочка, – злобно сказал он. – Ты думаешь, ты тут последний раз? Ты еще потанцуешь мне тут всякие танцы. И твои мерзкие подружки тоже. Видишь ли, – он приблизил свое поганое, пахнущее чесноком лицо к моему, – я могу только с вами, с девчонками. А с большими взрослыми бабами не могу. Я на вас падок. До вас лаком. Будешь послушной, хорошей танцоркой – куплю зимнюю шубу. Будешь дрыгаться, пытаться укусить – проходишь зиму в кацавейке. Знаешь Жаклин?… Она плюнула мне в лицо. Она ходила всю зиму в холщовой робе, в самые холода. Знаешь, что с ней?
– Что? – глупо спросила я. Мое зрение возвращалось ко мне, в мое тело, под мой исцарапанный ногтями Воспитателя лоб.
– Она умерла. Скоротечная чахотка. Двустороннее крупозное.
– А вылечить?…
– В Воспитательном доме врача не держим, – насмешливо сказал мужик, поднялся над койкой во весь рост и пнул меня коленом в голый живот. – А ты ничего курочка. Танцевать научишься. У тебя пока фантазии маловато. Деревенщина. Поганка восточная. Мы, Эроп, обучим тебя всему. Будешь плясать и фанданго, и фарандолу, и фламенко, и жигу, и ригодон, и контраданс, и тарантеллу, и карманьолу. Как миленькая. С горящими глазками. С улыбочкой на устах.
Он ткнул меня пальцем в пупок.
– Пришлю к тебе татуировщика, пока ты здесь лежишь и очухиваешься. Твой пупок похож на глаз. Пусть он выколет тебе на животе третий глаз. Будешь им щуриться и моргать на всех своих будущих любовников.
Он хрипло рассмеялся, вышел и резко, со звоном, хлопнул железной дверью.
Татуировщик, толстый, одышливый негр, не замедлил явиться. Он привязал меня к кровати за руки и за ноги – обмотал запястья и щиколотки веревками, крепко прикрутил к никелированным прутьям. Я орала. «Ори сколько хочешь, – бросил татуировщик небрежно, – здесь все равно бетонные стены.» Он вынул из котомки баночки, пузырьки, набор игл, лупу, очки, бутыль с неведомым черным раствором.
Когда он наклонился надо мной и стал наносить рисунок Третьего Глаза мне на живот, я стала извиваться, как змея, и плевать ему в рожу. Пусть я тоже, как Жаклин, заболею чахоткой и умру! Мне все равно! Ты не нарисуешь на мне Глаз! Ты убежишь отсюда сломя голову со своими дьявольскими баночками и иголочками!
Жирный негр размахнулся и ударил меня по щеке. Челюсть свихнулась у меня на сторону. Голову разодрала надвое дикая боль.
Так, со свернутой челюстью, не глядя на мое залитое слезами лицо, татуировщик и выколол на моем животе мелкими и длинными иголками Третий Глаз – на всю оставшуюся жизнь, плюясь, чертыхаясь и хрипя, стараясь вовсю, ибо Воспитатель ему хорошо заплатил, – всаживая иглы мне под кожу с изуверством и жестокостью истинного мастера, трудясь в поте лица, насвистывая сквозь зубы карнавальные песенки, – бедный кафр, он был всего лишь раб, как и я, он выполнял приказание, он покупал хлеба и мяса на деньги, что заплатили ему за мой исколотый чернильными иглами девчоночий живот. Закончив работу, он промокнул мне пузо обрвком моего разодранного платья и засмеялся, переводя дух.
– Давай подбородок тебе поставлю на место!
Он рванул мне вывихнутую челюсть, вцепившись в нее обеими руками, так, что искры посыпались из глаз моих, исчезая в кромешной тьме бессознанья.
Воспитатель уводил Мадлен в черную комнату часто. Приступы похоти накатывали на него внезапно. Она измучилась. Она задумала бежать. Побег был неосуществимой мечтой многих девчонок в Воспитательном доме. Никто из девочек не знал, куда потом, повзрослев, исчезают воспитанницы. Ходили слухи, что их продавали на содержание богатым дядькам, в веселые дома; кое-кто поговаривал, что особо здоровеньких и крепеньких увозили в больницы, и там… Что там, договаривать боялись. Делали круглые, страшные глаза. Прижимали палец ко рту. Острые скальпели, разрез, еще разрез, красные полосы, багряные разводы… бьющиеся в резиновых руках, свежие, молодые потроха… За это платят большие деньги. Очень большие. Какие? А вот тебе никогда не догадаться, какие. Ты и цифры-то такой не знаешь.
А если знаю?…
Ну, скажи!.. Ну, скажи!..
Сто тысяч миллионов миллиардов. Вот сколько.
Сцепленные намертво зубы, мрачный взгляд. Она, хорошенькая, не подозревающая о том, что ее славянские русые волосы отрастают густо и вьются крупными кольцами, охватывая золотой шапкой гордую голову, что у нее ярко-синие, как январское небо в солнечный день, глаза – как зимнее, ослепительное небо над сугробами, над золотыми куполами белых родных церквей, над голубями, клюющими семечки на грязном снегу под ногами у рыночных торговок, у офицеров со строгой выправкой, у старых монахов с котомками за плечами… – в Воспитательном доме не было зеркал, чтобы девочки не разбили их нарочно и не подобрали осколки, используя их вместо ножей, – воображала себя угрюмой и злой старухой, так насквозь прочернела ее душа. Молодость пыталась брать свое. Они придумали праздник, карнавал. Воспитателю не скажем!.. Тайком, под подушками и простынями холодных палат, пропахших хлоркой – полы уборщица мыла всегда с порошками, во избежание зловредной заразы: культура Эроп!.. – мастерили и прятали маски, вышивали их «жемчужинами» и «сапфирами» – похищенными в каптерках канцелярскими кнопками и отодранными от халатов и лифчиков пуговицами и крючками. Сшивали из дырявых простынок, разрывая их на лоскутья, к вящему отчаянию лысой кастелянши, царские наряды – атласные накидки, горностаевые мантии.
– Мадлен… а Мадлен… Слышишь… Я придумала еще одну маску…
– Какую?…
– Лисью… я хочу сделать себе маску лисицы… Ведь из лесу в Рождество приходят лисы, волки и медведи… они садятся вокруг Санта-Клауса и Люсии, под елку, и прямо к их мордам ставят трехслойный торт, украшенный горящими свечами…
– А сколько свечей нужно?…
– Тс-с-с… Тетка Эрих идет!..
– Мимо двери прошла…
– …столько, сколько лет от Рождества Христова мы празднуем…
– А елка у нас будет, девочки?…
– Господин Воспитатель пообещал…
– Фью-у-у-у… Он с нас за эту елку… – злобный хохоток, смех… – три шкуры в черной комнате сдерет!
Девочки, все до единой изнасилованные Воспитателем, содвинули русые, каштановые, черные головки над мятыми простынями и верблюжьими вытертыми одеялами, над корзинами с грязным бельем, над дожелта выскобленными уборщицей половицами.
В руках мелькали иголки с нитками, обрезки бумаги, штапельные и холщовые лоскутки. Той, кому удавалось раздобыть в недрах Воспитательного дома бархатный лоскуток, завидовали черной завистью.
Мадлен не шевелилась, глядя в черное, просвеченное ночными уличными фонарями пространство мертвой палаты.
Она думала: вот она убежит, вот ее обнимет свобода, и она навсегда забудет ненавистный Дом, койку в черной комнате, надсадные крики тухлого раздатка.
– Куда ты глядишь, Мадлен?… Очнись!.. Я тебя еще раз спрашиваю: как ты думаешь, в какой одежде ходил царь волхвов?… Ну, волхвиный царь, который привел волхвов к хлеву, где рожала Мария?…
– Не знаю… откуда я знаю…
– Зато я знаю! – Гордый, надменный шепот, горящие во тьме радужки веселых глаз. – У него была белая борода, он был старик, и носил золотую корону, а одежды у него были пошиты из нежно-голубого атласа и синего бархата, расшитого жемчугами!.. Потому что он был еще и звездочет, и наряд себе сшил цвета звездного неба!..
Звездное небо. Оно есть. Оно за каменной, железной стеной ее отроческого ужаса. Оно никуда не девается. Память выбили из нее смертным боем, но она помнит еще краем сознания, что над снегами ее родины сияло и переливалось всеми огнями радуги подобное звездное небо. Плащаница мира. Покрывало Создателя. А мир вправду создан из ничего?… Тьма была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами.
– Эй, Мадлен!.. Дай-ка мне иголку вон из той коробки!..
Она выцепила из коробки иглу с ниткой, протянула подружке, и ее замутило – она вспомнила, как трудился, сопя, негр над ее животом, втыкая под кожу иглы, и она кричала, надсаживая глотку, а он ронял на ее искусанную Воспитателем голую грудь слюну.
– Девчонки… Мадлен плохо!..
Крики вдоль по коридору. Топот. Беготня. Ее несут, держа за руки и ноги – носилок нет. Бросают на койку в каптерке, наспех приспособленной под лазарет. Хваленая Эроп, где же твои врачи? Кому врачи, а кому и рвачи. Из-под нее то и дело вытаскивают окровавленные тряпки. Мутное море забытья. Боль внутри раздираемого железными штырями и ложками брюха. Ее брюхо – кастрюля, из которой хлебают красный суп большими столовыми ложками. Плещут ополовником. В деревне ставили миску на стол, и, пока отец не зачерпнет, дети не могут и пикнуть.
Девочки едва успели запрятать свои поделки к празднику.
«А вы знаете, что с Мадлен?…» – «Это самое.» – «А она уже не встанет на ноги?…» – «Если ее кормить красной икрой, может быть, и встанет…» – «Девочки!.. Давайте раздобудем красной икры!.. Ее продают в магазине на Кроссенмаль…» – «На какие шиши ты купишь ей икры?! Ты дура, что ли?!..» – «Украдем. Стащим… у господина Воспитателя…из кармана… когда она нас снова… будет…»
Они так и сделали. Деньги были добыты. Икра была куплена. Девочки по очереди прокрадывались в нищий лазарет, где лежала белая как мел Мадлен, то и дело проваливающаяся в пропасть жара и бреда, и, боясь и крестясь, поминутно оглядываясь на скрипящую дверь, прислушиваясь, как волчата, к шагам в гулком коридоре, кормили ее с витой чайной серебряной ложки, похищенной у кастелянши прямо из чайной чашки, отборной, крупной кетовой икрой, и каждая красная икринка блестела, как ограненный рубин, как турмалиновый крохотный кабошон, и Мадлен глядела на нее бессмысленно, и глотала с ложки сверкающие яхонты, и две слезы однажды выкатились из ее уставленных тупо в пространство глаз и растаяли в комках тряпок и перьях подушек.
Оправившись после выкидыша, она стала продумывать побег. Любая задумка – ничто в сравнении с великой волей и счастьем случая.
И случай подвернулся.
За обнаруженный у нее под матрацем кухонный тесак она опять попала в карцер. Она хранила нож, как древние воины хранили меч – до поры, чтобы, когда грянет гром, вытащить его и взмахнуть им от всей души. Номер не прошел. Кастелянша, вытряхивая матрац в поисках вшей и клопов, наткнулась подслеповатыми глазами на нечто узкое, серебристо-блестящее, как засоленная вобла или вяленая чехонь.
– Нож!.. Под подушкой у Мадлен нож!..