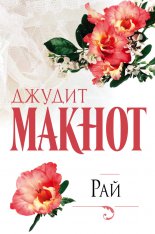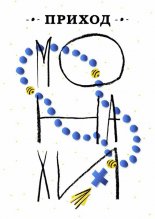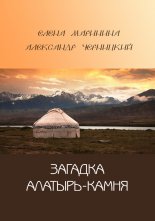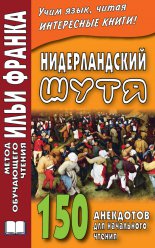Свидание в аду Дрюон Морис

И почти тотчас же Симон увидел другую пару – старая герцогиня хищно вцепилась в Жан-Ноэля.
Лартуа, стоявший поблизости и также наблюдавший за танцующими, сказал ему:
– Я уверен, что мы думаем об одном и том же, дорогой Симон. Так и хочется крикнуть двум этим детям: «Уходите, бегите отсюда! Бегите от этих людей, которые в три, а то и в четыре раза старше вас; они жаждут выпить всю вашу кровь, все жизненные соки, извлечь их так же, как извлекают смолу из стволов молодых елей! Бегите от этих циничных жрецов разврата, всяческих пороков, лжи, от этих людей, постоянно ищущих новые жертвы. Бегите от этих эротоманов, бегите от тлетворных созданий, подобных Инесс… Перестаньте кружиться в пляске со смертью. Бегите от нас», ибо все находящиеся здесь мужчины – вы, я, они – жаждут обладать этой девушкой. А все женщины старше сорока лет вожделеют юного Шудлера, впрочем, как и некоторые мужчины… Все мы отмечены печатью низменных страстей.
– Какой необъяснимый прилив добродетели, – заметил Лашом. – Это так мало походит на наши мысли и чувства.
– Мы бы испытывали иные чувства, будь у нас дети, – возразил Лартуа, – а ведь мы говорим о внуках наших друзей, наших старых друзей… Правда, подобные чувства более естественны для меня, чем для вас, ведь вы моложе на тридцать лет.
– Но я почти на столько же старше их. И четверть века, отделяющая меня от них, – куда более непреодолимый барьер, чем та четверть века, что отделяет меня от вас.
Усталые музыканты разрешили себе короткую передышку, и танцы прервались. К Жан-Ноэлю подошел лакей и сообщил, что его зовут к телефону.
Немного погодя юноша возвратился, на лице его лежало выражение хмурой озабоченности; он направился к сестре и шепнул ей на ухо:
– Бабушка…
Оба направились к выходу.
До последних дней своей жизни госпожа де Ла Моннери продолжала играть в бридж.
Когда она уже не могла подниматься с постели, ее обычные партнеры – кузина де Лобрийер, чье поросшее волосами лицо напоминало засушенное растение, другая старуха, исполинского роста, с грудью, свисавшей до пояса, и, наконец, бывший докладчик Государственного совета, двойной подбородок которого выпирал из просторного накрахмаленного воротничка, – рассаживались у самого ее ложа.
В этой компании играли по четверть сантима, обращались друг к другу то со старомодной учтивостью, то с неожиданной фамильярностью, постоянно повторяли одни и те же остроты и именовали свои ежедневные сборища «нашим большим турниром».
Все партнеры давно овдовели, их уже никто не приглашал в гости и никто не навещал. Безрадостное долголетие стало для них темницей, и бридж – последняя доступная им страсть – объединял их не менее прочно, чем узы сильной любви. Они так часто виделись, что порою почти проникались ненавистью друг к другу, и все же не видеться не могли.
Волей-неволей им приходилось проявлять друг к другу терпимость, сносить уродство партнеров, их мании и недуги, хотя каждый считал про себя, что делает великую милость, прощая слабости остальным.
Каждые полчаса бывший докладчик Государственного совета был вынужден выходить из комнаты, а если порою ему случалось, увлекшись игрою, задержаться дольше, то под ним промокало кресло. Иногда он сам этого не замечал, но бывало и так, что он испытывал нечто похожее на злорадство: ему казалось тогда, что он пользуется последней привилегией паши, находящегося в обществе трех одряхлевших женщин, которых он именовал своим «гаремом». Дамы делали вид, будто не замечают его недуга, и ограничивались тем, что, меняя места во время игры, старательно обходили стул, на котором перед тем сидел их незадачливый партнер, так что к концу партии вокруг стола оказывалось в два раза больше стульев, нежели игроков.
Госпожа де Ла Моннери совсем оглохла, зачастую даже не могла понять, что ей говорят партнеры, и тогда приходилось прибегать к помощи карандаша и бумаги. Во время игры она настолько слабела, что под конец уже не могла держать в руках карты – за нее это делала горничная.
День за днем участники «большого турнира» наблюдали, как она угасает. Порою им начинало казаться, что они играют в бридж с покойницей, а ведь умирающая была не намного старше их. И каждый вечер, уходя семенящей походкой из особняка на улице Любек, они горестно покачивали головами и бормотали: «Бедняжка Жюльетт…» – и неизменно спрашивали себя, не суждено ли только что окончившейся партии стать для нее последней.
Госпожа де Ла Моннери умирала от чахотки. Болезнь эта, поражающая людей двух возрастов – юных и старых, – обосновалась в ее изношенных легких. Старая дама почти ничего не ела и совсем не спала.
В лежачем положении она задыхалась.
Сидя на резиновом круге, обложенная шестью подушками, поддерживающими со всех сторон ее высохшее тело, она проводила в полузабытьи все ночи напролет, и перед ее глазами во мраке непрестанно возникали различные карточные комбинации.
И вот, в этот последний вечер, придя в себя после почти двенадцати часов забытья, госпожа де Ла Моннери внезапно вспомнила о том, что ей надлежит безотлагательно выполнить важную обязанность, без чего она не может спокойно умереть. Страх, что она не успеет совершить этот акт, охватил больную с такой силой, что она поняла: конец ее близок.
К ней снова вернулся властный тон, который был так характерен для нее всю жизнь, и она потребовала, чтобы послали за священником и позвали внуков.
– Священник был у вас нынче утром, – сказала ей горничная, отчетливо выговаривая слова над самым ухом умирающей.
Госпожа де Ла Моннери шире открыла глаза.
– Хорошо! – с трудом проговорила она. – Тогда позовите ко мне внуков.
Она подумала: «Я ничего не сказала об этом священнику. Правильно ли я поступила? Конечно правильно, ведь речь идет не о моих собственных грехах…»
И она вновь впала в забытье; в ее затуманенном лихорадкой сознании причудливо смешивалось все – бридж, взятки в пиках, предстоящий суд Всевышнего и драмы давних лет.
Жан-Ноэль и Мари-Анж вошли медленным осторожным шагом, как обычно входят в комнату умирающего. Госпожа де Ла Моннери не двигалась. Сиделка-монахиня слегка кивнула головой, что означало: «Нет, она не чувствует себя хуже… Просто она отдыхает».
Лампа у изголовья больной едва освещала комнату, обставленную мебелью в стиле Людовика XVI. Столик для игры в бридж, с фишками и двумя колодами карт, был отодвинут в угол. На другом столе, в глубине комнаты, можно было разглядеть облупившиеся пыльные баночки с краской и разноцветную бумагу, из которой госпожа де Ла Моннери некогда изготовляла платья для своих фигурок из хлебного мякиша. Она уже много лет назад забросила свое излюбленное занятие, но до конца жизни так и не решилась расстаться с его атрибутами.
Несколько минут молодые люди молча смотрели на умирающую. Она сидела в постели, опершись на подушки; плечи ее, хрупкие, как у ребенка, резко обозначались под измятой ночной рубашкой; глаза были закрыты, дыхание со свистом вырывалось из полуоткрытого рта. Седые, но еще густые волосы над сморщенным, исхудалым, слегка синюшным лицом походили на широкую шляпу.
Жан-Ноэль и Мари-Анж испытывали тягостное чувство, какое инстинктивно испытывает человек перед лицом смерти. Но тщетно они говорили себе: «Ну вот, бабушка умирает… Наша бабушка…» Тщетно они заставляли себя думать, что эта высохшая, с трудом дышащая старуха дала когда-то жизнь их матери, а та в свою очередь родила их самих, – настоящего горя они не испытывали. Казалось, какой-то прозрачный и вместе с тем непроницаемый экран отделял их от умирающей, которая уже не походила на образ бабушки, сохранившийся в их детских воспоминаниях.
Госпожа де Ла Моннери приподняла веки и заметила внуков. Сколько времени они уже находятся здесь? Может, только что вошли?
Они возникли у изножья ее кровати, как чудесное видение, – Мари-Анж в белом платье, Жан-Ноэль в черном фраке. Сквозь застилавший глаза предсмертный туман они показались ей принцессой и принцем, осиянными счастьем.
– Это мои внуки… это мои внуки, – прошептала умирающая. – Вы приехали с бала?
– Да, бабушка, – ответила Мари-Анж.
Девушка заставила себя подойти ближе и поцеловать старуху, подумав при этом (и упрекнув себя за такую мысль): «Завтра мне, должно быть, уже не надо будет скрывать от нее, что я делала в течение дня».
Старая дама остановила ее едва заметным движением руки.
– Нет, нет, не надо целовать меня, я очень больна, вы можете заразиться.
Потом она повторила:
– Вы приехали с бала…
То были ее внуки, и тем не менее они казались ей такими же далекими, какой она сама казалась им, – удивительно далекими, словно они жили в другую эпоху. Тот же экран, та же полупрозрачная стена разделяла их. Они походили сейчас на ее отца и мать, когда те были еще молоды и собирались в гости; они походили на нее самое и ее мужа Жана де Ла Моннери, когда оба, будучи молодоженами, смотрелись в зеркало перед тем, как ехать на званый вечер; они походили на ее дочь Жаклин и на зятя Франсуа… Они казались олицетворением юности – юности, которой нет конца, которая всегда прекрасна и всегда танцует, юности, которая существует вечно и всегда неизменна.
– Почему вы не на балу? – проговорила госпожа де Ла Моннери.
Жан-Ноэль взглянул на сестру.
– Но ведь вы прислали за нами, бабушка, – ответил он.
Госпожа де Ла Моннери не услышала этих слов, но она уже вышла из оцепенения.
Ее взгляд оживился.
– Вы здесь, это хорошо, – сказала она. – Мне надо с вами поговорить.
Ею снова овладела неотвязная мысль о том, что она должна открыть им тайну. Она чуть пошевелилась, почувствовав при этом ноющую боль в спине, повела рукой и повернула голову к сиделке.
– Выйдите на минуту, – приказала она.
Голос ее был очень слаб, но, как и прежде, звучал властно.
Монахиня вышла.
Госпожа де Ла Моннери еще несколько секунд молча смотрела на внуков, спрашивая себя, произошло ли на самом деле то, что она собиралась им открыть: внезапно умирающей почудилось, будто все это ей только привиделось.
– Так вот, я должна рассказать вам о двух вещах, – произнесла она наконец. – О первой из них известно многим, но от вас ее скрывали. Дело в том, что ваш отец покончил с собой… Да-да, а вам говорили, что с ним произошел несчастный случай. Он сам выстрелил себе в голову…
Жан-Ноэль сначала не понял, чья рука легла на его затылок. Оказывается, он сам поднес руку к голове.
– О второй не знает никто, кроме доезжачего Лавердюра и меня… – продолжала умирающая.
В воздухе резко пахло лекарствами. По крайней мере, это было единственное ощущение, которое воспринимали в ту минуту Жан-Ноэль и Мари-Анж.
– Вторая вещь, – повторила госпожа де Ла Моннери, – о которой я хотела вам рассказать, – это то, что ваша мать была убита своим вторым мужем… вашим бывшим отчимом… Де Воосом… Он был пьян и приревновал ее… тропическая лихорадка. Лавердюр вел себя безупречно. Он помог нам избежать скандала. Всегда сохраняйте к нему признательность… Я хотела предупредить вас на тот случай, если когда-нибудь этот негодяй Де Воос вздумает вновь появиться… Теперь вы знаете все. Я хранила эти тайны до тех пор, пока было возможно… Не говорите о них никогда… никому. Это семейные тайны.
Молодые люди больше не ощущали запаха лекарств. Витавшая в комнате смерть, казалось, роковым образом разрядила атмосферу.
Брат и сестра взглянули друг на друга, и каждый поразился тому, насколько другой был бледен. И все же они не испытывали страдания. Тонкие крылья носа Мари-Анж казались совсем прозрачными.
«Как бы ей не стало дурно…» – подумал Жан-Ноэль. Протянув руку, он сжал запястье сестры. Им немедленно захотелось задать умирающей несколько вопросов, но они не решались.
Госпоже де Ла Моннери эти признания не принесли облегчения, на которое она рассчитывала. Напротив, ощущение тяжести еще усилилось, словно только что перенесенное напряжение окончательно истощило ее силы. Но теперь уже не бремя тайны вызвало в ней эту мучительную тоску: ей предстояло примириться с мыслью о смерти.
«Раз уж это должно произойти, раз уж это вот-вот свершится… Господи, помоги мне удержаться от крика», – мысленно молила она.
И молодые люди отчетливо услышали ее шепот:
– Господи, помоги мне умереть достойно.
Ужас, подобно черной завесе, окутывал ее душу.
– Ступайте, родные, теперь уходите, – с трудом вымолвила она. – Да благословит вас Бог! Мы все встретимся там, на небесах.
Неодолимая дрожь сотрясала ее тело.
– По крайней мере, прежде чем навеки закрыться, мои глаза насладились вашими прелестными лицами, – прошептала она еще. – Ступайте же, прошу вас.
– Доброй ночи, бабушка, спите спокойно, – торжественно произнес Жан-Ноэль, сознавая, что эта ночь станет для нее вечной.
Умирающая снова жестом попросила их уйти. Она хотела скрыть свою смерть, как нечто постыдное, подобно тому как всю жизнь скрывала от других отправления своего организма.
Жан-Ноэль и Мари-Анж послушно направились к двери.
Они ни разу не обернулись. Госпоже де Ла Моннери было суждено в последний раз запечатлеть их образ вот так, со спины, – увидеть прекрасные обнаженные плечи Мари-Анж и изящный, покрытый светлыми волосами затылок Жан-Ноэля. Они медленно уходили в будущее. Умирающая не слышала, как захлопнулась дверь, та самая дверь, через которую на протяжении всей ее жизни входили и выходили и она сама, и все ее близкие. Она смежила веки, твердо решив не видеть больше ни одного лица в здешнем мире и только терпеливо ждать, когда же окончится охвативший ее смертельный ужас.
Партнеры по «большому турниру» ожидали в гостиной нижнего этажа. Они напоминали трех дряхлых животных, затерявшихся, как в лесу, среди старинных кресел. В тот день им не удалось сыграть обычную партию в бридж. Но они оставались в доме, точно члены семьи, и мысленно оправдывали свое присутствие туманными доводами… «А вдруг бедная Жюльетт захочет нас повидать… А вдруг мы для чего-нибудь понадобимся…» Каждые двадцать минут бывший докладчик Государственного совета незаметно выходил из комнаты.
Изабелла Меньере, племянница госпожи де Ла Моннери, не знала, как от них избавиться. Эта невысокая коренастая женщина с серебристыми нитями седины на висках озабоченно ходила по комнате, то и дело снимая и надевая очки, и время от времени предлагала старикам оранжад.
«Тетя Изабелла», как ее называли Жан-Ноэль и Мари-Анж, к пятидесяти годам располнела, несмотря на строгий режим и диету. Эластичный пояс, сжимавший ее бедра, каждую минуту грозил лопнуть; платье туго обтягивало грудь. Наступивший климакс усилил всегда присущую ей болезненную нерешительность. В эти минуты она думала о том, что предстоит разослать извещения о похоронах, и жалела об отсутствии госпожи Полан, которая в свое время была просто незаменима в дни траура; Изабелле и в голову не приходило, что теперь она уже сама играет роль «милой Полан» и что, в сущности, ей ничего больше не остается в жизни.
Жан-Ноэль и Мари-Анж вошли в гостиную. Все повернулись в их сторону.
– Ну как? – спросила вполголоса старая виконтесса де Лобрийер.
Жан-Ноэль слегка пожал плечами, развел тонкими белыми руками и ничего не ответил. Мари-Анж машинально сдирала бесцветный лак с ногтя большого пальца и не сводила глаз с брата.
Трое стариков обменялись взглядами, словно говоря друг другу: «Бедные дети, они так потрясены. Какой это для них ужасный удар!»
– Не хотите ли выпить немного оранжада или чего-нибудь поесть? – спросила Изабелла.
– Нет, спасибо, тетя Изабелла, – ответила Мари-Анж. – Я, во всяком случае, не хочу.
Жан-Ноэль только отрицательно покачал головой.
«Наш отец покончил с собой… Нашу мать убили… – повторяли про себя брат и сестра. – А мы столько лет жили, даже не подозревая об этом».
Оказывается, мало того, что они разорены, мало того, что они круглые сироты, судьбе захотелось еще, чтобы в их семье разразились драмы, которые, как они думали, происходят только в чужих семьях, только с другими, незнакомыми людьми… У обоих было такое ощущение, будто кто-то рассказал им, что род их поражен ужасной наследственной болезнью.
В их головах, причудливо перемешиваясь, теснились воспоминания… далекие-далекие воспоминания, связанные с похоронами отца и с угрюмым молчанием, воцарившимся в особняке на авеню Мессины… «Почему папа умер, мисс Мэйбл?..» – «Несчастный случай, ужасный случай, милые дети. Вы должны быть очень благоразумными и вести себя хорошо. У взрослых столько горя и забот…» Потом возникло более близкое воспоминание о рождественских каникулах, которые они проводили в горах с тетей Изабеллой, и о том, как внезапно прибыла телеграмма, извещавшая о смерти их матери… Рухнул балкон в замке Моглев. «Вот здесь упала госпожа графиня. Какое несчастье!..»
«Он был пьян и приревновал ее…» Какие основания были у Де Вооса ревновать жену? Дети Жаклин не могли припомнить ни одного мужчины возле их матери. В их памяти она навсегда осталась хрупким светлым видением, образцом прямоты, справедливости и благочестия, предметом их обожания. Можно ли было представить себе, что она вела себя так же, как многие другие женщины, как почти все другие женщины… которых тем не менее не убивают?
Или же виноват во всем был этот необузданный человек, которого они никогда не любили, к которому всегда испытывали безотчетную вражду? А если он был виновен, почему его не арестовали, не осудили? И как у этого убийцы хватило дерзости на протяжении почти двух лет после совершенного преступления жить рядом с ними, делая вид, будто он заботится об их воспитании и защищает их интересы?
И тут Жан-Ноэль внезапно вспомнил, что он одет во фрак этого человека… О нет! Только не это! Он резко выпрямился, встал, но встретил недоуменные взгляды стариков и снова опустился в кресло.
В памяти у него всплыла фраза, сказанная одним из слуг во время похорон матери: «Господин граф приехал в ту ночь из Парижа во фраке…» И Жан-Ноэль спросил себя, не тот ли самый на нем фрак, в котором убийца приехал в тот вечер…
Он вдруг решил поехать в Африку, разыскать Габриэля Де Вооса, заставить его признаться в совершенном преступлении, привлечь его к суду или убить собственной рукой.
Но Жан-Ноэль тут же признался себе, что ничего этого он не сделает, что это лишь последний ребяческий порыв, лишь мелодраматическая поза, какие принимают дети в одиннадцать лет, говоря: «Когда я стану взрослым!» И теперь он взрослый, и тем не менее так и будет сидеть здесь, в кресле времен Людовика XVI, сохраняя внешнее спокойствие, сдержанность, невозмутимость, ибо так его воспитывали с детства – словом и примером… Не выказывать своих чувств, всегда сохранять достоинство и самообладание… «В наших семьях носят маску, в наших семьях задыхаются под своей маской, кончают с собой, убивают друг друга, но никому не говорят об этом, даже собственным детям… В наших семьях порою едва не сходят с ума… но остаются при этом неподвижно сидеть в унылой гостиной в обществе нескольких стариков и ожидают смерти своей бабушки, держа в руке номер „Фигаро“ и слегка покачивая ногой…»
Жан-Ноэль удивлялся, где он взял эту газету, которую так и не развернул… Внезапно он скомкал ее и швырнул на ковер. Старики обменялись недоуменными взглядами, но ничего не сказали.
«Нет, право же, это слишком нелепо», – подумал Жан-Ноэль. Его охватила неистовая ярость против судьбы. Ведь оба они с сестрой родились и выросли в очень богатой семье, с детства привыкли к роскоши; они были едва ли не самыми богатыми наследниками в Париже, им предстояло стать в будущем обладателями огромного состояния и занять свое место в мире роскоши и могущества; и вот теперь, начиная по-настоящему жить, они оказались без родных, без семьи, без поддержки, без денег, и все их имущество сводилось к обветшалому, непригодному для жилья историческому замку, в котором протекала крыша, да кое-какой недорогой мебели и нескольким картинам в особняке на улице Любек, которые они поспешат распродать, чтобы не умереть с голоду, как только тело бабушки будет предано земле.
«Если Богу угодно, чтобы мы оказались бедняками, то лучше бы родились и выросли в бедности. Так было бы легче».
Жан-Ноэль, который уже много лет не вспоминал о Боге, внезапно стал его ненавидеть, не находя другого виновника своего несчастья. Ненавидел он и все, что его окружало, – эту гостиную, этих стариков… И приближение смерти, которая, казалось, уже стояла на пороге их дома, с каждой минутой становилось для него все более нестерпимым.
– Не знает ли кто-либо из вас, где лежат извещения о последних похоронах – о похоронах дяди Урбена и тетушки Валлеруа?
С этими словами Изабелла Меньере обратилась к племянникам. Жан-Ноэль молча посмотрел на нее, резко поднялся и вышел из комнаты. В передней его догнала Мари-Анж.
– Жан-Ноэль! Что с тобой? – спросила она.
– Не могу больше, не могу. Я ненадолго выйду из дома.
– Я пойду с тобой.
– Нет, я хочу остаться один, – возразил он.
Мари-Анж обвила руками шею брата и прижалась головой к его крахмальной манишке.
– Знаешь, у меня тоже очень тяжело на душе, – шепнула она.
Потом, подняв глаза, она спросила:
– Ты идешь к Инесс? Да?
Он покраснел и дернулся, отстраняя ее от себя.
– Я зайду только на минуту и тотчас же вернусь, уверяю тебя, – сказал он, стараясь подавить дрожь в голосе. – Я должен ей кое-что сказать… немедленно.
– А ты не мог бы позвонить по телефону?
Жан-Ноэль покраснел еще сильнее и ничего не ответил. Ему так хотелось бы все объяснить сестре, но он не находил слов.
Мари-Анж посмотрела на брата.
– Ступай, Жан, повидайся с нею, раз ты нуждаешься в ее утешении, – проговорила она.
Потом опустила глаза, и лицо ее стало жестким, но то была чисто внешняя жесткость. Мари-Анж сдерживала слезы.
– Возьми свой шарф, – проговорила она, протягивая брату белый фуляр.
– Я скоро вернусь, – пробормотал он.
Она крепко сжала его руку.
– Жан-Ноэль, но все-таки… не рассказывай ей.
– Ты с ума сошла! – вырвалось у него.
«Да разве он может что-либо скрыть от нее! Ведь он идет туда именно для того, чтобы все рассказать», – подумала она, отвернувшись.
Мари-Анж приоткрыла дверь в гостиную:
– Тетя Изабелла, если я вам понадоблюсь, я буду у себя в комнате.
– А Жан-Ноэль?
В это мгновение стукнула парадная дверь.
Девушка ничего не ответила и стала подниматься по лестнице; глаза ее были полны слез; она думала: «Он хотя бы не одинок… хотя бы не одинок… Он все-таки не одинок…»
В гостиной, затерявшись, как в лесу, среди кресел, участники «большого турнира» обменялись укоризненными взглядами.
– Все мы знаем, что такое юноша в двадцать лет, – произнесла наконец старая госпожа де Лобрийер, – но все же в ночь, когда умирает бабушка, молодой человек мог бы остаться дома. Хотя бы из внимания к вам, милая Изабелла, не правда ли?
Изабелла с беспомощным видом пожала округлыми плечами.
– Положительно, нынешним молодым людям недостает одной очень важной вещи: у них нет сердца, – заявила другая старуха, ударяя пальцем по своей необъятной груди.
Изабелла в душе готова была с нею согласиться. Но потом она вспомнила кончину Жана де Ла Моннери и то, что тетя Жюльетт наотрез отказалась тогда проститься с умирающим мужем, который просил ее прийти, – вместо этого она продолжала лепить у себя в комнате фигурки из хлебного мякиша.
– Если вы устали, то, уверяю вас… – начала Изабелла, спрашивая себя, когда же наконец трое стариков надумают убраться восвояси.
– Ни за что! Мы не позволим себе оставить вас одну, милое дитя, ведь мы-то хорошо понимаем, каково вам сейчас, – ответила госпожа де Лобрийер.
Это необычное ночное бдение, несмотря на его драматический характер, было как бы маленьким праздником для стариков.
Наступило молчание.
– А вы не играете в бридж, Изабелла? – спросил бывший докладчик Государственного совета, вытирая слезу, затуманившую его монокль.
– Немного и только изредка, – ответила Изабелла.
– А что, если мы составим сейчас партию, – вкрадчиво предложила госпожа де Лобрийер. – Это вас немного рассеет, моя дорогая, и время не будет тянуться так тягостно.
– Да, это отвлечет вас от печальных мыслей, – подхватила вторая дама.
Изабелла немного поколебалась, сняла очки, снова надела их, подняла с виска седеющую прядь. На лбу ее обозначились морщины: она повторяла в уме текст извещения о похоронах.
Трое стариков сидели неподвижно и напряженно ждали; мимолетный отблеск страсти осветил их лица, они смотрели на свою собеседницу как на вожделенную добычу.
– В сущности, почему бы и нет?.. Хорошо, сыграем партию… – машинально проговорила она.
С этими словами «тетя Изабелла» уселась за стол и принялась тасовать карты. Для нее – хотя сама она этого еще не сознавала – начиналась старость.
Самые заядлые парижские полуночники расположились в квартире Инесс Сандоваль, как солдаты на бивуаке. Их было человек пятнадцать; они грызли печенье, сами наливали себе шампанское и старались, насколько возможно, отдалить минуту, когда они окажутся наедине со своей усталостью, со своим одиночеством, с докучными заботами. Дождаться рассвета, забыться тяжелым сном при первых проблесках дня, в час, когда большая часть людей встает и уходит на работу, – в этом состояла их высшая гордость, это было их важнейшей потребностью.
Повсюду – на стульях, на креслах, на диванах – валялись маски. Бал закончился.
Оставшись в тесной компании, эти люди беседовали о только что закончившемся празднике, где собирался «весь Париж», где никто никого не слушал, но каждый старался произнести звонкую фразу в надежде, что ее будут повторять в гостиных целую неделю. Они обсуждали туалеты, говорили о том, кто как приехал и как удалился… и «кто с кем уехал»…
Потянуло ночной прохладой, и окна затворили. Удобно устроив в кресле свой объемистый живот, композитор Огеран наотрез отказался сесть за пианино, он смаковал сладости и наслаждался злословием.
Опьяневшая герцогиня де Сальвимонте говорила Инесс:
– Ты заметила, дорогая, что Пимроуз напропалую ухаживал за твоим дружком?
– В самом деле? И ты думаешь, Лидия, только он один?
Эдуард Вильнер усадил на софу высокую, красивую, бледную, известную своей скромностью госпожу Буатель и долго жал ей руку.
– Моя дорогая, – говорил он хриплым шепотом, – вы должны помочь мне умереть.
– Вот уже пять лет, как вы толкуете об этом, Эдуард, – отвечала она.
– Да, но сейчас это действительно так.
Уже два часа Симон Лашом порывался уйти и все-таки оставался из-за Сильвены, а она, стремясь вывести его из себя, нарочно не уходила, делая вид, будто ее необыкновенно занимает беседа с перуанским дипломатом, фатоватым человеком с прилизанными волосами, ослепительной улыбкой и уже обрюзгшими щеками.
«Все дело в том, – думал Симон, – что этому болвану, без сомнения, нужно чего-нибудь добиться от меня, и он воображает, будто, ухаживая за Сильвеной…»
Он презирал самого себя за то, что так глупо теряет время.
«Завтра у меня такой трудный день. Встану разбитый и усталый, а ведь мне нужно подготовить речь для съезда моей партии… В конце концов, пусть этот белозубый идиот провожает ее домой, пусть она его уложит к себе в постель, если ей нравится, мне наплевать. Есть более важные вещи в нашем мире…» И тем не менее Симон не двигался с места, он знал, что они с Сильвеной, как обычно, уедут вместе, чтобы дома устроить друг другу бурную сцену – еще более бурную, более мерзкую, более нелепую, чем все прежние, и что сцена эта закончится пощечинами и истерическими слезами: без этого они в последнее время почти никогда не ложились в постель.
«Я ее больше не люблю, но все еще ревную… Да, последствия болезни еще более губительны, чем сама болезнь».
И Симон продолжал слушать Лартуа, который пустился в свои излюбленные парадоксы об упадке римлян и о нынешнем упадке Франции.
– Наш век Антонинов, мой дорогой, окончился в тысяча девятьсот четырнадцатом году, и нашего Марка Аврелия звали Арман Фальер[9].
Гости, уходя, оставили открытой дверь на площадку. И Жан-Ноэлю не пришлось звонить. Он прошел через переднюю с попугаями, прислушался к голосам, доносившимся из гостиной, слегка раздвинул обшитую шелком парчовую портьеру и увидел сидящих людей, окутанных клубами синеватого дыма. Войти юноша не решался. Что он им скажет? Как объяснит свое возвращение? «Я не имею права ее компрометировать», – подумал он. Инесс смеялась и наливала в бокалы шампанское.
Несколько мгновений Жан-Ноэль простоял неподвижно, надеясь, что она таинственным образом ощутит его присутствие. Да, она почувствует, что он тут. «Приди, приди, приди, Инесс», – мысленно молил он.
Но она не услышала этого безмолвного зова и удалилась в противоположный угол гостиной.
Жан-Ноэль отошел от портьеры, двинулся по коридору и проскользнул в спальню Инесс.
«Дождусь ее здесь, – сказал он себе. – Не останутся же они до утра…»
Лампа на серебряной подставке, стоявшая на низком столике, бросала слабый свет на разбросанные в тщательно обдуманном беспорядке чаши из нефрита, иконы, ножи из слоновой кости для разрезания страниц и книги в роскошных современных переплетах. Тут все звуки замирали, стихая в складках бархата. Широкая низкая кровать утопала под огромным покрывалом из шиншиллы: серебристый мех слегка поблескивал в полумраке, словно маня к себе. От букета тубероз исходил пряный дурманящий аромат. В углу виднелся низкий пюпитр из черного дерева, инкрустированный перламутром; за ним Инесс обычно писала, опустившись на колени, словно вознося молитву собственному гению. Жан-Ноэлю не раз доводилось наблюдать, как она внезапно подходила к пюпитру и покрывала крупными буквами плотный лист рисовой бумаги, а он тем временем безмолвно лежал в постели, ожидая ее возвращения.
«Никогда, – часто повторял он себе, – никогда я не забуду эту комнату. Никогда ни в одной комнате на свете я не буду чувствовать себя таким счастливым».
В этот вечер он с особой силой ощутил, что спальня Инесс была для него единственным приютом и единственным прибежищем.
Жан-Ноэль бросился на меховое покрывало и зарылся лицом в подушку. Наволочка из оранжевого шелка была пропитана ароматом темных волос Инесс – приторным и терпким ароматом. И, вдыхая этот запах, прижавшись к мягкому шелку, Жан-Ноэль заплакал: нервы его не выдержали напряжения этой ночи.
«Когда же она наконец придет? – спрашивал он себя. – Когда наконец уйдут эти люди? Я не должен плакать, нехорошо, если она застанет меня в слезах…»
Но ему было так жаль самого себя, что слезы текли из его глаз, увлажняя подушку.
Внезапно Жан-Ноэль услышал шаги, шаги Инесс; он уселся на постели, перестал плакать и почувствовал невыразимое облегчение.
Инесс вошла в расположенную рядом ванную комнату, вслед за нею вошел еще кто-то. На мозаичном полу отчетливо раздавались и мужские шаги. Послышалось шушуканье.
Жан-Ноэль вытер глаза, затаил дыхание. Сквозь дверь из ванной комнаты доносился приглушенный смех – вместе с Инесс там находились еще два или три человека. Первым побуждением хорошо воспитанного юноши было уйти, выбраться на цыпочках в коридор… Он почувствовал смущение, словно по ошибке распечатал письмо, адресованное другому.
Вдруг он услышал голос Инесс, которая отчетливо проговорила:
– Что ж это такое? Я даже не могу спокойно попудриться?
– Дорогая, мы хотим поздравить тебя от глубины души, а один только Бог знает, как бездонны наши души…
То был хриплый, задыхающийся низкий голос Эдуарда Вильнера; затем послышался звучный, чуть свистящий голос Лартуа:
– Да, он очарователен, ваш новый паж, друг сердца. Хрупкий, грациозный, изысканный…
– Он – истинное сокровище, – ответила Инесс.
– Мы в этом не сомневаемся, – продолжал Лартуа. – Мы только что о нем толковали, и знаете, что мы говорили… не правда ли, Симон?.. «Положительно, у нашей Инесс всегда был хороший вкус». Тем самым мы косвенно воздавали честь сами себе…
– Но знает ли он толк в любви? – спросил Вильнер. – Мальчишки в его возрасте – что они понимают в любви…
– В один прекрасный день он станет чудесным, превосходным любовником, – напыщенно сказала Инесс.
– О да! Первые робкие шаги гения волнуют нас еще больше, чем его уверенная поступь… – вмешался третий голос. – Когда он пройдет через твои руки, Инесс…
– А главное, через твои уста… – подхватил Вильнер. – О, эти уста, сколько они сделали добра… Воспоминания о них – одни из самых дорогих нашему сердцу воспоминаний…
Скрытые враги, когда дело касалось Сильвены, Эдуард Вильнер и Симон Лашом легко находили общий язык, когда речь заходила об Инесс.
Снова послышался смех, затем тихие, неразборчивые слова, потом шлепок по руке и голос Инесс:
– Не будь же смешным, Эдуард!
– Как, в довершение всего ты еще и верна ему? – проговорил старый сатир.
– Я всегда была и остаюсь верна лишь самой себе, мои драгоценные.
Жан-Ноэль больше не плакал. Он стоял, охваченный смятением, щеки его пылали, сердце горестно сжималось.
Стало быть, Лартуа, Вильнер и тот, третий, – министр Симон Лашом – были любовниками Инесс.
Она никогда ему об этом не рассказывала, никогда не давала повода подозревать. Говоря о них, она восклицала: «Мои старые, старые друзья!» Так вот что значит «старые друзья»!
Он подсчитывал в уме: два мужа, юный поэт, покончивший с собою, трое мужчин, стоящих в ванной комнате… и кто еще?.. Разве можно думать, что не было еще и других? А какой же по счету в этом длинном списке он – «новый паж», «друг сердца»?
Оказывается, Инесс дарила этим людям те же ласки, то же блаженство… И Лашому, этому уроду с головой гигантской лягушки, с толстыми очками на носу… И они говорили обо всем не таясь, открыто, цинично; тогда как он, Жан-Ноэль, тщательно старался скрывать свою любовь, постоянно боялся скомпрометировать Инесс и страдал даже от того, что его сестра знала об их любви.
Больше не приходилось сомневаться в том, что Инесс была любовницей стариков, которым сейчас перевалило уже за семьдесят… Это казалось ему оскорбительным, противоестественным! Вильнер… Лартуа… Два прославленных человека, которыми он с детства восхищался, к которым испытывал глубокое почтение, – они всегда представали перед ним в ореоле славы; и вот оказывается, они пошлые игривые старички, и в эту минуту они стоят там, в ванной, возле умывальника, и старческие их руки тянутся к платью, к корсажу Инесс.
А она! Как могла она говорить о нем таким тоном, обсуждать с ними его внешность, его мужские достоинства, его чувства, точно речь шла о статях рысака-трехлетки, о качествах нового автомобиля, о прелестной плюшевой игрушке?.. Как могла она смешивать свои недавние и прошлые воспоминания, обсуждать их с этими умниками в своей ванной комнате, где они, ее бывшие любовники, некогда умывались, одевались, как он?
Удивительное бесстыдство стариков, бесстыдство пожилых людей, больно задело юношу, незаслуженная обида терзала его душу. Он не знал, что ему делать – бежать, унося с собой неизбывное чувство стыда, или же распахнуть дверь в ванную и крикнуть, оскорбить их… найти в себе мужество для возмущения.
Повернувшись, он задел пепельницу, и она с глухим стуком упала на ковер.
Голоса в ванной смолкли. Затем Инесс сказала:
– Ничего не понимаю. Должно быть, горничная стелет мне постель. Я думала, она уже спит… Ступайте, ступайте-ка отсюда все трое.