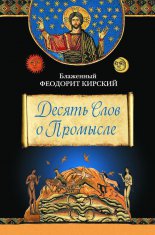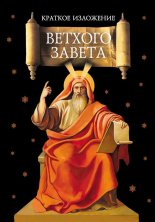Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1 Swann Lena

– Долго еще?
Давид опять на диван с размаху – палюх! И переспрашивает:
– А что, ты куда-то разве торопишься?
В общем, любимый, когда ты меня ровно в этот момент эсэмэсками бомбить начал, «где я» – да «где я» – мне уже не до того было. Мне бы уже – ну вот без всяких шуток – мальца этого спровадить поскорее – и съесть наконец хоть чего-нибудь! Кроме того – чувствую, что то ли с голодухи, то ли из-за этого дурацкого высиживания под Давидовой фотокамерой, Москва вообще начинает катастрофически ускользать у меня между пальцев. И как-то уже начинаю маниакально обшаривать в воображении весь земной шарик, как собственный холодильник, в поисках хоть какого-нибудь подобающего съестного. Хумусу у Мориса на горке в Яффе? Или чуть спуститься (мимо старой башни с застрявшими часами, возле которой южные голуби сонно кричат: «Ку-да пошла? Ку-да пошла?») – и дальше – забежать в… ох, нет, даже название не могу спокойно произнести – потому что даже от названия умопомрачительно разит горячим свежеиспеченным при мне же в печах хлебом: в А-бу-ла-фью… Где, кстати, – в соседней грязненькой забегаловке можно, вполне можно было бы сейчас прихватить еще и свежей тахинной халвы – нанизанной гигантской головой, как бескровная веганская шаурма, на вертящемся вертикальном метровом шампуре. А ты мне: «Где?! Где?!» Уверяю тебя: вот разве что мизерная, меньшая часть меня (которой можно в общем-то пренебречь) сидела в тот момент жопой на этом подоконнике! И как мне тебе было описать, не соврав в чувствах (даже если бы я не зареклась с тобой разговаривать и не объявила бы эмбарго на эсэмэски!) – «где я»?! Кроме того, любезный: ну не верю я в пошлый человеческий миф о территориальности! Город должен прорасти в тебе, чтобы ты смог в этот город войти. Это единственный способ войти в город. Что, впрочем, не исключает такого прекрасного (но тоже абсолютно отдельного, абсолютно ни с какой лживой идейкой о территориальности не связанного) жанра, как путешествие: ох, как же я люблю этот блаженный миг, когда прильнув в самолете к иллюминатору, вырываешься сквозь московскую скарлатину облаков, вослед всё более и более внятно – а вот уже и ослепительно – светящему фонарику ухогорлоноса! Выключив всё: привычное, наладонное, милое. И только этой ценой вырвавшись. Оторвавшись от магнита. И не дождавшись пледа. Околевая около круглолицего, веснушчатого лика иллюминатора. Зато дальше – целых четыре часа десерта. Ломаные литки шоколада: черный, горький, и обычный, молочный. В фальшивом скомканном золотце речушек. И дальше – отроги чуть подстывшего капуччино с капюшоном крошеной корицы. И дальше – неприлично густой кипящий какао. С комьями пенки. Сахарная вата, с правдоподобными проталинами. Ноздреватый молочный сахар. Подтаявшая помадка – фруктовая ли, губная ли – ядреная. Рядом – томлёное масло. И – глазурь кулича, с просвечивающим снизу, с испода, подгоревшим изюмом Измира. А потом – просто чаю. Огибая аэрозольную приторную пенку над Кипром. Лишь мимолетом взглянув в невнятное битое бутылочное зеркало лужицы. Взяв чуть выше, по сахарно-ватной тропе.
И – вот уже! наконец! – как в приближающейся с бешеной скоростью лупе: картинки под легчайшей, почти невидимой калькой облака, под дымчатой самокруткой бумаги. Сдуваемой бризом. Уже еле сдерживая хлынувшие от близости земли слёзы на накрененном, ламинирующем картинку иллюминаторе. Сдернув последнюю муаровую облачную фату, крепившую в один ослепительный пучок бесконечно зацикленную на себе тригонометричную радугу голограммы морзянки золотом простроченных волн парусников и ладей – и неудержимо, ближе, еще ближе, к картинке, уже неправдоподобно быстрых, недопустимо близких, уже ручных рыб, навзрыд и навылет вышивающих морскую слюду обезумевшей телеграфно-швейной машинкой. Напоследок заархивировав чью-то перистую текстологию взмаха, как роспись. И потом уже – прямо на абордаж Шератона. Нет, выше. Чуть выше. Промахнули. И слёз на иллюминаторе уже не сдержать. Потому что солнце слепит. Потому что ослепило иллюминатор невообразимой красотой. Потому что высотные башни на набережной – как сверкающие зубы с разноцветными брекетами. Со стоматологической скобой волнорезов, чрез которые все равно набегает весной бешеная средиземная слюна. Потому что соленые дёсны – под Средиземным морем – что сморщенные подушечки пальцев ребенка. И небоскребы видны, что рослые кедры, не только из Дамаска, и Бейрута, и Тегерана, но и из гиблого виртуального Вавилона, увы, в баллистический прицел откровений. И каждый раз до слёз хочется увидеть все это еще хоть на секунду – успеть, пока прицелы пророчеств не сработали.
Давид говорит (вальяжно так, с дивана опять):
– А какое же кино тебе тогда нравится?!
– Никакое, – говорю, – не нравится. Это ж не великий немой, а великий слепой! Ничего за видимым миром не видит! Несмотря на всю, вроде бы, «зрелищность», на миллионные бюджеты, шикарные декорации и антуражи. Удивительно, – говорю, – бесплодный жанр получился. За весь прошлый век существования кинематографа, фильмы, которые действительно можно было бы назвать высоким искусством, можно сосчитать по пальцам на левой руке покойного первого президента России. А уж в этом веке – и смотреть-то стыдно. Упражняются, каким бы еще изощренным, неотыгранным конкурентами способом, героя убить – и как бы еще поизвращеннее в дорогих антуражах кого отыметь. Мега-дорогая дешевка. Унылая ярко-безмозглая жвачка для животных.
– Тебе, – говорит, – наверное, артхаус кино нравится?
– Ненавижу, – говорю. – Фальшиво дергающаяся фальшиво бытовая камера с плеча, уныло снимающая про серую безвыходную бытовуху. Главная идея от первого и до последнего кадра: смотрите-ка, мы снимаем арт-хаусовское кино! Глубже социальной чернухи, эмоций и чувственности никто не копает. Такая же продажная штуковина, как и мэйнстрим – только подлаживаются под более узкий и вполне определенный круг зрителей: левачествующих прыщавых молодых людей в нестиранных свитерах и их лесбийствующих подруг. Дальше откровений типа: «ё-моё: на свете есть бедные, убогие, несчастные и ужасные люди!» – никто из них не идет.
– А Heineken, Heineken, – говорит. – Разве тебе не нравится Heineken?!
– А Хайнеке я бы вообще, – говорю, – все лампочки бы поотрывала!
– Что-что бы ты, – говорит, – ему оторвала?
– Ничего, – говорю, – просто такая русская идиома, прости, если я неудачно ее перевела. Человек, который способен в своем фильме заснять, как петуху отрубают голову, по-моему, вообще должен быть сразу лишен права на профессию. За попытку компенсировать собственную бездарность чужой кровью. У меня такое впечатление вообще, что человечество зарезало петуха – чтобы не слышать больше его кукареканья под утро и не мучаться комплексами вины.
И тут Давид аж встрял из лежачего положения на диване в сидячее, и с загоревшимися глазами мне говорит:
– Я тебе сейчас расскажу что-то, чего никому не рассказывал. Я… Был вегетарианцем, представляешь?
– Не может быть, – говорю.
– Может! – говорит. – Будешь надо мной смеяться за это? Презирать меня за излишнюю чувствительность будешь?
Я говорю:
– Конечно буду. Учитывая, особенно, что я не просто вегетарианка – а веганка.
Давид говорит:
– Не может быть! А как ты думаешь: душа у животных есть?
– У меня, – говорю, – есть один друг азербайджанец, удивительно честный, порядочный, чувствительный человек – знаешь, такая думающая, пишущая старо-приезжая московская интеллигенция. Он мне рассказал, как в детстве у него был ручной барашек – он его растил из ягненка, имя ему дал – ну то есть как с собакой домашней дружил с ним. А потом родители ему говорят: мы доверяем тебе большую честь – зарезать этого барана, потому что ты уже стал юношей.
– Какой ужас… – Давид говорит. – Неужели он зарезал?!
– Да, – говорю. – Но это еще не все – он мне в красках рассказал (потому что чувствительный все-таки), что у этого его ручного друга-барашка, когда он его резать приготовился, из глаз слезы потекли! Можешь себе представить?! И он все-таки зарезал. А резюмируя всю эту историю этот мой, вроде бы, друг-интеллектуал мне убежденно так сказал: «После того, как я его зарезал, мне, – говорит, – старшие объяснили, что у животных нет души. А плакал барашек просто от рефлекса». Я этого своего друга спрашиваю: если ты считаешь, что у животных нет души – как же животные могут тебя любить? А он говорит: «Ну, это не душа… Это… Не могу тебе объяснить, что… Но это не душа. Мне так объяснили. Нет у них души!»
– Ужас… – Давид говорит. – Но как же он…? Зачем же он…?
– А просто, – говорю, – никогда не надо слушать родителей и старших, если они собираются кого-то убить или тебя просят это сделать. Хоть раз надругаешься вот так вот над своей душой – и всё – душа уже в рабстве на всю жизнь. Душа человека ведь очень быстро коррумпируется в этом падшем мире, порабощается им – и коррумпированные миром, более старшие люди, ветераны этого падшего мира – быстро учат чистую душу, как надругаться над своей инстинктивной, еще не запачканной, богозданной чистотой и добротой. Ведь у всех детей есть вначале врожденное богозданное инстинктивное отторжение и отвращение от убийства животных. Не говоря уж – от убийства людей. Ну кроме извращенцев, одержимых сатаной.
Давид даже с дивана соскочил – стул от моего компьютерного стола взял, и напротив меня уселся:
– Ну а ты, ты сама как считаешь? – говорит. – Есть у животных бессмертная душа – или нет?
Я говорю:
– А чего тут считать: ты бы, если бы был благим Богом, разве бы позволил душе хоть одного живого существа безвинно сгинуть? Богу отвратительна смерть живых существ, Богу отвратительны убийства. Убийства и смерть – это полностью сатанинское изобретение. Сказано же: «Бог не творил смерти и не радуется погибели живущих». Убийства – это сатанинское хобби падших людей. А Богу это глубоко противно – Бог уже еле-еле все это терпит, заткнув с омерзением нос и отвернувшись. Но в какой-то момент Бог все это терпеть перестанет – как и предупреждал. Вон, – говорю, – возьми там у меня на книжном стеллаже книжку – Фомы Лондры, современный канонизированный недавно святой – там на английском – никогда не читал?
– Нет, – говорит. И даже с места за книжкой не тронулся – сидит: на перевернутую вперед спинку стула руки крестом сложил – вылупился на меня небесно голубыми своими глазами. – А что это за святой такой? Никогда не слышал!
– Фома Лондра! – говорю. – Неужели даже имя не слышал никогда, в своей Германии? Позор, – говорю. – Он коптской и армянской церковью канонизирован – он у коптов в Египте стадо дромадеров, молитвой, от чумы вылечил, двух женщин-американок от рака вылечил – ну и еще несколько явных чудес сотворил. Мальчонка такой молоденький был, исцелял людей и животных молитвой и именем Господним. Нищий бездомный проповедник странствующий. Недавно без вести пропал в Египте – после этого его канонизировали.
Давид, смотрю, разулыбался – и говорит:
– И, что, этот Фома Лондра считает, что души животных бессмертны?
Я говорю:
– Ну возьми да почитай! – говорю. – На немецкий книжка, по-моему, еще не переведена – так же как и на русский. Но по-английски-то ты, говорю, поймешь прекрасно!
А Давид говорит:
– Ой, не люблю я читать! Ну скажи: да – или нет?! Бессмертны?!
Я говорю:
– Ну во-первых, – говорю, – еще апостол Павел, по дарованному ему Богом откровению, ясно сказал, что вся тварь, по вине падшего человека мучающаяся и стенающая от уязвимости и смертности, будет освобождена из рабства тлению в свободу нетленной славы детей Божиих. Эту цитату, – говорю, – Фома Лондра даже эпитетом к своей книжке взял!
– Это значит: бессмертны? – Давид аж со стула вскочил – во весь свой гигантский рост.
– А во-вторых, – говорю, – Фома Лондра там пересказывает известное довольно среди православных видение одного старинного старца, который был весьма встревожен этим вопросом – вот ровно тем, который ты мне задаешь – и непрерывно вопрошал об этом Бога. И в конце концов, из-за своей неотступности, был удостоен видения: был вознесен на несколько мгновений на седьмое небо, где увидел в прекрасном саду гуляющих изумительных неземных существ – полупрозрачных, но одновременно окрашенных в дивные переливающиеся нежные цвета, и воспроизводящих какие-то изумительно красивые музыкальные звуки. Старец сам в себе подумал: «Господи, что это?!» И тут же появился святой ангел и говорит ему: «А это души животных – так, как они на самом деле выглядят в раю». Старец говорит: «Так значит, они бессмертны?!» А ангел ему: «Вы бы, лучше, несчастные, о своей душе переживали! Животных-то беззащитных, которых вы там мучаете, Бог защитит, и все их муки с вас взыщет». Фома Лондра, – говорю, – никогда мяса не ел – как настоящий православный монах. И вообще почти как монах жил, как странствующий монах.
– Ух ты! – Давид говорит. И опять на диван со всего размаха, счастливо уже, лежмя во весь рост, на спину, плюхнулся. Пестрые носки опять торчат, не вмещающиеся.
– А сам, – говорю, – Фома Лондра от себя добавляет: «Подумайте, – говорит, – скольких отчаявшихся одиноких людей животные, любящие их, спасли своей любовью от самоубийств. Ни один человек стольких спасти не в состоянии. Так что многие животные служат Богу даже в миллион раз лучше, эффективнее и бескорыстнее, чем человек».
Тут Давид, схватив с дивана камеру, неожиданно вскакивает и кричит:
– Вот! Вот теперь я должен тебя сфотографировать! Не меняй выражения лица!
И давай камерой щелкать.
Вижу – его распирает просто – чем-то щегольнуть передо мной хочет – и давится. Потом – решился – и, не прекращая туда-сюда со своей камерой бегать и фоткать, говорит мне:
– А я…! А я, знаешь, с настоящими аутистами работал! Вместо армии! – и забегает со стороны компьютерного стола, фоткает: – Ну, знаешь, альтернативная служба! У меня один подопечный был – я не мог его ни на минуту оставить: я не мог его даже в машине запереть и оставить одного – он бы все вдребезги разнес и поранился, пытаясь немедленно из этой машины выбраться. Я за ним ухаживал, как за маленьким! А еще он любил, чтобы я ему шнурки на ботинках завязывал очень-очень туго: тогда он был спокоен, что все в порядке, что ничего не случится. Пожалуйста! Вот сиди так, не двигайся! Пожалуйста, ну потерпи меня немножко еще! Еще несколько снимков! Твой друг же еще не звонит! Не прогоняй меня! На меня только-только вдохновение нашло! Я его в коляске инвалидной возил, представляешь!
Я говорю… Нет, я молчу.
Я иду по Таэлету, в унисон с ветром и морем, а направлении Яффы. Я выгуливаю старика Паркинсона, соседа по отелю – скорчившегося – гигантским зародышем, реэкспортом из Америки, в инвалидной коляске. Камушки тротуара ядрёны – похожи на засахаренные преувеличенные тахинные семечки – и в ноль уделывают шпильки моих каблуков. Я вожу его по набережной мимо пальм, вцепившихся на ветру в ярости пальцами себе же в волосы, – в детской складной коляске вундеркинда с обвисшим сиденьицем из парусины – какое собачили к падучим раскладным советским козеножкам-табуреткам, носимым предусмотрительными старухами к заутрене, длящейся всю ночь. Он не смог бы управлять даже мото-истребителем, на которых здесь носятся инвалиды, с азартом сбивая здоровых прохожих и раздавая им затрещины. Он не умеет пользоваться даже здешней волшебной игрушкой: шабат-элевэйтором – для ортодоксальных гостей – лифтом, который по субботам и пятницам останавливается, без спросу, на каждом этаже отеля, чтобы не осквернить ни мизинца электрической кнопочкой.
Я устала: довольно тяжелая эта прогулка – толкать впереди себя живую недвижимость. Я торможу и, как цапля, стою то на правой, то на левой ноге – давая то одной, то другой отдохнуть – с мороком отворачиваясь от аутентичных носов, посекундно любезно предлагающих себя в попутчики. Парализованный старик и чеснок – натощак – единственный щит от вас. Да и то – как выясняется – без гарантий. Я балансирую, как цапля. Хасида на променаде. Я прикрылась от тебя жидом-паралитиком. Этим мирским отстрелянным телом складного кузнечика; по абрису, так обманчиво, до безумия похожим на римского Джона-Пола-Второго в старости, с головой вместо обратного слэша, из правого нижнего в левый верхний – на прогулке по набережной из своего сидячего катафалка на колесиках могущего подглядывать на меня и дисплей моего телефона лишь по диагонали. Когда я делаю остановки его колесницы и читаю в телефоне твои вопли.
«Gde ti? Napishi mne shto-nibud’!» Щазз. Я раздавила твой sms. С писком. Впредь я буду убивать их, прежде чем они вылупятся, не читая.
Сначала я думала, что это из-за моего скверного английского, потом поняла, что он просто давно уже сбрендил:
– Мир меняется. И глобализация процессов такова, что главное – это зубы.
Которых у него нет. Он никогда не доучит иврит, а на родном американском он может уже только плеваться.
Никогда никто не узнает, откуда он здесь, в моем отеле. Но все подозревают, что навсегда. Он произносит еврейское «нет» скорее как английское «низко», чем как американский «закон», лучшим знатоком и практиком которого, говорит, он, задолго до моего рождения, слыл – на первой-второй-третьей рассчитайсь родине. Весь книжный магазин Steimatzky с Дизенгофа скоро перекочует в его номер. Он живет старческой причудью, что мир можно изменить прям здесь и сейчас, в кафе гостиницы. И желательно на деньги правительства. Тиран гостиничных завтраков, заставляющий каждое яйцо чокаться с каждым скорпионом.
– Хай! Элиана! – (у меня ушло пару минут, чтобы понять, что когда он из-за своего столика на завтраке кричит: «Элиана!» – смотря куда-то в неопределенное пространство – это он зовет меня.) – Хочу познакомить тебя с американским волонтером из Флориды, фиксирующим здесь танки в базе Sar-El!
Зачем, интересно? Чтобы мы начистили друг другу гусеницы? Долго не могла смекнуть, что «Вовован» в его исполнении – это Первая Мировая.
Он уморит меня небылицами о Великой депрессии:
– Я не помню, что я ел вчера. Но в Нью-Йорке они воровали сиденья из старых чужих автомобилей – и спали в них как в креслах. И это был их дом. Моя мать и отец! И они были свободными как вечность! И это было великое время! Великий взрыв! Вызов! Можно было даже купить огромный дом за несколько долларов – который сейчас стоит миллионы! Но у них не было даже на булку. А потом – мой отец вдруг сказочно разбогател! Угадай как?! И никаких забастовок в Чикаго: гангстеры держали профсоюзы в узде! Порядок!
Он все путает. Старый идиот. Хронический парахронизм.
– Но потом он разорился опять – так же быстро, как разбогател!
Он до жути завидует моей гипотетической возможности грешить. А я – его гарантированному физическому бзгрешию.
Мать старика Паркинсона из местечка в Польше под Краковом.
– Знаешь – штэтлз? Такие – штэтлз! Нахон?
Похоже, у них там, в Польше – штамповочный завод по сворачиванию старикам голов набекрень. В рассрочку. На восемьдесят лет.
Говорит, что отец его был русским, но вовремя дернул в Штаты контрабандой на сухогрузе. В трюме где-то между двумя революциями.
– Знаешь, была одна женщина в Штатах. Лет уж пятьдесят назад, наверное. Кто был тогда я – блестящий юрист, красавец, а кто была она? Просто сумасшедшая художница, любившая меня до безумия. Она очень страдала из-за моих измен. А я – не то чтобы я не понимал: я все чувствовал… Но просто я жил, отрицая необходимость выбора: думал, что вот сейчас нагуляюсь, еще годик, два, пять – а потом уж вернусь к ней, одной, единственной, любимой, любящей, только моей. А через год со мной случилось… Вот это. И… я был слишком горд, чтобы хоть когда-нибудь после еще показаться ей на глаза в таком виде. Я спрятался. А потом и вовсе перебрался через океан. Уполз. Зарылся. Закопался в песок. Ты видишь. Мы никогда больше не виделись.
Такое впечатление, что этот урод сидел и ждал меня здесь, в фойе отеля, всю жизнь, чтобы хоть кому-то вплюнуть все это чернилами каракатицы в ухо. Левой парализованной клешней, вернувшейся в эмбриональное состояние, он не смог бы записать – не то что своей истории: даже своего имени – даже если был бы левшой. Моя первая учительница была бы довольна.
Гостиничная кухарка Нина – дородная коротко бритая седоватая казашка родом из Советского Союза, в матроске-безрукавке, с большой головой, черными щеками и говяжьими предплечьями (уверяющая, зачем-то, что она – еврей) – нутряно ненавидит инвалида: за то, что он нищ, гол как сокол, за то, что проживание его в отеле финансирует правительство, из пособия, за то, что отель ему, на ее завистливый взгляд, достался слишком роскошный – у моря, за то, наконец, что заказывает он себе, в неположенное время, плюс к завтраку, сидя в общем зале, за деньги, еще и тель-авивский, мельчайшей порубки, салат из огурцов, помидоров и лука. Поднеся ему блюдо, обслужив его, шипит затем кухарка непрерывно с ненавистью, выглядывая из-за угла, тихо, на-русском: «Он слишком многого хочет! Хочет жить как человек, как гость! А его место – в бейт-авод! А не в отеле!»
Я вскакиваю с подоконника, и говорю:
– Давид, кроме шуток – давайте заканчивать уже. Если честно – я просто уже сейчас умру от голода.
А Давид говорит, так заинтригованно:
– А что у тебя есть поесть?!
The Voice Document has been recorded
from 21:22 till 22:02 on 18th of April 2014.
Я, уже на Давида не глядя, рванула к холодильнику. Давид – за мной. Уселся за мой прекраснейший древний рассохшийся круглый обеденный стол с качающимися ножками, накрытой ярко-золотой глянцево-клеенчатой скатертью – и в восторге мне говорит:
– Вау… – говорит. – Это же у тебя почти как мой золотой отражатель! Даже гораздо больше в диаметре! Если бы, – говорит, – я отражатель забыл – я бы мог эту сверкающую клеенку использовать!
Я говорю (решив использовать для выкуривания его из квартиры надежное оружие):
– Давид, я бы, конечно, угостила вас… Мне не жалко. Но я собираюсь делать салат. А в салат я кладу очень много чеснока. Так что…
А Давид мне:
– Прекрасно, – говорит. – Я очень люблю чеснок!
И с места не двигается.
Ну, я уж плюнула на приличия, достала листовой салат, побежала его мыть. А салат оаклиф ведь даже не мыть – стирать надо! Я стою, выкручиваю, выжимаю его, как стиранные полотенца для рук – и смотрю на пристывший над раковиной к кафелине архиоптерикс петрушки, как изразец – и думаю: «Хорошо, что этот мальчишка детали быта фотографировать не умеет. А то бы пропозорилась на весь интеллектуальный журнал!»
Давид мне, такой задумчивый, локтями на золото стола оперевшись, говорит:
– Я никогда, – говорит, – ни о чем таком ни с кем до этого в жизни не говорил… Как странно…
Ну, я, не слушая, гигантскую пятилитровую прозрачную салатницу на стол, и давай на доске (в виде банджо) уже все подряд кромсать: и помидоры – очень много помидор! – и оаклиф, и очень горький бордовый салат Radicchio, и пожар в дождевых лесах Амазонии Lollo Rosso, и легкий морской бриз Frise, и простенький круглый салат Lamb, и плотный, как сырой шпинат, салат Romano – и чеснок, чеснок, чеснок – две головки (потому что на двоих же!). Хлестнула маслинного масла. Щепотку sal sapientiae.
А Давид уже облизывается сидит:
– Можно, – говорит, – я уже вот себе на тарелку… – и, не дожидаясь ответа, пока я еще зазевалась, салат размешиваю, кинул себе деревянными ложками ну вот буквально гору на тарелку – и в секунду! в секунду! – съел.
– Можно мне, – говорит, – еще?
Я думаю: «Тааак, – думаю, – не поесть мне сегодня!» Но, все-таки успела – на объедки – перед тем как Давид себе третью порцию, подскребя все по сусекам из салатницы, положил.
– Нет, – я говорю, – мне не жалко – на здоровье, я очень рада, что тебе понравилось! – а сама кошусь уже на холодильник. – У меня говорю, в крайнем случае, еще и фрукты есть. Мне будет чем наесться…
А Давид, воодушевленно так:
– А какие у тебя фрукты есть?! Я, вообще-то, – говорит, – фрукты не люблю, я просто так спрашиваю, из любопытства.
Я думаю: «Как удачно! Значит, можно доставать фрукты, не опасаясь. Хоть этим наемся!»
И, в общем, излишне расслабленно, надо сказать, достаю из холодильника хурму.
– Фрукты, – говорю, – просто надо уметь грамотно считывать! Вот хурму, например, нужно разрезать строго поперек – видишь?! – говорю, – сразу открывается послание: почтовый мальтийский знак. Эдакий выразительный mms от Господа!
Давид у меня хурму взрезанную из рук – хвать! И съел.
– Надо же! – говорит, – я никогда раньше не замечал. Даже вкусно, надо же!
Я смотрю: Давид как-то уже разнежился, поплыл, своими небесно-голубыми глазами играет, волосы свои лохматые застенчиво ворошит, и уходить никуда не собирается…
«Ох, – думаю, – не надо его было кормить… Ох, не надо… Кулинарный путь к сердцу мужчины и так далее… И вообще, – думаю, – не хорошо как-то получилось: охмурила случайно бедного мальчика запредельными разговорами, а мальчики ведь интеллектуально и духовно гораздо позже девушек взрослеют – поэтому его двадцать лет с хвостиком – это же эквивалент девичьим восемнадцати, не больше… Ребенок! Жуткая безответственность с моей стороны. Надо, думаю, его выставлять за дверь поскорее!»
Взглянула на мобилу: одиннадцать вечера!
Я говорю:
– Давид, я закажу тебе такси.
Иду звонить к окну, где у меня сигнал мобильного лучше. Этот оболтус идет за мной и телефонную трубку выхватывает у меня, чтобы я позвонить не могла. И с жалобным взглядом говорит:
– Ты уверена?
Я говорю:
– Совершенно уверена. В каком районе твой отель?
Короче, вышла его провожать к такси.
Вышла – смотрю – слева от подъезда курильщик топтунского вида торчит: я надеюсь, не тобой подосланный, милый? Но если даже тобой – тем лучше: значит он видел исключительно дружеский мой прощальный поцелуй в Давидову щеку (склонился, каланча).
Короче, как только такси отъехало – я на два шага отошла, пытаюсь хоть глоток свежего воздуха найти; вверх смотрю в расщелину неба между домами – чувствую голова уже от голода кружится; я думаю: «Где же Славик-то? Ё-моё!» – а вместо свежего воздуха жуткий ветер – и сигаретный дым.
Я сижу на цветущем диване, в насквозь продуваемом, вытянутом, до краев полном солнца фойе отеля, справа от чисто декоративного маленького гладкого пианино, на котором никто никогда не играет. В левой дальней (в кафе плавно переходящей) части фойе, где одиноко (тщетно пытаясь прикормить крошками, выпадающими изо рта, высоко вспархивающих с шелестом из плохо действующей правой пятерни одна за другой чумазых птиц Haaretz) у кубического столика доедает свой второй завтрак инвалид в коляске, белые занавески на застекленной, расстекленной, распахнутой стене (превратившейся в турникеты для ветра), играют в паруса. Вай-фай, с милым, местечковым раздолайством, не пробивает на мой пятый этаж – и приходится каждый раз за интернетом спускаться сюда. Портье Charlie (его стойка рецепции в фойе напротив), низенький еврей, сбежавший (еще в прошлый заезд диктатур) из Египта, вместе с табачной трубкой, от скуки и хлещущей через край общительности подгуливает ко мне и, дружелюбно куря мне в рот, наклоняется над моим лэптопом:
– Эли! Ведь тебя же здесь продует! Руах працим!
Забавней всего в этом моем почти домашнем уже отеле – метаморфозы, которые, в зависимости от слуха, национальности и настроения каждого, проделывает, за какие-нибудь несколько минут, мое имя.
– Эли, что ты пишешь здесь все время в своем компьютере?!
– Фугу. Фугу пишу, Чарли. Вали-ка обратно к своей рецепции, со своей трубкой.
– Смеешься надо мной! Какая же это фуга?! Я же ведь знаю русские буквы! Вон – си, би, дельта, игрек, икс! Это же буквы – а не музыкальные знаки!
– Слушай, Чарли, сегодня у моря, по пляжу какой-то лунатик в наушниках ходит со щупом миноискателя вокруг кафе и клюет песок. Что, на пляже теперь тоже взрывные устройства закладывают?
– Ты слишком хорошо о нас думаешь! Это не миноискатель. Он монеты ищет, а не бомбы. И золотые кольца, которые купающиеся все время в песке теряют! Это – отличный бизнес! Иди на пляж! Не бойся! А то тебя здесь продует! Руах працим! Только ничего не теряй!
Я жмурю глаза. Нет, голова все-таки слегка кружится. Чарли с вонючей трубкой – и разлившийся по фойе флакон благовоний средиземной весны.
Я звоню Славику: выключено. Да что ж такое? – думаю. И уже волноваться начала. Думаю: Славик, конечно, у меня мастак опаздывать – единственный человек в мире, к которому я на встречу, с чудовищными моими опозданиями, имею шанс прийти более-менее вовремя. Бывало, бывало, что опаздывал Славик на час, на два – и приезжал на тусовку, уже когда я давным-давно оттуда сбежала, – но не на целый день же? А в последнее время у Славика моего еще и не только со временем, а и с местом проблемы начались: Славик, с его раздолбайством, забывает, где мы договорились с ним встретиться – в каком кафе или ресторане. А Славик же по городу ходит – это видеть надо: замечтается, забудется, увлечется побочным каким-нибудь переулком, мыслью, звонком, – и приходит в какой-нибудь жлобский Pierre Gagnaire, вместо того, чтобы доехать, скажем, в счастливо-безлюдную забегаловку – как мы договорились – и потом капризно начинает мне названивать, и вопрошать, почему я еще не там, и жаловаться мне на меню. Поэтому единственная верная возможность все-таки встретиться – это назначать встречу у меня дома, чтоб Славик, помноженный на свои опоздания и расслабленность мыслей – все-таки до меня добрался.
Короче: уже волнуюсь не на шутку! Пошла к себе в квартиру, а в квартире же у меня прием мобилы жуть какой плохой – дом же как крепость! – полуметровые вековые кирпичные стены никаким спутником не прошибешь (надеюсь, твои жучки-шпионы тоже все время глючат!). Ну и я через минуту опять Славику начинаю названивать. Взлезаю на подоконник, чтобы поймать сигнал – высовываюсь (вместе с мобилой) по пояс в окно – и вижу, что на белоснежной стене моего отеля (стене вида какушек местного мягкого сыра cottage), рядом с окном моего номера – не сотни, а тысячи Божьих Коровок! Праздник бьется в стекло. День воздушно-десантных сил летающих мухоморов. Улыбчивых. Красных, в черную крапинку. Парад эскадры рабэну Моисея (коровами коего евреи, как похвастал мне вчера Чарли, местечково кличут эту Божью движимую, лётную собственность). Смайликов-бомбардировщиков. Интересно – кто вообще назвал их коровами? И главное – где и когда. И если на аэродроме стены – улыбчивый праздник – то в воздухе – и на суше и над морем – тем временем катастрофа. Москиты и мошки отменяют пыльное, темно-коричневое, местами почти угольное дневное небо как жанр. Дышать через дуршлаг насекомых могут только еще более мелкие насекомые. Сцеживать как домашний сыр.
Наружу только жигой. Выдвижная флюорография легких. Наполнитель сангинной пыли так густ, что делает зримой даже лепнину дальнего контура воздуха берегового османского века. Тайное становится явным, от напыления. Каждый слой небесной температуры: 30–35—40 – тонирован точным личным оттенком темнеющей темперы. Current music: Avishai Cohen. Leh-lah. Чуть не хватает воздуха флейте. Ждем света, и вот тьма. Халильщик подвсхлипывает в среднем стереоухе, чтоб поднабрать. Осязаем, как слепые, стену, и, как незрячие, ходим ощупью. Правый и левый аудио-порты надежно заткнуты наушниками, чтоб не влетел кто ни попадя. День же паки в нощь преложийся. Божия дойная коровка – одна из миллиона – видит угрозу в пальце, предлагающем подвезти, и от страха тиснит мне пахучим трамвайным золотом парчовую белую рубаху. Выдавила весь оборонный тюбик. Теперь хотя бы понятно, кто спёр всю краску из базового резервуара золота в небе, который отныне какого угодно – и черного, и белого, и горелого – но только не желткового. Главное не прихлопнуть дисплеем лэптопа, чтобы не проинспектировать всю палитру каравая изнутри. Иначе споткнемся в полдень, как ночью, между живыми – как мертвые.
Я кричу в телефон:
– Славик! Ты жив?! Где ты? Я волнуюсь уже! Куда ты пропал?! Ты же утром обещал прийти!
– Ой, Лена, какое счастье, – говорит (грозным каким-то, не своим голосом) Славик, – что ты так вовремя прозвонилась! Я в плену! Меня захватили по пути к тебе! Я в ментуре… Звони скорее в мою службу безопасности! Зови журналистов! Бандиты! Я в том же отделении, что и в прошлый раз… А то они мою мобилу сейчас…
И – телефон вырубается.
А уж какая там у Славика моего бедного «служба безопасности» – в его-то рафинированном академичном литературоведческом журнальчике?! Глупый блеф. Сейчас, думаю, они еще хуже ему за это наваляют.
Я выбегаю на улицу, борюсь с ветром, в ужасе думаю: «Кому звонить?». А тут ты, любимый, – со своими звонками! И с этими твоими му-му-му на моем автоответчике, когда я на звонок второй раз не ответила! И без того, – думаю, – на душе погано весь день, да еще Славик в смертельной опасности – а тут ты со своими му-му-му!
Короче, вышла на Тверскую – и тут понимаю, что куда бежать Славика-то спасать – я не знаю! В каком отделении он был захвачен в прошлый раз – я не знаю – а брякнул Славик это явно тоже, чтобы произвести на захватчиков впечатление. Думаю, ё-моё, дёрнуло же Славика уродиться идеальной мишенью для ментов: с черными кавказскими волоокими очами, кудряв, резкие ассирийские скулы – короче – преступление налицо. Бедный – причем самое-то смешное, что и мать у него русская, а отец вообще белорус, и только у какой-то там прабабушки – вовсе даже не кавказские, а наоборот киприотские корни были. А скулы ассирийскими получились. А Славик еще и (при своей вечной транжирской нищете) до жути дизайнерскую одежду любит: одна рубашка на пол-зарплаты – но зато дизайнерская – которую Славик полгода потом таскает, а с другой зарплаты джинсы моднейшей косоватости и куцоватости – так что менты просто, разумеется, Славика мимо пропустить не могут – считая, что Славик как раз идеальный донор для взяток. Уже который раз в центре в ментуру в заложники брали!
Короче – мечусь по Тверской, как дура, народ спрашиваю: не знаете ли вы где тут ближайшее, мол, отделение? Народ хохочет – считает, что это диджейский розыгрыш какой-то или флэш моб. Уже не знаю, что делать – поворачиваю к метро – и тут – вижу – Славик плывет: счастливый, яростный, широченная улыбка, бедрами играет, худоба и судорожная изломанность подростка Эгона Шиле.
– Как, – говорит, – ты вовремя позвонила! Как только я взятку давать наотрез отказался – говорю: вы вообще незаконно меня задержали – я вам, что, меценат, что ли?! Каждую неделю меня ловить! – так они мне начали уже прямо угрожать, что сейчас мне наркоты в карман подложат! «Мы, – говорит, – искать умеем! Сядешь! Давай лучше по-хорошему». А как только я про службу безопасности тебе в телефон сказал – они сразу ушли в какую-то другою комнату, пришел их начальник, извинился за поведение подчиненных и соврал, что я на какого-то особо опасного преступника похож. И выпустил!
– Они, что, – говорю – у тебя телефон отняли?! Почему ты вырубился?
– Да нет, – говорит, – у меня зарядка просто села! Давно уже причем! Я уж просто от отчаяния, когда они меня шантажировать начали – нажал в кармане незаметно кнопку – и телефон включился – на последнем каком-то издыхании! И в эту секунду ты позвонила! Все, – говорит, – нет сил, ща умру, пойдем пожрем куда-нибудь скорее! В «Пушкин», что ли? Ужасно, но зато близко!
Короче, пришли в «Пушкин».
Официант (этот, рыжий, в своем дурацком передничке) мне говорит:
– Вам, – говорит, – как всегда? Две двойных порции вегетарианских грибных пельменей?
Я говорю:
– А можно, – говорю, – вас прежде попросить уточнить все-таки у повара, добавляет ли он в тесто яйца? А то вы мне в прошлый раз так и не ответили.
Официант злобно на меня глянул, юной челюстью бритой кляцнул – но пошел, виляя обтянутым задом, к повару.
Я говорю:
– Может быть, не нужно было спрашивать… Может быть, – говорю, – надо было воспользоваться рецептом апостола Павла: не выяснять ингредиенты купленного на торжище – для спокойствия совести…
– Нет-нет, – говорит Славик, – правильно сделала. – А сам в руках меню «Пушкина» вертит. – Эх… – говорит. – Ничего что-то из их меню не хочется… Всё перепробовано!
А тут официант вернулся:
– Я, – мстительно так говорит, – вам, конечно, не должен был бы этого говорить – потому что тогда вы блюдо не закажете. Но… Ваши опасения оправдались.
Я говорю:
– Славик, ты будешь что-нибудь заказывать?
– Нет-нет, – говорит. – В другое место пошли тогда!
Я говорю:
– Куда ж мы пойдем? Может, в «Китайский летчик» – по-простому, гречневой кашки с грибами съедим?
– Ой! – Славик руками на меня замахал. – Не дай Бог! Там такой грохот – концерт наверняка какой-нибудь, и орут все!
Короче, вышли мы с ним на крыльцо, в раздумьях. Вдруг Славик говорит:
– В «Шинок» поедем, придумал!
Я говорю:
– Ни за что! Чтоб мы там кого-нибудь из этих, прости Господи, встретили?!
– Да ну что ты! – уговаривает меня. – Никого там сейчас нет!
– Не охота, – говорю, – далеко так тащиться. Водителя, – говорю, – мне в такой час вызывать неудобно. Может, в Елисеевский, – говорю, – зайдем чего-нибудь купим – и у меня поедим? А то у меня гость один был – все сожрал!
– Нет, – Славик говорит, – уж раз мы с тобой договорились пойти куда-нибудь позавтракать вместе сегодня – так давай хотя бы сходим поужинаем! Поехали! У тебя, – говорит, – есть деньги на такси? А то у меня, – говорит, – ни копейки наличных не осталось!
Короче, словили таксиста.
Я говорю:
– Славик, – говорю, – тебя, что, – говорю, – целый день в ментуре продержали?!
– Да нет, – говорит, – всего полчаса.
Я говорю:
– А где ж ты шлялся целый день?!
Славик мне (уже в машине) говорит:
– Ой, даже вот не хотел тебе рассказывать… Ужас! Ужас! Все наперекосяк с самого утра! Мне такой ужасный сон приснился! Меня за ногу во сне какой-то урод схватил – и не отпускает! И больно так! Я чувствую: всё, сейчас просто кожу уже обдерет – жгучая боль! Я пытаюсь от него отбиться – и не получается! Впивается в ногу мне всё больнее и больнее! Я в ужасе просыпаюсь – и вижу, что это к моей лодыжке, оказывается, к волосам на ноге, жвачка прилипла – а моя кошка залезла ко мне под одеяло и всеми когтями эту жвачку отдирает! Ну я вроде очнулся – кошку прогнал, жвачку пошел в душ выбривать – а настроение все равно самое гнусное после этого сна! Депрессуха прям настоящая началась. Вышел на улицу – и как-то всё, чувствую, ужасно в мире!
Я говорю:
– Бедненький, что ж ты сразу не позвонил и про свой сон не рассказал?
– Ой, ну что ты, – говорит, – я наоборот сразу понял, что тебе я, в таком своем депрессушном состоянии, портить настроения не хочу! Ну я и поехал к одному своему редактору, которому мне кое-что заказать надо было – которого я ненавижу! Думаю: вот кому мне не жалко портить настроение – так это ему! Ну и проваландался с ним, выхожу, чувствую: жрать уже охота – невыносимо. Зашел, с отчаяния, в макдональдс на Новокузнецкой – все равно, думаю: хуже уже не будет. Народу полно. И вдруг я замечаю – в углу там женщина сидит, бомжиха – не ест ничего, не на что, видно, – но у нее такое блаженное выражение лица – что я понял, что ей, видимо, в жизни уже так хреново – что вот даже погреться посидеть для нее уже небесное блаженство. Ну, я ничего жрать там вообще не смог – выгреб из карманов всю наличку, какая была, всунул ей в руку, и выбежал оттуда…
Короче, любимый: Славик сидит мне душу изливает, бедный.
А тут в лобовое стекло нашего такси ка-а-к бросится что-то! Наш таксист ка-а-к мотанет руль в сторону! Затормозил резко, на обочину съехал. Смотрю – водитель аж трясется от ужаса. Оказалось – грязный целлофановый пакет просто. А водитель этим своим маневром ухитрился колесо пробить. Говорит: «Простите, вам другую машину ловить придется».
Поймали. Едем. Я смотрю в окно – и тут вижу – эти гнусные грязные целлофановые пакеты-то, ледяным ветром надутые, всюду летают – вихрь мусорный какой-то – и атакуют машины! Скверная ночь. Ветер противный, крайне даже противный. Еле доехали. Смотрю – уже почти полночь. И меньше всего в жлобень «Шинка» входить хочется. Ну, думаю, ладно, раз доехали…
Входим – и действительно – Славик прав оказался: одни во всем ресторане. Ну, официант нас уныло ведет к окну, за которым – живой паноптикум псевдо-деревенского псевдо-дворика: садимся – а прямо перед нами, за стеклом – индюк. Живой. И крепостная, под-новорусская, несчастная старуха. Живая. Кверху задом выбирает каких-то блох из апатичной козы.
Я говорю:
– Сла-а-ави-и-ик…
Славик говорит:
– Знаю-знаю… Сейчас мы быстро съедим чего-нибудь и уедем. Здесь же наверняка чего-нибудь постное есть!
Короче, подошел заспанный официант – невместительно толстый, в роль вжившийся, парубок, с расшито-расписной ширинкой, на руке висящей. Славик ему, со всей строгостью, подробно, с расшифровкой, со скидкой на под-новорусскую тупость:
– Молодой человек, – говорит, – у вас есть что-то без мяса, без рыбы, без молока, – и без яиц?
– Картоха! – расплывшись в улыбке, отвечает ему официант, – и машет ширинкой. Полотенцем, в смысле.
– Во! – Славик говорит. – Несите! Две порции! Только без сливочного масла, пожалуйста! С постным маслом!
А сам тем временем, когда парубок отвалил, грустно говорит мне:
– Я вот знаешь, о чем сейчас подумал: какая зияющая пропасть лежит между понятиями «пост», «диета», «голод», «голодание» и «голодовка»! Вроде – суть одна и та же: не жрать ничего! А ведь содержание абсолютно разное! Диета, например, – прямо противоположна по сути посту! Пост ведь – это отказ от плоти в пользу духа. А диета для похудения – когда бабы-модели и мужики-модели, например, голодают – это же наоборот примат плоти – они от этого, наоборот, еще гораздо более законченными самками и самцами становятся!
Я говорю:
– Единственное, на что я, пожалуй, была бы ради поста не готова – это жрать саранчу, как Иоанн Креститель.
Славик говорит:
– Как?! Акриды это разве саранча?!
– Ну, – говорю, – я предпочитаю верить, что нет. Жуткая же ведь там путаница с адекватным переводом библейской флоры и фауны. Плезиозавра левиафаном называют – а эволюционисты его, от испуга за крах своей теории, вообще чуть ли не гиппопотамом, вымышленно, постановили считать. Змей как «ехидны» перевели. А про акриды, в принципе, наиболее аппетитная версия, что никакая это не саранча – а плоды рожкового дерева. Помнишь, блудный сын ведь тоже в Евангелии мечтает забить пузо хотя бы «рожками», которые едят свиньи. Я думаю, как раз эти рожковые плоды и ел в пустыне Креститель.
– А это тогда даже очень вкусно получается! – Славик завопил, с загоревшимися, уже совсем голодными глазами. – Рожковые плоды и дикий мед! Это же тогда как орешки в меду получаются!
В этот самый момент парубок нам еду притащил: мы оба, просто уже не веря счастью, за вилки хватаемся.
И тут я замечаю, что сверху картошка чем-то очень подозрительным посыпана.
Я шепчу Славику через стол:
– Славик! Спроси у него, пожалуйста: что это такое! Ты ведь умеешь с ними разговаривать!
Славик, опять, со всей взыскательностью:
– Молодой человек! Это что это?! – и вилочкой подозрительный предмет подцепил.
А жирный парубок, накрутив ширинку на локоть, с достоинством:
– Шкварки!
The Voice Document has been recorded