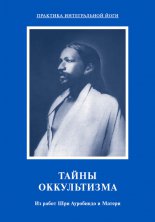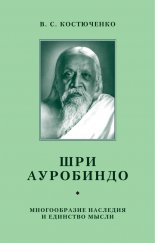Избранные произведения (сборник) Шойхет Александр

Борьке тоже почему-то было некогда.
– У меня же через четверть часа смена начинается, – но увидев недоуменный взгляд господина Н., кивнул снисходительно. – Ну, хорошо, только быстро…
И действительно. Они быстренько пробежались по всем двенадцати этажам нового здания с экзотическим названием «Бейт-Африка» (почему «Бейт-Африка»?), точнее, проехались на лифте, потом спустились в душные помещения подземной стоянки.
– Здесь по всему зданию десять точек, которые ты должен обходить по ночам, отмечать. Три обхода за ночь, каждые два часа. Но на лифте ездить нельзя.
– Почему?
– А если лифт застрянет? Кто тебя вытащит? Ночью на смене ты один. Значит, пешочком, пешочком… Если кто-то из работников задержался, откроешь шлагбаум, выпустишь. Вот тут, в будке, две кнопки. Открыл, закрыл. Ну и, если завоет сирена на пульте контроля, ну, там, пожар или что еще, проверишь и позвонишь начальству. Сам никуда не лезь. Понял?
– Есть еще что-нибудь? – господин Н., будучи человеком ответственным, кивнул на пульт управления, где горели и подмигивали цветные лампочки.
– Остальное тебя не касается! – отрезал Борька. – Ты ночной охранник.
– А разве здесь нет смен?
– Смены есть, – ответил Борька, чуть помедлив, – но ты будешь работать ночами. Так Мирон сказал. А он здесь царь и бог.
Господин Н. про себя удивился подобному раскладу, но ничего не ответил.
«Поживем – увидим», – подумал он.
Начинать работу на новом месте с конфликта не хотелось. Господин Н. не был конфликтным человеком, что вообще-то в Израиле было помехой. Здесь, по укоренившемуся мнению, надо было «стучать кулаком по столу», кричать и хватать за грудки, если хочешь чего-то добиться. А ему мешало его российско-еврейское воспитание. За столько лет так и не сумел себя переломить.
Его новый напарник Борис показался ему вначале вполне интеллигентным, компанейским парнем довольно приятной внешности.
«С ним можно договориться, – подумал господин Н. – Странно, что я должен работать только в ночь. Юда об этом ничего не сказал… И что это за Мирон, который здесь „царь и бог“? Ладно, со временем договоримся. Они же оба „русские“…»[26]
Но вот тут-то он и ошибся. «Ав-а-байт»[27], а попросту говоря, замдиректора здания по хозчасти, Мирон, стал к нему цепляться по пустякам. Чем-то ему господин Н. не понравился. Однажды утром, когда г-н Н. с нетерпением ждал сменщика, вымотанный бессонной ночью и духотой, Мирон придрался к тому, что в одном из офисов четвертого этажа горел ночью свет. Господин Н. мягко возразил, что не имеет права заходить внутрь кабинета, да и на двери стоит кодовый замок. Это возражение почему-то вывело краснолицего гномика из себя, хотя, по сути, г-н Н. был прав.
– Ну-у, ты тупой! Вот же тупой какой! – Мирон скрежетал зубами от злости. – Я тебе сто раз говорил! Вот каких тупых присылают мне… А я тут мучайся! Нет, ты не можешь здесь работать! Я так и скажу Юде… Вот Борька – это золотой человек, все делает, как надо! А ты шмок, кусок дерьма! Убирайся домой!
Надо сказать, что господин Н. вовсе не был по жизни мягкотелой тряпкой. Спартанское воспитание покойной тети Риты давало свои плоды, да и занятия в юности разными видами спорта закалили его характер. Но… была у него странная черта: он терялся от внезапного, немотивированного словесного хамства. Правда, ненадолго. Как мангуст Рики-тики-тави в сказке Киплинга при виде ядовитой змеи. Но, вот эта его неуверенная пауза почему-то придавала хамам храбрости: «испугался, интеллигент вшивый»! Очевидно, Мирон был из этой неумирающей когорты интернациональных хамов. Господин Н. терялся еще и от того, что Мирон был еврей, а по странному, усвоенному по прежней жизни мнению, еврей, разумеется, хамом быть не мог, да еще по отношению к своему собрату-аиду, бывшему земляку. И хотя за столько лет в Израиле он неоднократно сталкивался с проявлениями этого пещерного качества и в местных евреях, и среди бывших соотечественников, но так и не смог привыкнуть к печальной мысли, что евреи по части хамства ничуть не уступают «гоям». Поэтому он недоуменно смотрел на кипящего ненавистью Мирона и думал, что в Москве лет пятнадцать назад не стал бы так долго «зависать» с ответом. Он даже не стал бы бить этого наглого зарвавшегося коротышку, а просто взял бы за шкирку и хорошо потряс. А может быть, и не потряс бы, может, кончилось бы там, на прежней родине, совсем по-иному. Скорее всего, посмотрели бы они с Мироном друг на друга и…
– Ты что, еврей?
– А ты?
– Ну, конечно!
И от сознания причастности к этой вечно унижаемой на территории Российской империи «касте», наверное, подружились бы, помогали друг другу… Что же случилось с нами в этой стране? Почему именно здесь мы становимся хамами, скотами и ублюдками по отношению друг к другу? Господин Н. часто задавал эти вопросы себе и другим, но адекватного ответа не было, и от этого становилось еще горше. Задал он себе этот вопрос и сейчас, глядя в маленькие и злые мироновские глазки, чувствуя, как пальцы впиваются в ладони. Он быстро подавил неодолимое желание немедленно вмазать промеж этих бесцветных глазок. Драться здесь было нельзя, если хочешь остаться на работе. Он молча проглотил обиду и вышел из здания, заторопился на подходивший автобус. В Израиле он стал молчалив и покорен обстоятельствам.
И с Борькой Цедицером, таким с виду интеллигентом, читавшим на работе книжки хороших российских авторов, тоже не сложилось. Дело в том, что Борька был мироновский протеже. Когда охранная фирма, где он трудился ранее, проиграла конкурс, то Борису, тогда еще совсем свеженькому репатрианту, светила в самом лучшем случае охрана супермаркета, восьмичасовое стояние на жаре, бесконечная вереница раздраженных покупателей с сумками, невозможность отойти в туалет или наскоро проглотить сэндвич. Где уж там почитывать Дину Рубину и Каледина, сидя вечерами в уютном холле «Бейт-Африки»! Борька, не владевший тогда даже минимальным ивритом, бросился в ножки Мирону, и тот попросил начальство новой фирмы, чтобы Борьку оставили на прежнем месте. И Борьку оставили. Разумеется, за такое благодеяние Цедицер, наверное, был готов вылизывать «царю и богу» все места и, коль скоро новый охранник замдиректору по хозчасти «не пондравился», значит и Борька мог с ним особо не считаться. Именно так обьяснял себе господин Н. отношение Бориса к нему, новому охраннику. А он-то, дурак наивный, еще и книжку ему свою совал, на, мол, возьми, почитай, это я написал и издал на свои кровные, здесь, в Израиле! Но на свежего репатрианта Цедицера, как лирические вирши господина Н., так и жесткая, суровая проза «об жизни в Израиле», никакого впечатления не произвели. Через неделю он молча сунул книжку господину Н. назад (чуть ли не в физиономию ткнул!) безо всяких комментариев. А на робкий вопрос:
– Ну, как тебе, что-то понравилось, или?..
Буркнул:
– Не знаю… Я не литературный критик.
На этом их интеллектуальный контакт закончился. А вскоре Борька начал придираться к господину Н., как-будто сам был его начальником. («Почему свет на стоянке не гасишь? Почему двери в служебные туалеты не запер?» – и т. д.). Все было ясно: Борька выслуживался перед Мироном, контролируя работу господина Н. Все попытки поговорить с ним натыкались на странную враждебность, и господин Н. оставил Цедицера наедине с его злобой. На придирки и замечания старался не реагировать. Но иногда, глядя на узкое бледное личико, светлые усики и маленькие, неопределенного цвета глазки, посверкивающие стеклами очков, господин Н. внезапно ощущал прилив чего-то давно забытого из его ушедшей в прошлое спортивно-кулачной юности. Когда он еще был не господином Н., а просто Сеней Дрейзиным, капитаном факультетской сборной по регби, 85-килограмовым стремительным «качком», и с такими «рыбами-прилипалами» разговор у него был короткий.
«Вот она, демократия в действии», – вздыхал он про себя и отворачивался от мелкого подлеца Борьки, и уходил от греха подальше, уходил в себя, не дай бог, сорваться!
Отработанный годами тренировок автоматизм мог подвести, драка означала полицейское расследование и потерю рабочего места. А этого пожилой господин Н. позволить себе никак не мог, тем более теперь, когда в его жизни появилась Валечка, и обрисовалось какое-то подобие семьи. Поэтому и хук Мирону по печени, и макание Борькиной физиономии в ближайший унитаз – все это категорически отметалось.
Ясное дело, в такой ситуации нельзя было и помыслить, чтобы договориться по-хорошему с этой шатией-братией, поменяться сменами или, хотя бы, прийти на работу попозже часика на два. Но что-то, все же, надо было предпринять. И не то, чтобы очень уж хотелось господину Н. принять участие в выступлении «молодых поэтов», самому юному из которых уже было далеко за тридцать, но для него такие «тусовки» были отдушиной, неким наркотиком, временным отключением от каждодневной унизительной работы. От этого тупого вращения белки в колесе, превращающего образованного, разностороннего жителя огромного российского мегаполиса, книгочея и театрала, в задерганное и озлобленное существо с тусклым взглядом и животными инстинктами. Выхода не было. И он позвонил Юде.
Юда, ответственный за охрану нескольких новых «высоток» в центре Тель-Авива, ответил сразу, что было, как правило, ему не свойственно по причине крайней занятости. Юда молча выслушал крайне сбивчивую речь охранника Дрейзина о том, что он совершенно внезапно заболел и очень плохо себя чувствует (ну, очень плохо, температура высокая, голова болит, тошнота и…) и нельзя ли ему явиться на работу часа, так, на три попозже?
– Шимон, тебе нужен отгул? – спросил Юда хриплым командирским басом бывшего старшины спецназа «Голани»[28]. – Я даю тебе сутки. Отдыхай. Лечись. На работу выйдешь послезавтра в ночь. Бай!
Это была неожиданная и оглушительная везуха! Выбить у Юды суточный отпуск накануне очередного дежурства? Невероятно! Наверняка не обошлось без вмешательства Всевышнего. Теперь господин Н. мог спокойно, не дергаясь, отправиться на вечер поэзии под названием «Поэты большого Тель-Авива», и даже не один, а с Валечкой, (почему нет? все местные писаки являлись на такие тусовки с подругами), а Валечка, надо сказать, узнав, что ее «мужичок» к тому же еще и пишет, очень обрадовалась и, конечно же, с удовольствием составила ему компанию.
На Каплан, шесть, было шумно, дымно и безалаберно, в маленьком зальчике народу битком. За столом возле сцены, плотно заставленным алкогольными напитками и блюдами с легкой закуской, сгрудился поэтический президиум. Несмотря на царившую здесь атмосферу творческого беспорядка, некая, внушительных размеров дама, твердой рукой рулила этим сборищем, вызывая поэтов согласно списку, которым она время от времени театрально взмахивала.
Господин Н. с Валентиной забились в самый угол, где (господин Н. очень надеялся!) он рассчитывал отсиживаться во время выступлений.
Собравшиеся поэты реагировали на выступления коллег по перу весьма бурно. Особенный восторг вызывал необьятных размеров молодой человек баскетбольного роста, сверкавший обритым наголо черепом – поэт из Иерусалима Петя Птиц. Он громко читал, помахивая в воздухе массивной дланью, свои вирши, и все присутствующие были в полном восторге, особенно, когда он завопил на весь зал:
– Я так люблю тебя, что про минет и думать забыл!
Или, когда «на бис» исполнил (опять же очень громко) своего знаменитого «Раба»:
– …Полоумной танцовщицей
- У подножия
- Не вафлистом, а жертвенной девственницей.
- Не жопником, а наложницей Бога –
- В единственно правильной позе…
Бывшие в зальчике поэты и особенно поэтессы ликовали, поэт Меружицкий, размахивая руками, горланил с места:
– Да-да, «не жопником, а наложницей Бога»! Это замечательно! Конгениально!
Валечка, впервые присутствовавшая на таком поэтическом сборище, была довольна и очень смеялась. Потом выходили другие, читали что-то, то проборматывая невнятно, то перекрикивая шум поэтического сборища. Валечке очень понравился один низенький пузатый толстячок, он читал, закатывая глаза, как он пояснил при этом, «не собственные стихи, но оч-чень гениальные, не могу удержаться»:
- – …И если мы возьмемся за срамные части,
- В прелестном месте, в малейшей части,
- А если мы возьмем рукой срамные части,
- К несчастью выйдет – та же нагота!
– Ой, Сенечка, как же он такое читает вслух? Знаешь, наверное, у него непорядок с мужскими делами. Надо ему чаще к девочкам ходить… Но сам он забавный!
А потом взгрустнула, услыхав стихи про мойщиков окон:
- «…В немытой неустроенной стране,
- Привычной к непотребным переменам,
- Ползут рабы-невольники по стенам.
- Приговоренно – лицами к стене».
– Ох, правду сказал! Я, вот, тоже видела… Так работают ребята! И не страшно им на такой высоте? Я всегда их жалела, бедных. Так жизнью рисковать – никаких денег не надо!
Дошла очередь и до господина Н. Не сумел-таки отсидеться в дальнем углу. Он прочитал кое-что из раннего своего, про израильского парня-солдата, погибшего в Ливане. Потом кто-то крикнул с места:
– Прочтите «Поэму о Севере»!
И он нехотя (и чего этот верлибр так им полюбился?) прочитал кусок поэмы о заблудившемся в ледяном тумане ржавом сейнере. Свое ностальгическое воспоминание о давней экспедиции в Баренцевом море, такое нелепое и ненужное в здешнем липком и удушливом климате. Ему тоже хлопали, а Валечка сияла глазами и очень гордилась.
Ехали домой поздно, за окном автобуса густела чернота накатившей тель-авивской ночи, светящейся цветными окнами домов. Валентина, прижимаясь к нему своим сильным телом, щебетала что-то радостное, выступления поэтов, видно, возбудили ее. Господин Н. слушал ее, кивал, улыбался. Но внутри его разворошенной «вечером поэзии» души, поднималось знакомое ощущение тоски и злости. И соткался перед внутренним взором в замкнутом пространстве рейсового автобуса знакомый портрет… Холодные выпуклые глаза под массивным лбом, ироничный изгиб рта, жесткий стоячий ворот гусарского мундира…
- «Скажи мне, ветка Палестины,
- Где ты росла, где ты цвела?
- Каких холмов, какой долины
- Ты украшением была?
- У вод ли чистых Иордана
- Востока луч тебя ласкал,
- Ночной ли ветр в горах Ливана
- Тебя сердито колыхал?»
– Ты чего там шепчешь, мужичок? – Валентина затеребила его сбоку. – Ты чего?
– Ничего. Так, ерунда… Не обращай внимания…
«Да уж, ерунда, – думал он с нарастающим раздражением. – Господи, ну почему? Почему ни один из этих, сегодняшних, не то что, не поднялся до уровня этого мальчика, так глупо погибшего сто шестьдесят лет назад, а даже и не приблизился на дистанцию морской мили к его ранним стихам? Что же мы за такое бездарное поколение? Что с нами со всеми произошло? Где оправдание перед Богом за наше убожество? Холокост? Страх родителей перед сталинскими «чистками»? Тусклая жизнь в эпоху застоя? Эмиграция? Чушь! Отговорки убогих душ. И ведь есть же среди них, среди нас, то есть, талантливые… А что в итоге? „К барану волк подкрался, но тут пропел петух, зверюга испугался, умчался во весь дух“. „Мальбрук в поход собрался… Тра-та-та-та-та… В походе обо…ался, и тра-та-та-та-та…“ Или, вот еще, конгениальное: „На вьезде в город Энск, стоит от века Сфинкс и никуда не лезет, хотя порою грезит… Я вылезаю паленый и факельный, мною задеты, шипят провода. А в атмосфере, как в старенькой Англии, морем процеженным пухнет вода…“. А? Класс! Ну и, конечно, вершина вдохновения: „Как генерал, сортиры моющий в эмиграции, за дайм отсасывал в туалете… И хочется какать и онанировать…“. Ну и онанируйте себе на здоровье. Только поэзия тут причем?».
– Сень, нам выходить! Задумался?
– Да, конечно. Извини…
Вышли из прохлады автобуса в теплоту ночи. Прогулялись немного по маленькому парку. Валя, догадавшись о его состоянии, ни о чем больше не спрашивала, молча шла рядом, держала под руку. Тоска и злость уходили, прятались в потаенные уголки сознания. Господин Н. вздохнул, вспомнив, что завтра снова на дежурство, снова выслушивать ворчание Мирона, ловить Борькины косые взгляды и бегать бессонными ночами по зданию, отмечаясь в контрольных точках. Опять начнется каждодневная, убивающая душу рутина. Перед тем, как зайти в подъезд, постояли немного перед домом, вдыхая теплый весенний воздух. Шипя и брызгаясь, работали «поливалки», освежая траву и кусты.
– Сень, смотри, акация цветет. Правда, красиво?
– Н-нда… Вот, скажи, Валь, тебе нравятся эти строки:
- «Выхожу один я на дорогу;
- Сквозь туман кремнистый путь блестит.
- Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу
- И звезда с звездою говорит…»
– Так это ж песня, Сень! Народная… Конечно, нравиться! Еще мама моя, когда ей грустно, напевает:
- «В небесах торжественно и чу-удно
- Спит земля в сиянье-е го-олубом…
- Что же мне так бо-ольно и так тру-удно
- Жду ль че-его? Жа-алею-ю ли о че-ем?».
– Вот именно, песня! Песня… Ладно, Валь. Пойдем домой. Завтра вставать рано…
Уже заходя в подъезд, он оглянулся. Тревожно шумела под ветром акация. И тонкий серпик месяца смотрел с ночного неба сквозь ее ветви.
Глава четвертая
Дверь на крышу
(Запись в дневнике г-на Н. Октябрь 2003.)
«…Про дверь на крышу она не зря мне сказала. Но я, конечно, тогда ей не поверил. Какая-то «восточная» баба, набитая под завязку суевериями. А я такой, весь из себя образованный, современный человек. Законченное высшее. По израильским меркам – вторая степень. Магистр естественных наук. Звучит! «Не ходи на крышу!». А я как раз любил ходить на крышу и заниматься там зарядкой. На крыше и дышится легче, даже в жару. Да и вид на район Флорентин с крыши не такой убогий.
Короче, не обратил я внимания на слова этой «восточной» уборщицы. Дверь на крышу была самая обыкновенная: фанера, оббитая дермантином, на ржавых скрипучих петлях. И постоянно открытая. Даже в плохую погоду. Но мне это абсолютно не мешало. Особенно зимой, когда я, возвратившись с очередного ночного дежурства, сидел в продавленном старом кресле, закусывая бренди яичницей с луком, и слушал, как мерно барабанит по крыше серый тель-авивский дождик. В такие минуты мне было хорошо и покойно на душе, я погружался в расслабленно-дремотное состояние, и странные видения возникали перед глазами, то ли сны, то ли фантазии наяву…
В первый раз это случилось через пару месяцев после моего переезда. Было совсем не израильское осеннее утро. Вторая половина октября. Ветер гнал темно-серые тучи с моря, желтые палые листья, обрывки полиэтиленовых пакетов… Я блаженствовал после принятия внутрь порции жареной картошки и пары стаканчиков «Абсолюта». Окно в комнату было открыто. Шелестели ветви старой акации во дворе.
И вот тут… внезапно возникло это странное состояние… Я как бы лишился тела и медленно стал выплывать в открытое окно. Вместе с креслом, на котором сидел… Вот и моя крыша, влажная от начавшегося дождя… Я медленно уплывал в кресле куда-то вверх… Верхушки старых деревьев…
И-и-и… Б-баа-а-а-ам-м!!
Взрыв бухнул в уши, небо резко ушло вверх, и на меня, вжавшегося в бурую стенку окопа, посыпалась сверху земля. Гудело в ушах. Вокруг меня, как в замедленной киносъемке, двигались странно одетые люди. Двое из них, в одинаковых синих комбинезонах и стальных касках наклонились ко мне и один, обдав запахом спиртного и табака, что-то спросил. Я заметил, что оба вооружены маузерами старого образца. В глаза бросилась эмблема на рукавах с надписью «POUM».
Поум… поум… Что это, – поум? Название организации? Воинское подразделение? Не могу вспомнить…
Я не понимал их язык, и это было самое скверное. Один из них грубо схватил меня за руку, пытаясь поднять, второй, высокий бородач, навел на меня маузер. Черт! Куда я попал? Или это сон? Но маузер из забытых времен был так же реален, как реален был запах пота и перегара от двоих в касках, как реален был странный гул, шедший с нестерпимо синего неба, как реальна была коричневая глина траншеи, в которой я очутился.
Внезапно тех двоих резко заслонила веселая мордашка в синем берете, лихо сдвинутом на правую бровь, пара бархатных глаз взглянула в лицо, и безупречные коралловые губки произнесли:
– Мартин! Хуго! Оставьте! Видите, он контужен и ничего не соображает? Вы меня слышите, товарищ? Как вас зовут?
И, о чудо! Я сразу понял ее.
Она говорила по-испански. Но откуда у меня знание испанского? Я учил немецкий в школе и в институте. И еще немного английский с преподавателем. Но я понял, что говорила эта милая «Кармен» с веселой улыбкой яркого рта и черными огнями глаз.
Я сидел на краю траншеи, медленно осваивая новую действительность… Перед глазами было поле, перепаханное снарядами, слева виднелись какие-то белые домики под красными крышами… По траншее передвигались люди в синих комбинезонах, защитных френчах и странных пилотках красно-черного цвета. Я повернулся и почувствовал чей-то жесткий сапог, упершийся в бок. Развернувшись, увидел молодого паренька в штатском пальтишке, облокотившегося на станковый пулемет, черный ствол которого смотрел в синеву неба. И над всей этой нереальной картиной стоял высокий неумолкающий гул… Милая медсестра, машинально поправив повязку с красным крестом, продолжала:
– Ты из батальона имени Чапаева, товарищ? Как тебя зовут?
– Нет, он не анарх, – отозвался один из «комбинезонов», – у них пилотки красно-черные… Ты что, не понимаешь по-испански? Эй, француз, поговори с ним!
Слева надвинулось сухощавое лицо, напоминающее отточенный топор гильотины, светлая прядь волос падала на лоб из-под синего берета, два стальных глаза внимательно глядят из-под очков:
– Отвечайте, товарищ. Вы из батальона анархистов?
Первую фразу, произнесенную на французском, я не понял, но он повторил ее по-немецки. И тогда из глубин моей заскорузлой памяти, из детского далека, из уроков нашей училки, доброй Тамары Густавовны, а может, и под действием черного зрачка маузера, продолжавшего смотреть в мою сторону, из моих спящих извилин выползла забытая фраза на немецком:
– Я из двенадцатой интербригады…
«Черт дернул! Почему из двенадцатой интербригады? Ведь они же проверят! Да я вообще не из какой бригады, и вообще не отсюда. Ну, и как теперь выкручиваться?».
– А-а, так вы интербригадовец? – «Француз» сразу подобрел лицом, жесткие складки у рта пропали, но глаза под окулярами смотрели внимательно. – Но как же вы у нас оказались? Вы немец?
– Н-нет…
«Черт! А кто же я? Надо что-то соврать…».
– Я так и понял. Вы – русский.
– Почему вы так решили?
– У вас харктерный славянский акцент. Я знаком с советскими товарищами. Приходилось бывать в СССР. Но вы не волнуйтесь. Я в курсе, что вы должны соблюдать конспирацию. В двенадцатой интербригаде много ваших… Все в порядке, – кивнул он остальным. – Товарищ из двенадцатой! Но как вы оказались здесь? Насколько мне известно, ваших еще вечером перебросили в Каса-дель-Кампо…
«Господи, что же я ему скажу?». У этого француза в синем «комбезе» были хорошие, честные глаза. Я вдруг подумал, что в своей жизни практически не встречал такого прямого и честного взгляда. «А если сказать ему правду? Разве он поверит?».
– Как вас зовут?
– Зачем вам? Ну, допустим… Рене.
– Скажите, Рене, чем вы занимались до всего этого?
– Вы хотите узнать мою мирную профессию? Я физик. Преподавал в Лионском университете. У меня была лаборатория. Я изучал физическую природу шаровых молний… Но сейчас это не важно…
– Тогда вы можете меня понять!
– Что значит – понять?
– Знаете, если честно, я не из Интербригады. Я вообще не имею к вам никакого отношения! Потому что я вообще не из этого времени! Я попал к вам из будущего!
– Откуда?
– Из будущего. Понимаете, я не знаю, как это получилось. Я сидел у себя дома, в Тель-Авиве…
– Постойте. В Тель-Авиве? Но…Это же, кажется, Палестина…
«Черт! Ведь сейчас у них тут тридцать седьмой год. Израиля еще нет и в помине…».
– Ну, да… Палестина. Я живу там. Но в будущем. Там сейчас государство Израиль. Но это не важно… И вот, вдруг все сместилось… пространство… время… И я очутился здесь, среди вас.
И тут я заметил, что остальные бойцы вовсе не заняты своими делами, а собрались вокруг и пристально смотрят на меня и на Рене. Они все слышали. Здоровяк «поумовец» молча крутил пальцем у виска, его напарник в каске снова навел на меня маузер, санинструкторша «Кармен» смотрела с жалостью. А парнишка в штатском пальто вдруг ударил себя по коленям, рассмеялся и громко заявил:
– А что? Очень может быть! Вот я читал в общежитии моего университета книжку одного француза, не помню, как его звали, так там тоже главный герой попал в будущее. Только оно было каким-то мрачным, капиталистическим. Я бы не хотел там оказаться!
Рене внимательно смотрел на меня сквозь окуляры в стальной оправе, и я понял, что от его решения зависит сейчас мое будущее, что он не только командует всеми этими людьми, но и пользуется их безграничным доверием. И стоит ему только мигнуть, и меня потащат, несмотря на мои возражения, крики и мольбы, мимо всех этих запыленных, изможденных боями, обозленных гражданской войной людей, за край окопов, чтобы вывести в расход…
– Н-ну, хорошо, – сказал он, иронично скривив тонкие, сухие губы. – Возможно, вы не врете, все так и было… Во всяком случае, вы не похожи на шпиона фалангистов. Да и одеты как-то странно… А уж лазутчиков Франко я повидал достаточно, – обратился он к окружавшим нас людям, и оба «поумовца» важно закивали. – Мы, к сожалению, плохо еще знаем окружающий нас мир. У нас было мало времени, чтобы его изучать. Но теперь, когда мы разобьем фашистов, – тут голос его налился металлом, – И создадим новый мир…
И в это время дальний грохот прервал его речь, и внезапно, в десятке метров перед линией окопов вздыбилась земля. Что-то засвистело в воздухе, Рене что-то крикнул на испанском, и его бойцы мигом рассредоточились по траншее, парень в пальто припал к пулемету, ударившему в мои уши безобразным грохотом, и только красавица-санитарка, глазевшая на меня в детском восторге, крикнула:
– А ты правда оттуда?! Из будущего?! Тогда скажи – мы победим?!
Мог ли я в тот момент сказать ей правду? Горькую правду о том, что Испанская республика, преданная Сталиным, будет разгромлена, что двести тысяч республиканцев будет убито в ходе боев, десятки тысяч погибнут после войны в заключении и полмиллиона уйдут в изгнание. Каудильо Франко будет господствовать над страной более тридцати лет. А демократы, пришедшие к власти после его смерти, провозгласят примирение и поставят крест над теми и другими в Долине павших. Забудем прошлое.
Ее глаза нависли надо мной, требуя немедленного ответа.
– Все будет в порядке, Кармен! – крикнул я. – Вы победите! Только не сразу… Потом… Пройдет время и…
– Я знала! – сверкнула она глазами. – Мы не можем проиграть. Только я не Кармен, а Глория! Идем с нами. Сейчас будет атака.
И сразу все вокруг загремело выстрелами, криками, земля задрожала. Кто-то из бойцов упал, выронив винтовку. Я подхватил горячий ствол, но тут меня накрыло взрывом…
…И я снова очутился в старом кресле, вокруг меня была черная крыша моего дома, и толстые ветви тополя приветливо кивали, шелестя:
– С возвращением, с возвращением…
Я долго приходил в себя. Хватанул изрядную дозу водки, не раз помянув тихим словом уборщицу-колдунью и радуясь, что все это мне помстилось. Все же хорошо жить во времена относительного плюрализма, а не классовой борьбы, думал я, ощупывая драную тахту, на которой через мгновение с удовольствием растянулся и забылся сном.
Но потом, прокручивая в памяти удивительный миг исторического прошлого, этот день, окутанный дымом взрывов, день, заглушаемый дробным перестуком винтовочных выстрелов и пулеметной трескотней, я вспоминал командира отряда анархистов Рене и его бойцов. И приходил к грустному выводу, что с этими грубоватыми ребятами мне было бы легче жить на свете. С их прямотой, честностью и абсолютной верой в правоту своих наивных идей. Я часто вспоминал, как они шагнули по команде из траншеи на верную смерть, и кто-то развернул на ветру черный стяг с красной звездой. Никто из них даже не подумал спрятаться за спины товарищей или на дно траншеи…
Но почему мне привиделся именно этот день из жизни Испанской республики, ушедшей в далекое прошлое, и не имеющей к моей жизни никакого отношения?
Я стал вспоминать. И вспомнил. Мой двоюродный дядя Костя! Ведь он-то как раз и был волонтером на испанской войне. Дядя Костя занимался еще в тридцатых годах в аэроклубе, летал на «кукурузниках», прыгал с парашютом, имел кучу спортивных разрядов, а в тридцать седьмом году неожиданно исчез. И все его родственники решили, что он арестован. Хотя никто не понимал за что. А потом выяснилось, что он сражался в небе Испании. Объявился он в Москве только осенью сорок первого, в летной форме с лейтенантскими кубарями, забежал на пару часов к маме и тетке Рите, коротко поведал о своей испанской одиссее и улетел в Куйбышев на переформирование. Так он сказал. А потом были лаконичные письма с фронта родителям (моя бабка хранила его письма в ящике стола вместе с другими письмами наших семейных фронтовиков). А увиделись они уже в сорок шестом, когда дядя Костя поступал в МАИ. Я на протяжении всего нашего с ним знакомства неоднократно пытался выяснить, что же там произошло, в этой Испании и почему Республика погибла, ведь ей же весь мир помогал! Но Константин Аркадьич отвечал неохотно или же переводил разговор на другие темы, как будто воспоминания эти были ему неприятны. И лишь однажды, на праздновании тридцатилетия Победы, уже пожилой и облысевший дядя Костя, размякнув от выпитой водки и громогласных тостов в честь победителей, вдруг обратился ко мне:
– Вот ты все про Испанскую войну спрашивал. Почему не победили тогда… Знаешь, там был страшенный бардак. Особенно в конце. Ни единого командования. Ни дисциплины. Коммунисты воевали сами по себе. Анархисты и сторонники Троцкого, «поумовцы», сами по себе. Республиканские генералы не хотели снабжать боеприпасами интербригады. А правительство состояло из разных партий. Единства не было. А без единства какая же война? Ну, мы, военные советники, помогали коммунистам. А когда стало ясно, что дело швах, то руководство компартии Испании сбежало в Москву. Ну а нас бросили на произвол судьбы. Пришлось самим выбираться. Едва ноги унесли. А когда вернулись в Союз, так нас еще и арестовали. Проверки устраивали, может, мы завербованные шпионы…
– И тебя проверяли?
– Да… проверяли… В Печлаге, – горько усмехнулся дядя Костя.
И больше я ничего не смог из него выдавить.
Но, тем не менее, в 41м Константин Аркадьич оказался в армии и пролетал на штурмовиках до конца войны. И потом, уже демобилизовавшись, он никогда не ворчал на советскую власть, проработал всю жизнь в авиационном КБ, ходил в «ударниках коммунистического труда», но в партию так и не вступил.
И я часто задаю себе вопрос:
„А те, кого я знаю в этой жизни, все эти милые и вполне порядочные люди моего возраста, смогли бы они вот так же легко пойти на смерть, как поколение дяди Кости, тети Риты, моих родителей? За утопические, несбыточные идеалы? И за какую великую идею пошли бы они отдавать сегодня свои жизни?“».
Глава пятая
Лето 2006 года
Поездка на север
(один день Второй ливанской войны)
Начало Второй ливанской войны господин Н. прозевал. Вернулся, как всегда, с ночного дежурства рано утром, когда за окнами разгорался новый день. Глаза резало от недосыпа, хотелось поскорее упасть на диван, расслабиться, уплыть в спасительный сон. Валентина поставила перед ним тарелку с вареиками.
– Поешь, пожалуйста…
Включила телевизор. Перед работой всегда смотрела новости по Девятому каналу[29]. И вот тут началось…
Перед сонными глазами господина Н. по экрану побежали куда-то солдаты в зеленой форме и головных уборах, похожих на шляпки каких-то гигантских грибов. Только потом господин Н. сообразил, что это каски с защитными чехлами. А зеленые «грибы» все бежали куда-то, так обреченно бежали… Потом в том же направлении поехал танк, смяв проволочное заграждение… Догорающие остатки армейского джипа… И голос комментатора:
– …боевики «Хизбаллы» вторглись на территорию Израиля… погибло восемь солдат пограничной охраны… По данным разведки двое солдат уведено в плен… вблизи кибуца… солдаты Армии обороны Израиля ведут бой…
Валентина как-то, очень по-бабьи, ойкнула и взволнованно зачастила:
– Что ж это творится, Сень… житья от них нет… когда же это кончится… ребята гибнут, неужели ничего нельзя сделать с этим… – на что господин Н., которому за пятнадцать лет жизни в Израиле изрядно надоела кровавая тягомотина «мирного процесса»[30], вся эта непонятная нормальному человеку грязная игра в «казаки-разбойники», только махнул рукой:
– Успокойся, – буркнул он, – никогда это не кончится. Мы, евреи, вечно ищем приключений на свою ж…!
– А если война, Сень? Ведь солдат похитили…
Семен понимал: Валина дочка, Ленка, служит как раз на севере, где-то в районе Хайфы, и Валя боится за нее.
– Ничего не будет, – успокоил он Валентину. – Сначала пошумят, пригрозят, обратятся к мировому сообществу. А затем договорятся, как всегда. Обменяют двух солдат на четыреста бандитов и успокоятся. До следующего раза. Миротворцы хреновы… Ладно, Валь. Я устал. Пойду, посплю.
Ему, вымотанному еженощными дежурствами, не хотелось напрягаться из-за очередного балагана где-то на северной границе. Пусть волнуются те, кому это по штату положено. Им за волнение ба-а-льшие деньги платят. А ему, труженику охранной фирмы, нужен хороший сон после миски домашних вареников.
Он и провалился в вожделенный спасительный сон. Снилась ему серая пыльная проселочная дорога, где-то в глубине России. Раннее утро… Идет он упругим легким шагом, как когда-то, в молодости, и пыль, прибитая утренней росой, чуть пружинит под ногами. Вокруг сизый туман стелется полями и прохладная тишина, нарушаемая лишь тоскливым криком одинокого дергача. И на душе хорошо и спокойно. Но какой-то тревожный сверчок выдернул его на поверхность из тихого омута сна.
Он открыл глаза. В квартире стояла тишина (Валентина уже ушла на работу), но в этой оглушающей тишине было что-то неправильное. Встал с влажной, жаркой простыни, прошлепал в салон. В открытые окна лезла угнетающая тропическая духота. Господин Н. плотно задвинул тяжелые стекла в салоне и включил кондиционер. Глухая тишина давила на уши, и он включил телеящик. И… тут же обрушился на него грохот вертолетных винтов. Промелькнула панорама какого-то куска территории, вероятно, все та же северная граница Израиля. Обгорелый остов сожженной машины… стволы самоходных орудий, бьющих куда-то в пространство… кадры бегущих солдат в касках-грибах… и истошный голос тележурналиста, кричащий о начале военной операции Израиля против «Хизбаллы».
– Черт бы вас всех побрал! – выругался господин Н. – Покоя людям нет…
Но кого он в данный момент ругал, самому было не очень ясно: то ли разбойников из «Хизбаллы», похитивших солдат, то ли ливанское правительство, пригревшее эту самую «Хизбаллу», то ли собственных премьера и министра обороны, вдруг решивших поиграть в очередные «гроздья гнева».
Что до господина Н., то он давно уже отпереживался на местные политические темы.
После того как в девяносто четвертом стали рваться автобусы в центре страны, он, вместе с другими искренними патриотами, недоумевающими, растерянными, возмущенными, ходил на демонстрации, кричал лозунги на русском и иврите, размахивал бело-голубым флагом. Надеялся, что вот так, всем вместе, удастся остановить безумный проект «архитекторов нового Ближнего Востока»… Его надежды разом оборвались во время одной из демонстраций протеста, когда лошадь конного полицейского сбила господина Н. наземь, и толстый мордоворот в блестящей каске огрел его дубинкой по спине.
«Совсем, как в Москве, в восемьдесят восьмом, – подумал господин Н. – На неформальном митинге в защиту демократии…»
С того случая господин Н. решил не играться в местные политические игры.
А на увещевания одного из активистов движения «Моледет»[31] только усмехнулся, бросив в лицо бородатому интеллектуалу из Питера:
– Оставь! Там нас били за демократию, здесь за «сионистские ценности». Если уж эти хваленые гордые «сабры»[32] занимаются самоедством и самоубийством, то что ты, «оле хадаш»[33], надеешься здесь изменить?
– Это наша страна! Наша! – патетически воскликнул, тряся чеховской бородкой «питерский». – Кто основал здесь первые кибуцы? Кто были Жаботинский, Бен-Гурион, Голда Меир? Поэтому мы, «русские», имеем право…
– Залупу конскую мы имеем! – отрезал господин Н. – Полицейские п…дюлины мы имеем. Хватит! С меня довольно.
С тех пор господин Н. махнул рукой на весь местный политический бардак, зарабатывал деньги охранником, устраивал личную жизнь…
В последнее время он жил тихо со своей Валентиной, работал ночами, днем отсыпался, посматривал телевизор, почитывал газеты, отмечал дни рождения и праздники, среди коих христианский Новый год вполне уживался с еврейскими Песахом и Рош-ха-шана.[34] Он смирился с судьбой незаметного, сокровенного человека, над образом коего раньше посмеивался, читая когда-то, в далекой Москве, Андрея Платонова. Он доживал остаток жизни, вполне осознав, что ничего путного и яркого не сумел в ней совершить, несмотря на бурную московскую молодость и разнообразные свои способности.
«Будем довольствоваться малым, – утешал себя господин Н. – Не всем же быть Щаранскими или, к примеру, Абрамовичами. Скажи спасибо, что доживаешь свой жизненный цикл в нормальной квартире, рядом с теплым, родным человеком, а не в одиночку, на скамейке бульвара Ротшильд. Да и работа, какая-никакая, а есть. Разве этого мало?».
И вот теперь… Новая напасть: внезапная война. На экране гремели вертолетные винты, бухали пушки, истерически кричали военные корреспонденты, громогласно вещали политики. Грозил пухлым пальчиком Хасан Насралла, чеканил крутые ковбойские фразы Буш, кукарекал петухом усатый министр обороны, пророча полную победу израильской армии. По российским телеканалам показывали один и тот же разрушенный дом в Бейруте, и мрачный голос диктора вещал что-то о «жестоких бомбардировках израильской авиации». Что до господина Н., то он так же ездил на работу, возвращался уставший, успокаивал Валечку, (ее Ленка звонила из воинской части каждый день, говорила об обстрелах Хайфы, о панике среди населения), потом проваливался в тягучий, липкий дневной сон.
Так прошло две недели. В центре страны жизнь продолжала катиться своей рутинной чередой: люди спорили с продавцами на рынках, ругались друг с другом на автостоянках, отдыхали от дневной жары на пляжах и в кафе. А между тем на Севере происходило что-то непонятное. Победный тон тележурналистов сменился растерянностью. Израильский спецназ в Ливане увязал в затяжных боях, разбились два вертолета, «Хизбалла» подбила израильский ракетный катер, стали взрываться неуязвимые прежде танки «Меркава», и экран запестрел фотографиями убитых мальчиков. Но самое неприятное – обстрелы северных городов усиливались, несмотря на бодрячество репортеров ТВ. Сквозь фальшивый тон телекрикунов проступала отчетливая тревога и какая-то детская беспомощность. И в душу господина Н., под действием телетрескотни и Валюхиных причитаний, стал вползать некий сырой скверный туман. Вот эта сырость, сквернота, оседавшая где-то в области сердца, беспокоила, тревожила. Что-то было не так…
А потом раздался телефонный звонок. Звонил Петя Деревянко из Кирьят-Шмоны. Когда-то, еще в девяносто первом, учились вместе с ним и его Софой в кибуц-ульпане. Подружились. Господин Н. как раз после приезда в Израиль разругался со своей последней пассией, Мариной, вернее, она с ним разругалась. А разругавшись, разделила их общий счет и уехала в Тель-Авив. За радостью. Так она выразилась.
– Ты мне надоел, Дрейзин! Я приехала сюда за радостью. Хочу хорошей жизни, понял? А ты с твоей унылой рожей мне надоел. И запомни, ты здесь ничего не добьешься! Здесь надо быть волком. А ты всего лишь баран. Вот и оставайся в твоем кибуце!
Господин Н. не стал спорить, а тем более разыгрывать из себя покорного мужа из серии «вернисьявсепрощу». Хотя именно из-за этой нахальной скороспелки он оставил в России жену и двоих детей, да, и что греха таить, и в Израиль-то приехал, потому что Марина за все время их совместной жизни постоянно ныла:
– Уедем в Израиль, уедем в Израиль… В Израиле будет другая жизнь…
Вот и уехали. Поселили их в киббуце, у самой северной границы, но, как только отучились в ульпане, Марина познакомилась с местным темноглазым красавцем, хозяином пекарни, и умотала с ним в Тель-Авив, где у Ави (так звали красавца) был также свой «эсек»[35] – магазинчик и кафе. А господин Н. продолжал трудиться на кибуцной фабрике, вечерами просиживал в гостях у четы Деревянко. Пили чай с вареньем, поругивали кибуцные порядки… Надя, милая темноглазая Петина жена, жалела господина Н.
– Ой, Сень, как же ты теперь, один, ни родителей у тебя, ни родни. И дети в Москве остались.
Жалела миловидная, фигуристая и глазастая Надя господина Н. И на фабрике, во время работы (а ее рабочее место находилось как раз напротив), очень выразительно на него поглядывала. А однажды, улучшив момент, когда остались они в комнатке для перекуров одни, проходя мимо со стаканом кофе, довольно откровенно прижалась грудью и тихо выдохнула:
– Ну, долго еще будешь меня мурыжить? Мы ж не дети, Сень. От Петьки моего толку никакого, все мысли у него лишь о хозяйстве, ему бы домик свой! А я еще молодая, тридцать пять, я мужика хочу, чтоб промял ночью, как следует… А то раз в две недели залезет, подергается минуту-две и хорош! Разве ж это жизнь?
Господин Н., обалдев от Надькиного нахальства, поинтересовался, как же это возможно, на глазах у мужа и сына (Давидику тогда исполнилось уже 9 лет), да и всего кибуца, иметь любовника? На что Надя заржала:
– Эх, Сень, ну и наивный же ты! Здесь, на фабрике, место есть шикарное. Подсобка! Наверху, где кабинеты начальства. Там та-акой диванчик удобный! А ключик мне Шошка дала, знаешь, такая черненькая, с сексуальной попкой? Завкухней? Она и сама пользуется, когда ее Моше в «милуим»[36] уходит. Да и твоя крыса, Маринка, с этим Ави туда бегала, когда ты уезжал работу искать. А ты и не знал!
Не воспользовался господин Н. таким заманчивым «золотым» ключиком Надежды, что-то ему тогда не позволило. Как бы он потом мог смотреть в добрые, небесной голубизны, хохляцкие глаза Пети, отвечать на его прямое, сильное рукопожатие, сидеть за одним столом в их уютном кибуцном домике?
Ушел он из кибуца, уехал в центр страны искать счастья. Уехал, несмотря на уговоры заводского начальства: ценили господина Н. за аккуратность в любой работе и спокойный характер. Перебрался в центр, работал в каких-то жутких, грязных мастерских, снимал убогие тесные углы в районе улицы Хар-Цион, пока, вдоволь намаявшись на черных работах, не нашел приличную охранную фирму, прошел спецкурс подготовки охранников, получил хорошее место и снял квартиру в приличном районе. С Петей и Надей иногда перезванивался, правда, редко, жизнь брала свое. Из звонков узнавал, что они ушли из кибуца, купили домик в поселении на севере, Петя завел-таки хозяйство, стал фермером, потом у них родилась дочка, и были они, по-видимому, вполне счастливы. По телефону постоянно звали господина Н. навестить их счастливое семейство, но как-то все не складывалось со временем. Далековато все же до Кирьят-Шмоны. Да и созерцание чьей-то успешной жизни не радовало господина Н., разучился он в Израиле радоваться чужой удаче.
И вот этот звонок. Сначала он даже не узнал Петин голос. Какой-то хриплый каркающий клекот вместо спокойного, с неистребимыми «хэ» и «шо» Петиного баритона.
– Слухай, Сэмэн! Прошу… Как друга! Помоги нам! У нас черт-те шо творится!
– Что? Что случилось, Петька?
– Та, хай його грець! Обстреливают нас! Слышишь? Головы не можно поднять! «Катюши» эти… Шестерых вбыло! Раненые есть… Я прошу, если могешь… Приюти моих, Надьку с Рахилькой!
– Рахилькой? Кто это?
– Та доча моя, я ж тоби говорил! Здэсь родилась… Прими их, а? Начальство наше грэбаное, мэр со своими холопами, сбэгло невесть куда! Город вымэр! Которые с деньгой, уже утиклы! Бросилы нас тут, как шматок кишки…
И перекрывший Петькин голос, резкий, с какими-то незнакомыми визгливыми нотками, голос Нади:
– Сенечка! Если можешь нас принять… Девочка моя так боится! Говорит мне: «Мамочка, я еще очень молода, чтобы умереть!». Слышишь? Жить стало не-воз-мож-но! Магазины закрыты! Сидим в убежище, как крысы! Сень, уговори моего м. дака, пусть бросит все и едет с нами! Да замолчи, ирод! Заел мою жизнь!..
Последнее восклицание явно относилось к Петру, тот еще что-то гундел, но было плохо слышно. Господин Н., конечно, согласился принять старых приятелей, все же беда-то какая, ежедневные обстрелы. Да и голоса у них были совершенно незнакомые, истерично-визгливые. Квартирка у господина Н. была для гостей маловата: салон, спальня, да ванна с кухней, но в такой ситуации можно и потесниться. Валентине господин Н. ничего пока не стал говорить, незачем было раньше времени, да и знал он, что Валя не рассердится…
Он решил ехать на Север утром в воскресенье, сразу после ночной смены, не заезжая домой. Дорога до Кирьят-Шмоны, если ехать автобусом, занимает три с половиной часа, да и там еще неизвестно, как все обернется. Утром по радио передали, что «Галилейский выступ» обстреливают уже серьезно, и город опустел. Господин Н. связался по мобильнику с Петром, но ответила Надя, вопила совершенно истерически. Ракета попала прямо в их двор, убило нескольких кур, собаку Ицика, но, самое главное, искалечило взрывом «джип», и теперь они не могут выехать.
– А на автобусе нельзя? – удивился господин Н., но тут же получил в ухо новый залп Надиной истерики.
– Ты что, дурак, вы там в центре совсем ни хера не знаете, у нас автобусы не ходят уже неделю!
Что ж, надо было добираться, но как? «А может, автобусы все же ходят?»
На Центральной автобусной станции было довольно людно, несмотря на ранний час. Бросалось в глаза большое количество солдат разный частей, многие тащили «на горбу» бронежилеты и, без обычных для солдат смеха и шуточек, молча втягивались на эскалаторы, к автобусам, идущим на Север. Господин Н. обратился к окошку с надписью «Информация» с вопросом: есть ли автобус на Кирьят-Шмону, но неожиданно ответил ему солдат «Голани», шествующий мимо долговязым верблюдом, нагруженным боевой амуницией:
– Иди за мной… Седьмой этаж. 845й номер.
Он загрузился в рейсовый «Икарус» вместе с резервистами боевых частей, снова отметив их, странную для израильских солдат, молчаливую сосредоточенность. Обратил внимание на эмблемы частей. В основном – «Голани», «Гивати», танкисты… Красные береты. Несколько девочек с медицинскими эмблемами.
«Совсем еще девчонки, – подумал он. – Но разве моя мать или тетка Рита были старше в сорок втором, когда пошли на фронт?»
Дорогой господин Н. уходил в дремоту, сказывалось бессонное дежурство, да и убаюкивало жужжание солдатских голосов. А потом сон прервался, и он очнулся от оглушающей тишины. Солдаты в автобусе молчали. И от этого дружного молчания господину Н. стало не по себе. Он увидел пустое мертвое шоссе, полусожженные сады, тянущиеся вдоль дороги. Слева проплыла угрюмая, поросшая лесом, гора Тавор, вся в рыжих подпалинах сгоревших лесов. А вскорена встречной полосе показался армейский тягач. На платформе стоял обгоревший танк с поникшей, как хобот усталого слона, пушкой. Затем еще один… Еще… Тягачи с обгорелыми танками и БМП проплывали мимо… назад… в тыл.
– Вы тоже в Кирьят-Шмону едете? – господин Н. повернул голову и обнаружил в соседнем кресле довольно пожилую тетку вполне сельского вида, обратившуюся по-русски явно к нему.
– Да… вот, еду… Друзья у меня там застряли. Надо вывезти…
– Да, конечно… Правильно вы это… И я вот, тоже… – женщина явно обрадовалась, что можно поговорить. – Еду к своим. Хочу мужа и сына вытащить. Не хотят уезжать. Я говорю, идиоты, жизнь дороже! Вот я у дочки погостила в Бат-Яме неделю, так от тишины оглохла. А у нас, что ни день, грохот такой – сил нет! Ракеты падают, пушки стреляют. А муж мой не хочет. Дом купили, взяли ссуду в банке. И Андрюшка, сын, гундит: «Не могу, мама… перед друзьями стыдно».
Голос женщины уплывал куда-то, проваливался в дурман тяжелого, дорожного сна… Резкий рывок автобуса встряхнул его, господин Н. дернулся, озираясь, и насмешливый голос женщины произнес над ухом:
– Подьезжаем! Ты, милый, чухайся живее, в войну приехал!
Автобус рывками, взревывая, въезжал в город. Вернее, в то, что от него осталось. Господин Н. помнил уютный городок из желто-белого камня, россыпи ярких цветов на клумбах, пирамидальную зелень кипарисов… Ничего этого больше не было. А были клубы черного дыма над сгоревшей фабрикой, разбитые стены опустевших домов, зияющий провалами выбитых витрин торговый центр и серая пыль, висящая в воздухе.
– Где твои друзья-то живут? – спросила женщина. – В городе или в кибуце?
– В поселке Бейт-Гилель.
– Тогда тебе надо такси взять. Местные автобусы не ходят. Если, конешно, такси работает. За сто пятьдесят шекелей, пожалуй, довезет… – и, увидев изумленное лицо г-на Н., добавила. – А что ж ты хочешь? Под огнем кому захочется? Это ж риск. А знаешь што? Лучше, позвони, когда приедем, по этому номеру, – она, проворно достав из сумочки ручку, нацарапала на листике, вырванном из блокнота, телефон. – Это наш Центр помощи. Там есть такая Аня Верник. Дежурит в бомбоубежище при местном Доме культуры. Позвони, как приедешь. Она поможет.
И когда автобус уже заворачивал к автобусной станции, добавила с тревогой в голосе:
– Запомни… у нас тут пушки стреляют… на окраине города… И «катюши» падают. Так вот. Если сначала по ушам ударит, а потом эхо пойдет по горам – это наша батарея. А если вначале шелест такой в воздухе, а потом грохот, то чужая ракета упала. Так ты грохота-то не бойся, ты шелест слушай. Понял? Как услышишь, – падай, где стоишь! Ну, счастливо тебе!