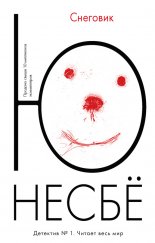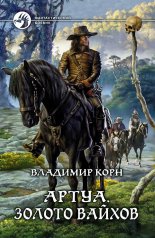Уроки зависти Берсенева Анна

От их дурацких утешений Люба так рассердилась, что даже про свою печаль по поводу Федькиной женитьбы отчасти забыла. Она отвернулась от милующихся молодоженов так резко, что толкнула Киру. Та, вместо того чтобы обидеться, сочувственно вздохнула и посторонилась, пропуская Любу с балкона в комнату.
Почти всю большую гостиную кузнецовской квартиры занимал свадебный стол. Вид у него был уже не праздничный, а утренний, бестолковый, да и гости уже разошлись. Кроме лучших друзей – они-то и стояли сейчас там, на балконе, любуясь поцелуями счастливой парочки.
Люба отыскала на столе более-менее чистый бокал и доверху налила в него водки из чудом не опустошенной, хотя и откупоренной бутылки.
«Все равно сейчас домой, – подумала она. – Вот и выпью, и усну как убитая».
Слова «как убитая», впрочем, и без водки характеризовали ее состояние наилучшим образом.
– Это не водка, а только вода, – услышала Люба.
Как раз в этот момент она поднесла бокал ко рту. От неожиданности рука у нее дрогнула, и водка пролилась в другую руку, которую она успела подставить горсточкой.
– Почему вода? – удивленно спросила Люба.
– Я налил в эту бутылку воду для себя, потому что, к моему сожалению, не могу пить водку.
Разъяснения давал тот самый мужчина с благородной внешностью, которого только что увела обольщать Александра. Самой Сашки в комнате уже не было, а он стоял напротив через стол и смотрел на Любу с той приятной учтивостью, которую она с первого взгляда отметила в нем. Говорил он с акцентом, значит, и в его иностранном происхождении она тоже не ошиблась.
– Я не мог пить водку из-за моей нездоровой почки, – снова объяснил он. – Но не хотел, чтобы все обратили на это внимание. Потому что у вас это считают ненормально, если я не пью, и все этим интересуются. Я правильно понял?
– Может быть, – пожала плечами Люба. – Но вам-то что? Пусть считают что хотят.
– Но мне просто не хотелось отвлекать на себя внимание во время свадьбы и вызывать… как это? Недоразумение?
Люба быстро лизнула свою ладонь. В самом деле вода. Надо же, какой деликатный гражданин.
– Никакого недоразумения, – успокоила его она. – И недоумения тоже никакого. Не берите в голову.
– Что это значит? – с интересом спросил он. – Не надо наливать в голову водку?
Любе стало смешно, и она улыбнулась. Очень уж он был трогательный с этим живым интересом ко всякой ерунде и с открытой доброжелательностью во взгляде.
– Это значит, что не надо обращать ни на кого внимания, – объяснила она.
– Меня зовут Бернхард Менцель, – сказал он.
Люба не поняла, что здесь имя, а что фамилия. Или, может, у него два имени? У иностранцев вроде бы принято. Но уточнять она не стала. Не все ли равно?
Поневоле пришлось представиться и самой.
– Меня – Люба Маланина, – сказала она.
– Люба – это означает любовь? – спросил он.
– Ничего это не означает, – отрезала Люба.
– А мне сказали, что есть русское имя, которое означает любовь.
– Есть такое имя, – вздохнула Люба. – Только… Ну, неважно. Любовь так любовь.
Не разъяснять же ему про Жаннетту с двумя «н» и двумя «т». Проще согласиться.
– Вы подруга жениха или невесты? – уточнил Бернхард Менцель.
Для него в отличие от Любы имели значение, похоже, все подробности без разбора.
– Жениха, – буркнула Люба.
– А я коллега господина Кузнецова. Не жениха, а его отца. Получилось какое-то недоразумение с моим отелем, и Илья пригласил меня жить сегодня у него и, может быть, завтра тоже. И поэтому я попал на свадьбу его сына.
Это было вполне в кузнецовском духе, зазвать к себе жить человека, проблемы которого лично к тебе не имеют никакого отношения, да еще зазвать в самый неподходящий момент, когда в доме и так все вверх дном.
– Я постараюсь найти для вас водку, – сказал Бернхард Менцель.
– Не надо, – вздохнула Люба.
– Но ведь вы хотели ее выпить.
– Не очень хотела. Так. Дурость накатила. Подумала, пока домой дойду, как раз опьянею и сразу засну.
– Вы живете рядом? – в очередной раз уточнил он. – И уже идете домой?
Вообще-то Люба терпеть не могла занудства, особенно в мужчинах. Но то, что звучало в голосе этого Бернхарда Менцеля, занудством почему-то не казалось, хотя вроде бы именно им и было. Наверное, все дело было в открытой доброжелательности, с которой он смотрел на нее и которую она заметила в нем сразу, как главное, что можно было в нем заметить.
– Да, – кивнула она.
– Вы разрешите мне вас проводить?
В его голосе и взгляде при этом вопросе мелькнула робость.
– Зачем? – удивилась Люба. – Я не заблужусь.
– Я слышал, в Москве опасно на улицах.
Люба невольно улыбнулась серьзности его тона.
– Во-первых, ничего особенного, – сказала она. – А во-вторых, если бы и опасно, так вы что, мастер боевых искусств?
– О нет! – Он улыбнулся. – Но все-таки мне кажется, что вдвоем пойти на улицу надежнее, чем одной. И к тому же Москва мне кажется утром очень красивая, и я хочу на нее смотреть.
– Ну пойдемте, раз так, – пожала плечами Люба. – Только Москву вы со мной не посмотрите, я в соседнем подъезде живу.
На душе у нее было так тошно, что лень было даже отбояриваться от постороннего и ненужного внимания.
– Вы точно не хотите водки? – уточнил напоследок Бернхард Менцель.
– Точно, – вздохнула Люба.
Все-таки он надоел ей своей дотошностью. Но куда теперь деваться? Пускай провожает.
Глава 8
– В этом доме есть эклектика. Я думаю, его строили не сразу до конца, а несколько раз.
– Вы архитектор? – без интереса спросила Люба.
– Я врач.
«Ну да, Федькиного отца коллега», – вспомнила она.
– Но я много занимался своим домом, – пояснил он.
– Строили?
– Это была реставрация.
«Во дворце, что ли, живет?» – подумала Люба.
Но расспрашивать не стала. Ей-то какая разница? К тому же они уже подошли к ее подъезду. Дом у них был угловой, к Царю и Кире надо было входить с Малой Бронной, а к Любе и Сашке со Спиридоньевского переулка.
– Спасибо, что проводили, – сказала она, взявшись за ручку подъездной двери. – Мне сюда.
– Вы уже пришли домой?
Он расстроился так неподдельно, что это тронуло даже Любу.
«Никто и не заметил, что я ушла, не то чтобы расстроиться, – подумала она. – А у этого, смотри ты, прямо горе».
– Ну да, – кивнула она. – Я же вам говорила, что мне в соседний подъезд.
– Я не очень верно понимаю по-русски, – вздохнул он.
– А вы сами откуда? – спросила Люба.
Не то чтобы ее равнодушие к Бернхарду Менцелю сделалось меньше, но ей почему-то стало неловко демонстрировать свое равнодушие так откровенно.
– Я живу в Германии. В Шварцавальде. Вы знаете про него?
– Откуда мне знать?
– У нас в Шварцвальде умер писатель Чехов. В городе Баденвайлер. Поэтому я думал, что вы могли слышать.
«Где я, где Чехов», – подумала Люба.
Но все же ей не хотелось, чтобы этот немец счел ее какой-то мещанкой, которой нет дела ни до чего, кроме водки и закуски.
– Я, конечно, слышала, что Чехов умер, – улыбнулась Люба.
Бернхард Менцель сразу же улыбнулся в ответ.
– У вас хороший юмор, – сказал он.
– Но про Шварцвальд ничего не знаю, – отрезала она.
– Я могу вам рассказать, – поспешно произнес Бернхард Менцель. – Мы можем выпить вместе кофе и поговорить об этом.
– Зачем? – пожала плечами Люба.
– Но разве у вас нужна причина? – удивился он. – Для того чтобы поговорить?
– У нас – это где?
– В России. У вас в России нужна особенная причина для того, чтобы люди могли посидеть за чашкой кофе?
– А в Германии не нужна?
Ей все-таки стало интересно.
– Совсем нет, – улыбнулся Бернхард Менцель. – Но мне кажется, я понял, почему вы спрашиваете. Мне рассказывал мой приятель из Восточной Германии, он ездил в Россию, когда это был Советский Союз. Он рассказывал, что люди боялись поговорить с другим человеком, если не знали его хорошо. Наверное, они боялись, что он… как это… доноситель?
– Доносчик, – поправила Люба. – Но вообще-то не обязательно поэтому.
– Тогда почему? Почему нельзя просто провести с незнакомым человеком половину часа, выпить с ним вместе кофе или пиво?
– Ну-у…
Люба вдруг поняла, что совершенно не может объяснить, почему общение с незнакомым человеком сразу делает его знакомым, а значит, обязывает к дальнейшему общению, которого, может быть, совсем и не захочется. Вдобавок мелькнула в голове глупая фразочка: «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Интересно, к чашке кофе это тоже относится? Она почувствовала себя круглой дурой.
– Пива у меня нет. – Чтобы избавиться от неприятного ощущения собственной глупости, она засмеялась. – Но кофе мы с вами вполне можем выпить.
– Вы покажете, где здесь есть кафе? – оживился он.
– Нигде здесь нет кафе, – усмехнулась Люба.
Кое-какие кафе в окрестностях уже, конечно, были – появились в перестройку. Но чтобы хоть одно из них было открыто в шесть утра, не стоило и мечтать.
– Но тогда где же… – начал Бернхард Менцель.
– Кофе будем пить у меня дома.
– О! – воскликнул он. – Это будет мне очень неловко!
– Почему? Сами же удивлялись, почему нельзя за чашкой кофе посидеть.
– Но домой… О, это слишком беспокойно для вас!
– Странные вы люди, – пожала плечами Люба. – То вроде без комплексов, то из-за ерунды церемонничаете.
– Я не хотел принуждать вас, чтобы вы приглашали меня к себе домой. – Он сокрушенно покачал головой. – Это не ерунда.
Вместо ответа Люба распахнула дверь и выжидающе взглянула на Бернхарда Менцеля. Он благодарно кивнул.
– Только лифт сломался, – предупредила она, когда вошли в подъезд. – Нам на пятый этаж.
– Это ничего. Я много хожу пешком у себя дома.
– Тоже лифт ломается?
– Нет, я хожу по прямой земле. Или по горам. Там, где стоит мой дом. И еще еду на велосипеде через лес.
Все это он рассказывал, пока поднимались по лестнице. Шаги гулко отдавались под высоким потолком.
– Да, теперь я уверен, что ваш дом строили несколько раз, – сказал Бернхард Менцель, когда дошли до пятого этажа. – Вон там, вы замечаете? Лестница на следующий этаж отличается от тех, которые мы прошли.
– Ну да, сначала этажей меньше было, – кивнула Люба, останавливаясь перед своей дверью. – Только очень давно, я не родилась еще. Этот дом в двадцать седьмом году построили. Возле подъезда табличка висит, видели? Дом сотрудников Госстраха. На крыше тогда солярий был и розарий даже.
Про солярий и розарий на мемориальной табличке написано не было, про них рассказывала Кирина бабушка, которую выгуливала на этой крыше няня, пока ее отец трудился в Госстрахе.
Тенета были, наверное, самыми старинными жильцами дома на углу Малой Бронной и Спиридоньевского. Ангелина Константиновна утверждала, что в их квартире живет домовой, который чудом уцелел с первоначальных времен. Все дети боялись домового, даже, кажется, Федор Ильич, а Люба не боялась, потому что в него не верила.
Ее мир с самого детства был внятен и, как та же Ангелина Константиновна говорила, стоял на твердых основах.
Она открыла дверь квартиры и пригласила:
– Проходите, только тихо. Вон туда, в кухню. В комнате мама спит.
– Но зачем вы, Люба!.. – шепотом воскликнул Бернхард Менцель и отшатнулся от порога. – Зачем так неудобно для вашей мамы?
– Проходите, раз зову. – Она взяла его за руку и почти втащила с лестничной площадки. – Между кухней и комнатой коридор еще, а стены у нас тут такие, что хоть песни пой.
В квартиру Бернхард Менцель вошел на цыпочках. Его виноватый вид усугублялся тем, что он со своим немаленьким ростом заполнил всю кухню, очень как раз таки маленькую.
Когда пять лет назад жильцы дружно взялись превращать коммуналки в отдельные квартиры, Любина мама в этом многосложном процессе не участвовала: не из тех она была, кто умеет чего-то для себя добиться, и даже не из тех, кто этого хотя бы хочет. Но ведь не мог же произойти такой абсурд, чтобы у всех жильцов получились отдельные квартиры, а у нее одной осталась коммунальная. Так что все образовалось и без маминого желания, просто по логике вещей. Правда, кухня в доставшейся им с Любой квартире выгородилась такая, что два человека помещались в ней с трудом, да и то если один сидел, а другой стоял. Но тут уж удивляться не приходилось: без житейского напора получить хоромы – это было бы уже за гранью всякой логики.
– Вот сюда садитесь, – распорядилась Люба, указывая на табуретку в углу у стола. – И начинайте кофе молоть.
Бернхард Менцель уселся на указанную табуретку и принял у нее из рук металлическую трубку – грузинскую кофейную мельницу, которую лет пятнадцать назад подарили маме Иваровские. У мамы с юности было низкое давление, и кофе она пила не столько по пристрастию, сколько по необходимости.
– Вы мелите, – сказала Люба, – и рассказывайте. А я воду поставлю кипятиться.
– Но что я должен рассказать?
– Ну, вы же про Шварцвальд хотели? Про него и рассказывайте. У вас там лес и горы, я так поняла?
– Да, – кивнул он. – Шварцвальд по-русски будет Черный Лес. Мой дом стоит на горе, и течет вода, и это очень красивый ручей, почти река. И есть косули. Они приходят из леса прямо к моему дому.
Бернхард Менцель крутил металлическую трубку – он сразу, без объяснений, разобрался, как с нею обходиться, – и смотрел на Любу. Кухню заполнял запах свежесмолотого кофе, и это каким-то необъяснимым образом соединялось, а вернее, совпадало с его рассказом про дом на горе и про лесных косуль, и даже шум воды, закипающей в медной турке, напоминал шум ручья.
– Но ведь вы врач. Кого же вы в лесу лечите? – спросила Люба. – Косуль?
Ей почему-то стало не по себе от идилличности происходящего – не в шварцвальдском лесу, а здесь, у нее в кухне. Неловко ей было чувствовать на себе взгляд Бернхарда Менцеля, хотя и непонятно, в чем тут неловкость.
– О, конечно, не косуль. Ведь я не ветеринарный врач, – ответил он. – Но я сорок минут еду до Фрайбурга, и там находится моя клиника. Это город, в котором есть университет, очень старый в Германии. Илья Кузнецов не один раз приезжал туда в командировку, он знает.
При упоминании этой фамилии Любе сразу же вспомнилось все, что ненадолго заслонилось в ее сознании Бернхардом Менцелем, – свадьба, поцелуй под крики «горько!», большая Федорова ладонь на Вариной нежной щеке, – и все неловкости, все неясности, которые она только что чувствовала в разговоре с этим вежливым немцем, сменились другим чувством, очень даже ясным: досадой.
Как глупо, как бессмысленно закончился большущий кусок ее жизни! И, главное, как ей жить дальше, вот же что непонятно.
«А как захочу, так и буду! – с этой сильной, ясной досадой подумала она. – Ни на кого больше оглядываться не стану. У всех своя жизнь, ну и у меня своя будет».
Только теперь она поняла: до сих пор ее жизнь так была осенена жизнями чужими, что, можно считать, полностью из них состояла. Федина покровительствующая сила, Сашкина красота и талант, Кирина ученая бестолковость, насмешливая мудрость Ангелины Константиновны Тенеты, снисходительная забота Кузнецовых и Иваровских – вот что такое была ее жизнь. И даже когда она шила, например, сногсшибательный наряд для какой-нибудь театральной знаменитости, даже тогда все это стояло за нею, и каждый стежок, который она делала, определялся теми представлениями о красоте, вкусе и правильном порядке, которые она усвоила в этом плотном облаке чужих жизней.
А теперь это должно закончиться. Теперь жизнь у нее будет своя. И хорошо, что Федор женился, – ей нужен был очень сильный удар разочарования, чтобы осознать свою ото всех отдельность.
– Что с вами, Люба? – спросил Бернхард Менцель. – У вас произошло нехорошее?
Его голос прозвучал без малейшего оттенка любопытства, но с такой тревогой и с таким искренним сочувствием, что Люба удивилась. С чего бы ему о ней тревожиться, если час назад они знать друг друга не знали? Да и сейчас не знают, собственно.
Но он говорил именно так, как говорил; в его сочувствии невозможно было ошибиться.
– Ничего у меня не произошло. – Люба сама расслышала, как предательски дрогнул ее голос, словно возражая смыслу произносимых слов. И, всхлипнув, повторила: – Н-ничего…
Но тут в носу у нее защипало, и слезы, неожиданные, в самом деле предательские слезы как по трубам поднялись откуда-то из живота, и сразу же перелились через края этих труб, и хлынули вниз, по щекам, по губам, по подбородку. Не могла она их сдержать, вот ведь странность какая! Никогда с ней такого не было.
Можно было ожидать, что при виде ее бурных и совершенно неожиданных рыданий Бернхард Менцель всполошится, растеряется, начнет бестолково метаться, хотя где тут метаться-то, кухня с пятачок…
Но ничего подобного он делать не стал.
Он поднялся с табуретки, взял за руку стоящую у плиты Любу, благо для этого ему ни шагу сделать не пришлось, и, притянув к себе, поцеловал.
Это было так неожиданно, что она даже плакать перестала.
Он был совсем отдельный от нее, он был из совершенно другого мира, и не потому что из Германии, а потому что не имел с нею ни единой точки соприкосновения – ничто их не соединяло, ничто!
Но в его поцелуе не было ничего для нее чужого и чуждого. Его поцелуй утешал, успокаивал и… И еще он нес в себе что-то почти знакомое – почти то же, что до сих пор связывалось в Любином сознании только с Федором.
Это было физическое возбуждение. Не такое, от которого у нее взрывалось все тело и темнело в глазах, – именно так это бывало, стоило ей только посмотреть на Федора. Нет, сейчас все, конечно, было не так… Но было же! Люба почувствовала, как внутри у нее разливается что-то горячее, течет по всем жилам, приливает к голове и к губам тоже приливает, и от этого поцелуй становится таким сладким, что хоть не прерывайся он никогда.
Бернхард Менцель прижал ее к себе чуть покрепче – осторожно прижал, словно спрашивая: можно ли? Да, – сказала она ответным движением, которого он не мог не почувствовать. Он и почувствовал – прижал ее к себе совсем крепко и стал покрывать короткими сильными поцелуями ее лицо и шею. Возбуждение, которое при первом его прикосновении она лишь едва почувствовала, сразу же сделалось острее, резче.