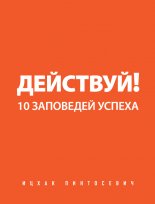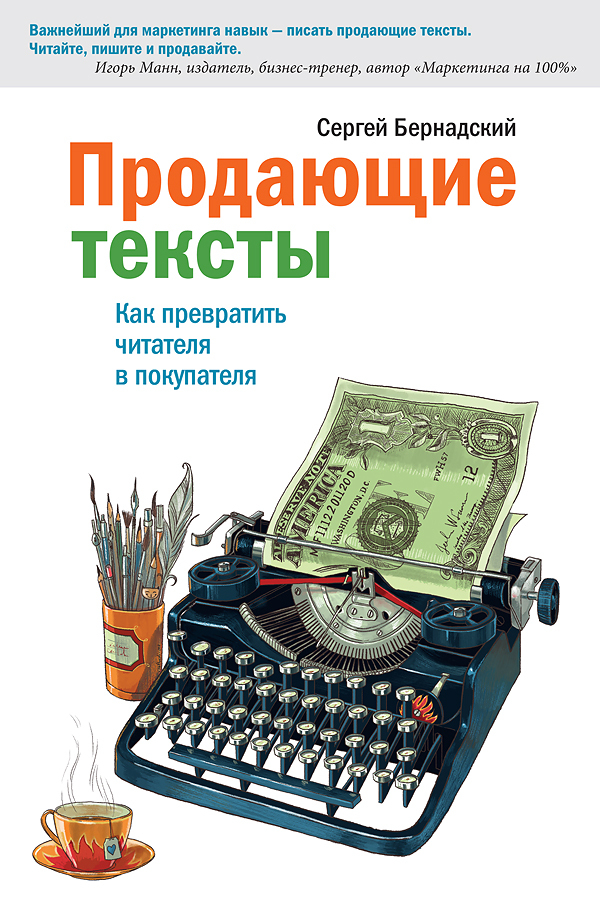Vremena goda Борисова Анна
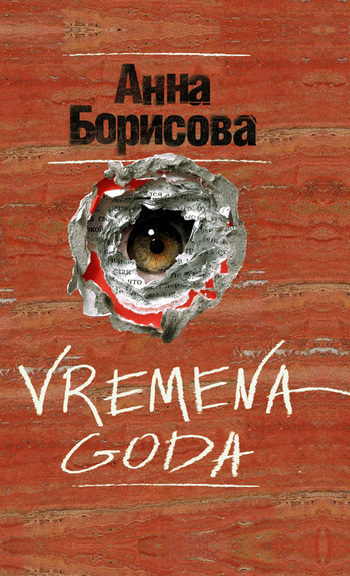
Слава никогда не здоровался, считал эти формальности сотрясением воздуха. Судя по ацтекской маске на стене, говорил он из своего кабинета. Сидел в белой рубашке с распущенным галстуком, без пиджака.
– Хорошо выглядишь. Тебе идет, когда волосы расчесываешь. Ну что «Времена года»? Устраивает как вариант?
– Там видно будет, – мрачно ответила Вера.
Неужели она распушила свою проволоку из-за разговора по скайпу? Сделала это инстинктивно, не задумываясь. Почему? Ведь Берзин ей даже не нравится!
– Лучше бы я приехала в обычный французский мезон. В типичный, а не эксклюзивный с этническим уклоном, – тем же сварливым тоном продолжила она.
– Ничего не лучше. У нас на первом этапе контингент будет примерно такой же, привыкай. Ну, может, чуть-чуть попроще. Ладно, не бери в голову. Не покатит – переправим тебя в «Лазурную деревню». Это под Ниццей такая люкс-деревня для старых буржуев… Слушай, я чего хотел сказать, у меня по телевизионным делам подвижка есть, важная. Помнишь, я тебе гнал про лицо проекта?
Да, что-то такое было. Он говорил, что у всякого общественного движения должно быть «витринное лицо», вызывающее у публики правильную реакцию, и что создать такую фигуру можно только посредством телевидения.
– Я подавал концепт-заявку. Ток-шоу для аудитории пенсионного возраста «Сердце не стареет». Не рассказывал? Забыл, наверно. Короче, они клюнули. Особенно, когда я сказал, что предлагаю ведущей Веронику Коробейщикову из движения «Счастливая старость». Уау, говорят, круто. Сейчас интернет-фигуры в моде. Особенно у кого внешние данные.
– Это еще что за новости?! – вскинулась она. – Во-первых, никогда не поверю, что ты забыл мне про такое сказать…
– Ну о’кей, не забыл. Просто не хотел зря болтать, пока не срастется.
– Во-вторых, что за пошлое название «Сердце не стареет»? В-третьих, с чего ты взял, что я буду светиться в зомбоящике?!
Берзин погрозил с монитора пальцем:
– Зомбирование – то, что нам нужно. Тебя должны узнать и полюбить пенсионеры всей страны. Привыкнуть к тебе. Мысленно увнучерить. Чтоб когда ты станешь приглашать их в наши «мезоны», старики охотно пошли. Когда на втором этапе я запущу рекламные ролики нашей банковской системы, твое лицо поможет пробить барьер недоверия. Ника, золото мое, мы затеяли большое дело. Дилетантские времена кончились. Ты веришь в наш проект?
– Ну, верю…
– Тогда работай на него, ёлки. Не тормози!
Проклятый Берзин снова был прав. Умом Вера это понимала. Конечно, телепередача, в которой можно на всю страну говорить о проблеме стариков, это здорово. Поможет и фонду, и домветам, и будущим планам. Но превратиться в телеведущую?
– Я приехала на стажировку, если ты забыл. На целый год, – сказала она упавшим голосом.
– Нормально. Эта телега быстро не едет. В следующий сезон мы все равно не попадаем, май уже. Осенью начнем предпродакшн без тебя. Может, раза три-четыре прилетишь на пробы-консультации. А как раз через год вернешься и войдешь по-плотному. Ты же умная, Ника. Сама соображай, сколько нам будет пользы. Думаешь, легко было телевизионную шоблу продавить? Ну, короче, всё. Доехала, поселилась, про тэвэ я тебе сказал.
И рассоединился. Как обычно, без «до свидания», почти на полуслове. Иногда Вере казалось, что он всякий раз торопится закончить с ней разговор. И в глаза почти никогда не смотрит, только мельком, на секунду.
Но это потому что у него обычно перед носом густо исписанный ежедневник, и Слава, даже если что-то говорит, в нем постоянно чиркает. На каждый разговор, она знала, у Берзина отведено столько-то минут. Сказал-услышал, что было нужно, и гуд-бай.
Вечером, обустроившись на новом месте и отправив первые мейлы друзьям, она решила спуститься в кафе, а потом прогуляться по парку, пофотографировать. Май месяц, до десяти светло.
Вышла в коридор, взглянула на соседнюю дверь, за которой, стало быть, лежала в коме основательница заведения.
Створка была приоткрыта. Монотонный голос, бубнил что-то по-французски. Заинтригованная, Вера подошла.
– La commission charge de la prparation du plan comprend dix membres choisis pour leurs connaissances sur cette maladie. Elle s’appuie sur le travail de huit groupes d’experts, chaque groupe ayant son thme spcifique,[7] – безо всякого выражения, без смысловых пауз говорил, а скорее всего читал вслух кто-то писклявый, не поймешь мужчина или женщина.
Статья из медицинского журнала, что-то о комиссии французского минздрава по изучению болезни Альцгеймера, вскоре поняла Вера. Зачем это? И главное, для кого? Стало любопытно. В конце концов, соседи. Будет нормально заглянуть, познакомиться.
Она постучала.
Голос продолжал читать.
Не слышит.
Постучала громче – то же самое.
Тогда Вера приоткрыла дверь.
– Можно?
Увидела большую комнату, нечто среднее между кабинетом и лабораторией. Вдоль одной стены, обшитой дубом, три письменных стола с папками, допотопным компьютером, бумагами. Вдоль другой – длинная кафельная панель с микроскопами, колбами, пробирками. Две остальные стены сплошь в книжных полках, а в зазорах между ними много обрамленных фотокарточек разного размера. Но всю эту периферию Вера особо не разглядывала, потому что посередине помещения стояла больничная кровать, а на ней, под капельницей, лежала мумия.
Горевшая на тумбочке лампа освещала иссохшее пергаментное лицо в глубоченных морщинах, с торчащим носом, с ввалившимися глазами. Рот скошен, край губы безвольно отвис. Шея перехвачена чем-то вроде пластмассового ошейника, из-под которого торчит трубка с клапаном – это чтоб больная могла дышать прямо через трахею. Неприятней всего было смотреть на синеватые вены, змеившиеся по бритому черепу.
И вообще вид палаты показался Вере зловещим – из-за полумрака, из-за помигивания датчиков, а в особенности из-за сутулой фигуры, не поднявшей головы от журнала.
Судя по форменной куртке, это был санитар или медбрат. Он сидел боком к двери и не мог не заметить, что кто-то вошел, но не повернулся и чтения не прервал.
– «…Les appareils de surveillance aussi se sont modifis…»,[8] – бубнил чтец.
Вера перешла на французский:
– Извините за вторжение. Я стажер из России, меня зовут Вероника. Буду жить по соседству…
Никакой реакции.
Человек вообще-то был странноватый. В толстых очках, с зачесанными назад жидкими волосами. Тонкой шее слишком широк воротник.
– Он не ответит, – сказал сзади мягкий голос.
Немолодая полная женщина, тоже в голубой куртке, с табличкой «МАРИНА» на груди, стояла в дверях, дружелюбно улыбалась.
– Я Марина Васильевна, старшая сестра. Я из Риги. А вы стажерка из Москвы, знаю.
Поздоровались, пожали руки.
– Он слабослышащий? – спросила Вера. Она приучила себя не употреблять слов типа «глухой», «слепой», «инвалид».
– Синдром Аспергера. Аутист. Иногда реагирует на внешние раздражители, но нечасто. Нужно дотронуться до плеча.
Марина Васильевна подошла к чтецу, ласково положила руку ему на рукав. Он медленно повернул голову.
– Эмэн, алле динэ. Вентёр трант. Мадам ва манжэ осси,[9] – отчетливо выговорила она с сильным акцентом и показала на капельницу.
У больной чуть дрогнуло восковое веко. Аутист выдернул рукав, наклонился над кроватью и вдруг положил «восковой персоне» ладонь на лицо. Сестра, как ни в чем не бывало, занялась привычным делом: проверила показатели приборов, поправила подушку и одеяло, поменяла содержимое наполнителя.
– У нас по социальной квоте в штате должно быть две персон андикапе.[10] – Рассказывая, сестра протирала ароматической салфеткой костлявые плечи больной, впалую грудь, потом лицо. Под одеялом старуха была совсем голая. – Еще есть Жиль, у него синдром Дауна. Жиль работает в саду, любит цветы, у него неплохо получается. С Эмэном труднее. Не то чтоб труднее, он тихий, проблем не создает. Он у нас очень давно, даже не знаю, сколько лет. Единственное, что ему нравится, это сидеть с утра до вечера возле мадам и читать медицинские журналы. На него хорошо действует.
– А на нее? Ничего, что он ее за лицо трогает?
– Ей все равно. – Марина Васильевна пожала плечами. – Ее давным-давно нет. Одно бедное старое тело, в котором никак не остановится сердце. Вот я у батюшки, у отца Леонида спрашивала. – Она остановилась с салфеткой в руке. – Где пребывает душа у таких, как Мадам? Разлучилась она с телом или нет? Не знаю, говорит, это одному Господу ведомо… Эмэн, лё тан, – снова показала она на часы. – Тан де динэ.[11] Он у нас пунктуальный, всё по часам. Ест точно в одно и то же время. На ужин обязательно сосиску с горошком. Сосиска должна лежать слева, горошек справа. При этом сразу, с первого взгляда видит, если горошин больше или меньше, чем вчера. Лишние откладывает, а если недостача, стучит ложкой. Алле, алле. Опоздаешь. «Эмэн» – это его инициалы, M.N. По-другому не отзывается. Да и на инициалы-то не всегда…
По-прежнему не обращая внимания на Веру, Эмэн медленно встал, спрятал журнал («Вестник нейробиологии») в карман. По идеально прямой линии, едва не задев Марину Васильевну локтем, прошествовал к двери. Походка у него была, как у Железного Дровосека.
Слушать говорливую медсестру было интересно, но всё время смотреть на мумию в кровати-саркофаге не хотелось, поэтому Вера немного прошлась по комнате.
Стол выглядел, словно ностальгическая экспозиция оргтехники из середины девяностых. 386-ой компьютер, поди еще с «Нортоном» (Вере такой купили в третьем классе), смешной игольчатый принтер, монитор с защитным экраном, громоздкий факс. Всё это по нынешним временам уже винтаж, объекты коллекционирования.
А фотографии на стенах – вообще из глубин истории. Какие-то мужчины и женщины с лицами, которых больше не бывает. Шляпки, пиджаки с квадратными плечами, кто-то картинно раскинулся в гамаке. Улица старого города, по виду русского, но почему-то с иероглифами на вывесках. Красавец-брюнет, похожий на Хью Гранта, с деревянной теннисной ракеткой, в белом костюме.
Будто окошки, через которые можно подглядеть внутрь заколоченного дома, ключ от которого навсегда потерян. Чужая жизнь, чужое время.
Одна карточка не похожа на другие. Не домашняя сцена, не портрет, а что-то политическое: по улице идет толпа с флагами и транспарантами. Это-то здесь зачем?
– Она что, какая-нибудь революционерка была? – спросила Вера и сама поняла, что сморозила глупость.
Старуха, конечно, почтенного возраста, но не до такой же степени.
– Сколько ей было… ну то есть, сколько ей лет, не знаете?
Марина Васильевна ответила:
– Знаю. Легко было запомнить, она того же года рождения, что мой дедушка. Тысяча девятьсот пятого.
Ого! Сто пять лет человек на свете живет! Ну, жила-то она, строго говоря, девяносто, дальнейшее не считается, но всё равно – живая история. Точнее, полуживая, подумала Вера и одернула себя. Это был юмор дурного тона, стыдный.
– А звали ее как? аверное, у нее было имя, отчество?
Она же русская.
Старшая медсестра немного подумала.
– Насчет отчества не знаю. Не уверена, что в карточке оно вообще указано. Может, я не обратила внимание. А имя у неё… Александра. Нет, вру, Александрина. Точно Александрина. Как в песне.
Приятным хрипловатым голосом Марина Васильевна запела, протирая неподвижное лицо живой покойницы: «Александри-ина, уже пришла зима».
Это я
Сегодня опять приснилась смерть. Она освежила мне лицо своим благоуханным дыханием, позвала по имени, сказала, что однажды наступит зима и мне можно будет уйти, потому что всё наконец исполнится. У смерти был голос Ивана Ивановича – высокий, чуть хриплый. Лицо тоже его, мягко-улыбчивое, покойное. Глаза незрячие, но при этом не слепые. Я знаю: это из-за того, что их взгляд обращен не вовне, а внутрь. У меня такой же.
Я размыкаю ресницы, утешительный сон улетает. Сейчас я перестану что-либо видеть, но, как всякий раз перед пробуждением, на миг возникает близко придвинувшаяся физиономия Мангуста. Она вся подергивается, губы кривятся, шепчут: «Помогите мне, а я помогу вам. Иначе будете мучиться долгие годы – у вас крепкое сердце и превосходные легкие… Не хотите? Ну так любуйтесь!» В зеркале появляется жуткое скособоченное лицо со стекающей по щеке слюной, бритым лбом, горящими глазами. Это последняя картина, которую я видела наяву перед тем, как ослепнуть. Она, как и гримасы Мангуста, мучает меня все эти годы.
После ритуального явления маски ужаса я, как обычно, просыпаюсь.
Не устаю поражаться, до чего же цепка память тела. Оно хочет потянуться со сна, повернуть голову, вздохнуть полной грудью – и никак не может смириться с тем, что ничего этого больше не будет. Но потом включается мозг, приказывает панике угомониться. Всё нормально, всё как всегда. И тут начинается настоящее пробуждение – не такое, как у нормальных людей.
Из обыкновенных органов чувств в моем распоряжении остались только слух с обонянием, и оба невероятно обострились. Я могу слышать, как стучит сердце у дежурной медсестры, меняющей капельницу; как потирает лапки муха; как легкий сквозняк гонит по полу пушинку. Мой нос безошибочно определяет начало и конец цветения растений за окном, время суток (оказывается, ночь и день пахнут по-разному), индивидуальный аромат каждого человека, кто входит в палату.
Я, разумеется, знала и прежде о законе физиологии, согласно которому кора мозга, в силу своей чрезвычайной пластичности, при блокаде одних сигналов восприятия со временем переориентируется на другие. Когда я лишилась зрительных, вкусовых и, частично, тактильных источников информации об окружающем мире, у меня гипертрофически развились оставшиеся органы чувств. Помню, как в университете нам демонстрировали схему мозга слепого человека, где участок слуха разросся и отчасти распространился на зоны, ранее занятые зрительной корой.
Однако меня никто не учил, что у человека в длительной псевдокоме может развиться еще один орган чувств, не имеющий научного названия, потому что о нем, вероятно, знают только больные, попавшие в мое положение, а они лишены возможности что-либо рассказать. Судя по всему, я еще и от природы обладала какими-то особенными качествами, которые в обычных обстоятельствах не получили бы развития, а тут, из-за вынужденной мобилизации всех ресурсов мозга, были вынуждены эволюционировать.
Недаром же Иван Иванович однажды, взяв меня за руку, вдруг спросил, останавливаются ли на мне часы. Удивившись, я ответила: да, останавливаются. Потому я их и не ношу: походят недельку-другую, и можно нести в ремонт. Он кивнул: «И колец золотых не носи – изогнутся или лопнут, потому что в тебе обослух сильный, и если будешь его развивать, то научишься, как я, обослышать масть всякой твари».
Когда Иван Иванович не мог найти нужное слово, чтобы объяснить какое-то явление или понятие, он с легкостью изобретал новое – по китайскому принципу словообразования, соединяющему два разных иероглифа. Так из «обоняния» и «слуха» у него сложился нелепый «обослух». Даже удивительно, что этот тончайший ум был так нечувствителен к языку. Кстати говоря, использованный им термин «масть» тоже неудачен. Масть – это оттенок окраса, регистрируемый глазами, а свойство, которое имел в виду Иван Иванович, к зрению никакого отношения не имеет. Полагаю, что у человека зрячего обослух вообще развиться не может. Это некий рудиментарный орган чувств, который у здоровых остается невостребованным или вообще отсутствует. Для развития обослуха требуется комбинация специфических обстоятельств: отключение других органов чувств, прежде всего зрения, и высокая интенсивность биоэнергетического поля, как у меня. Последнее, кстати говоря, встречается не столь уж редко.
Много лет назад, объясняя про обослух и масть, Иван Иванович что-то говорил о «нимбе», окружающем всякое живое существо и даже некоторые неживые предметы. К сожалению, я многое пропускала мимо ушей – мои ум и сердце были заняты другими заботами. Сколько раз в последующей своей жизни я сокрушалась, что невнимательно слушала этого человека! Он оставил мне много нераскрытых или недораскрытых загадок. На решение одних у меня ушли годы и десятилетия; другие так и остались неразгаданными. Многое я просто забыла.
Про обослух, например, я вспомнила на второй или третий год своего плена, когда вдруг начала ощущать людей каким-то новым органом чувств, которым не владела раньше. Сестры, врачи, санитарки, каждый на собственный лад, источали некое излучение, совершенно индивидуальное и неповторимое. Я не сразу научилась его расшифровывать, но потом оно стало сообщать мне о человеке гораздо больше, чем прежде зрение. Через несколько лет я начала чувствовать цветы, растущие в горшках на подоконнике. Эту новообретенную способность я назвала «биорецепцией», а излучение, исходящее от живых организмов, «биоэманацией». Теперь я понимаю, что имел в виду Иван Иванович, когда заявлял, будто видит лучше зрячего.
Вот интереснейшая тема, до сих пор не изученная наукой. Моей жизни на нее, увы, не хватило. Биоэманацию и биорецепцию я для себя открыла, когда поделиться этим открытием было уже невозможно.
Просыпаюсь, как обычно: вслушиваюсь, внюхиваюсь, но больше полагаюсь на биорецепцию – она у меня развита еще лучше, чем слух и обоняние. Благодаря ей, я ощущаю даже тех, кто находится за пределами моей палаты. К сожалению, у меня нет возможности установить, на какую именно дистанцию распространяется моя чуткость. Полагаю, на несколько десятков метров, и стены с межэтажными перекрытиями ей не помеха.
По привычке определяю: Мангуст на том же отдалении. Не приблизился и не исчез. Его эманация еле ощутима, но она не дает мне расслабиться. Такое ощущение, что Мангуст уже который год терпеливо сидит в засаде, выжидая удобного момента для новой атаки. Как же я была слепа, когда мои глаза еще видели! Я прозвала его Мангустом за пушистую ласковость манер и быстроту движений. Во время одной из наших последних встреч он сказал мне, уже беспомощной: «Думаете, я не знаю, как вы называете меня за спиной? Для вас я не человек – мангуст. А вы, мадам, кобра. Мангуст всегда побеждает кобру. Я победил вас!» И острые глазки сверкнули торжеством.
Итак, Мангуст по-прежнему где-то на недальней периферии.
Пятницы поблизости нет.
В палате две женщины. Одна – старшая медсестра Марина Васильевна, она ходит ко мне уже несколько месяцев. Я понятия не имею, какого цвета у нее волосы и глаза, какова форма носа, но зато знаю многое, чего не заметит самый проницательный наблюдатель. Эта женщину снедает внутреннее нетерпение, ей хочется поскорее отсюда уехать – дома, в Риге, ее очень ждут; недавно она вступила в начальный период менопаузы и мучается приливами; она добрая и дисциплинированная; у нее в правом боку источник опасной болезни, которая пока еще не дала себя знать. Если б могла, я бы сказала ей: нужно срочно сделать эхографию и анализы. Но я ничем не помогу этой славной женщине с мягкими руками, заботливость которых ощущает даже моя полумертвая кожа. Я просила Пятницу предупредить ее, но он мою просьбу проигнорировал, а если б и передал, Марина Васильевна вряд ли бы поверила.
Вторая женщина совсем молодая, еще девочка, ей не больше двадцати пяти. Она здесь впервые. Голос веселый, мелодичный. Удивительно в таком возрасте – нет запаха духов, только мыло, шампунь, зубная паста. Еще бензин, дорожная пыль. Недавно девочка сидела или лежала на траве. Излучение в целом чистое, свежее, очень приятное. Хотя… Что за странная, смутно знакомая волна? Я не могу точно сформулировать это ощущение, но у меня с девочкой (она представилась медсестре Вероникой) есть что-то общее. Несомненно есть.
Мои биорецепторы, отточенные многолетней практикой, довольно часто улавливают нечто совсем уж глубинное, не сразу понятное мне самой. Я – обтянутый ветхой кожей локатор, который всасывает из окружающего мира информацию, требующую обработки.
Возможно, девочка Вероника – моя дальняя родственница, и я реагирую на сходный набор генов. Это меня не удивило бы.
Когда-то давно я прочитала статью, объясняющую пресловутое чувство Родины сугубо физиологическими причинами. Человек, чья семья давно проживает в некоей местности, со всех сторон окружен родственниками, имеющими похожий набор генов и это якобы создает комфортный энергетический фон. При этом, начиная с четвертой или даже третьей степени родства, мы обычно утрачиваем семейные связи и не догадываемся, как много вокруг людей, имеющих одинакового с нами предка. Если я правильно запомнила цифры, 20 % представителей одной национальности родственны друг другу в шестой степени, 40 % – в восьмой степени, и чуть ли не 90 % – в двенадцатой. Очень возможно, что у меня с новенькой русской какая-нибудь общая прапрабабушка. Если так, это не имеет значения.
В моем мире только две фигуры имеют значение: Мангуст и Пятница. Но первый всё ведет свою затяжную осаду, а второго поблизости нет.
Я перестаю обращать внимание на женщин, я терпеливо жду, когда появится Пятница.
Пока он ко мне не прибился, я, жертва кораблекрушения, существовала на своем острове в полном одиночестве. Совсем как Робинзон Крузо, только без собаки, кошки и попугая, который кричал бы «бедный Робин!». Человечество на моем острове было представлено только каннибальским присутствием затаившегося Мангуста. Потом мы с Пятницей нашли друг друга, и сиротство кончилось. Я перестала разговаривать исключительно сама с собой.
Мой спутник – такой же дикарь, как персонаж романа Дефо, даже еще больший. Мы долго учились объясняться между собой и достигли лишь частичного взаимопонимания. Прозвище «Пятница» ему не очень-то подходит. Аутисты не дикари, скорей они похожи на инопланетян. Они общаются с внешним миром по каким-то другим каналам. Не понимают то, что очевидно всем, зато знают вещи, которых никто не видит. Мой Пятница, в отличие от дипломированных медиков, каким-то образом сразу догадался, что я – не «овощ».
Это было двенадцать лет назад. Дежурная медсестра заговорила с кем-то, кто вошел в палату. Сначала я решила, что с ребенком. Потом поняла: нет, это человек с тяжелой умственной отсталостью, к тому же немой. На вопросы сестры он не отвечал, на обращение не отозвался. Мои биорецепторные способности в ту пору были еще слабо развиты, иначе я уловила бы особенность его излучения, которое не спутаешь с эманацией обычного человека. Когда сестру куда-то вызвали, предполагаемый немой сел рядом с кроватью, положил ладонь мне на глаза. Мышцы век – единственная часть моего тела, над которой я сохранила контроль. В состоянии, подобном моему моторные функции век и зрение обычно сохраняются. Но видеть к тому времени я уже перестала, от попыток привлечь внимание окружающих движением век давным-давно отказалась. Сама не знаю, почему я отреагировала трепетом ресниц на неожиданное прикосновение – должно быть, рефлекторно. И вдруг слышу: «Рыбка, поговори с Эмэном. Чего хочет рыбка?».
Много позднее, из разговора медсестер, я узнала, что на первом этаже, в холле, стоит большой аквариум (при мне его не было) и Пятница часами глазеет на рыбок. Очевидно шевеление моих ресниц напомнило ему движение рыбьих плавников.
Прошло очень много времени, прежде чем мы с ним разработали язык ресниц. Сначала это были совсем простые вещи. Три быстрых движения левым веком означали «мне холодно». Правое, левое, снова правое – «муха» (кожа на моем скальпе не утратила чувствительности, и одно из постоянных мучений – ползающая по голове муха). Еще несколько таких же элементарных просьб. Использовать слоговую азбуку додумался Пятница. Монотонно, еле слышно он гундосит разные слоги: ка, мо, ре, на, ди… – и я моргаю, когда он доходит до нужного. Такой разговор занимает очень много времени, но мы с Пятницей могли бы стать чемпионами мира на соревнованиях по терпеливости. Нам обоим торопиться некуда. К тому же у него какое-то особенное чутье, или же мы успели сродниться: очень часто он с первого же слога угадывает всё слово и тогда бормочет его, а я подтверждаю правильность медленным движением век.
Аутизм – вот еще одна тайна природы, еще одна захватывающе интересная тема исследования, на которое мне не хватило времени. Целых полвека потратила я на одну-единственную из всех бесчисленных загадок человеческого устройства, и ту не раскрыла до самого конца. Так долго прожила и так мало успела…
Без моего собеседника я давно лишилась бы рассудка – как Робинзон свихнулся бы без Пятницы. Первые три года изоляции, до его появления, были невыносимо тяжелы. Сны начинали путаться с явью и постепенно вытеснять ее. Думаю, еще полгода-год, и мой мозг утратил бы способность к рациональному мышлению. Но когда ладонь другого человека легла на мое лицо, всё переменилось. Крышка наглухо заколоченного гроба приподнялась. Дохнуло воздухом, забрезжил свет – свет надежды. Пусть не на исцеление, но на освобождение.
Исцеление при моем диагнозе невозможно, это я как специалист хорошо знаю. Со мной случилось самое страшное, что только может произойти с человеком. В детстве я с ужасом читала про старика Нуартье, вынужденного общаться с людьми посредством моргания, и не ведала, что Нуартье – счастливец. Люди знали, что он в сознании. Когда по реакциям больного понятно, что он реагирует на окружающее, это еще не самая тяжелая форма церебромедуллоспинальной дисконнекции, то есть паралича всего тела. При полной коме человек впадает в вегетативное состояние и сознание у него отключается, но если не работают только ствол и нижняя часть мозга, а верхняя часть продолжает функционировать, больной утрачивает способность двигаться, сохраняя при этом мыслительную и эмоциональную функции. Это состояние в российской медицине называется «псевдокома», в мире чаще употребляется английский термин – «locked-in syn-drome[12]», но выразительней всего французское наименование: «maladie de l’emmur vivant[13]».
Когда я вышла из бессознательного состояния и попыталась произвести самодиагноз, то первоначально пришла к выводу, что удар случился вследствие естественной закупорки базилярной артерии – у меня там небольшая врожденная аневризма, которая не вызывала особенных опасений. Один шанс из миллиона, что при моем превосходном кровяном давлении она могла разорваться или что в этом месте образовался бы спонтанный тромб. Последнее, по всем симптомам, и произошло. Причиной локд-ин-синдрома чаще всего становится именно тромбоз базиллярной артерии. Живую часть мозга, где сосредоточенны мысли и чувства, то есть собственно человеческая личность, замуровывает омертвевшая, лишенная кровоснабжения ткань.
Насколько я помню, девяносто процентов «заживо погребенных» умирают в течение первых 4 месяцев. Восемьдесят процентов остальных – в течение года-полутора. Но те, у кого здоровое сердце и сильные легкие, могут протянуть при хорошем уходе очень долго. Мои пятнадцать лет – не рекорд. Еще одно важное условие живучести: ни в коем случае нельзя себя жалеть, иначе быстро произойдет разрушение личности. Однако искусству относиться к своим бедам без сантиментов жизнь научила меня давно.
Я никогда специально не заниалась проблемами церебромедуллоспинальной дисконнекции, и теперь я знаю про локд-ин гораздо больше, чем в начале… чуть было не сказала «моего крестного пути», но нет, нет, никакой жалости – чем в начале моей болезни. Дело в том, что Пятница читает мне от корки до корки все журналы по нейробиологии, нейрофизиологии, нейрохирургии. Вряд ли он делает это потому, что я его когда-то попросила (ах, если бы он выполнял все мои просьбы!). Чтение медицинских статей отчего-то доставляет ему удовольствие.
Случись со мной эта беда парой лет позже, у меня было бы больше шансов достучаться до людей из своей гробницы. В 1997 году редактор журнала «Elle» Жан-Доминик Боби, находясь примерно в таком же состоянии, сумел миганием век надиктовать книгу, в которой рассказал об ощущениях жертвы «локд-ина». Книга вызвала в обществе интерес к теме, о которой раньше не знал никто кроме узкопрофильных специалистов – ведь случаи псевдокомы случаются очень редко. Начали проверять коматозников, и оказалось, что некоторые из них находятся в сознании, просто полностью лишены всяких коммуникативных возможностей. Кто-то просуществовал на положении овоща семь лет, кто-то четырнадцать. В одной Франции сегодня выявлены четыре сотни пациентов с «локд-ином». С ними налажен контакт, они общаются с друзьями и родственниками – то есть пользуются всеми привилегиями господина Нуартье. Недавно Пятница читал мне статью про чудесный аппарат NeuroSwitch, который позволяет движение века транскрибировать в текст на мониторе компьютера. О Боже, если б у меня появилась такая возможность… Нет, мне не нужно выздоровления. Я не хочу вернуться к жизни. Я хочу умереть, зная, что выполнила то, ради чего жила на свете. Вся моя надежда на освобождение связана с Пятницей. Бессчетное количество раз просила я его о помощи, но для Пятницы мои просьбы лишены смысла. Его занимает феномен рыбки, говорящей с ним движением «плавников». Пятнице нравится сам процесс – переводить трепет ресниц в слова, а значение этих слов его не интересует. Много лет я умоляла его: «Скажи им, я живая». «NeuroSwitch, NeuroSwitch, – твержу я ему все последние месяцы, – хочу, хочу». Монотонно повторяет он за мной короткие фразы, довольно улыбается: рыбка опять что-то сказала, занятно. И опять читает вслух либо просто сидит, слегка раскачиваясь. Я никогда не знаю, какую из моих просьб он выполнит. Самое простое – согнать муху или вытереть стекающую слюну, поправить подушку – он иногда делает, иногда нет. Однако ни за что не позовет сестру или врача, эти просьбы я давно оставила. Зато достаточно мне наморгать ему слог «чи», то есть «читать», и Пятница тут же берет с тумбочки какой-нибудь «Вестник нейрогенетики» и продолжает с того места, где остановился в прошлый раз. Возможно, его завораживает звучание непонятных слов, мудреных медицинских терминов. Английский или немецкий текст он читает по правилам французского произношения, но я давно к этому привыкла и понимаю почти каждое слово.
Пятница – мой абсолютно симметричный антипод. Я замурована от окружающих, а он, наоборот, поместил весь мир за сплошную стеклянную стену и бесстрастно наблюдает за ним, будто пришелец, глядящий из иллюминатора летающей тарелки.
Нет, не совсем точная метафора. Для Пятницы люди – рыбки за стеклом аквариума, бессмысленно шевелящие губами, плавниками и хвостами. Одна из рыбок чем-то привлекла внимание созерцателя. Я его любимица. Поэтому он сыплет мне крошки, осторожно трогает пальцем за плавник, забавляется моими капризами. Я очень боюсь, что однажды его любопытство иссякнет и он исчезнет. Из курса психиатрии я помню, что аутистам никогда не надоедают действия и привычки, вошедшие в ритуал, но мало ли что. Вдруг мой единственный друг найдет себе рыбку позанятней, или его вдруг переведут из «Времен года» в какое-нибудь другое заведение. Это будет самый ужасный из всех ударов, какие еще может обрушить на меня судьба. Все равно что отобрать у нищего последний грош.
Итак, моя единственная надежда на избавление – нездешнее существо, которому никто не нужен и которое вряд ли вообще понимает смысл слова «надежда».
Ловкие, сильные руки медсестры двигают меня, поворачивают. Какие-то прикосновения я чувствую, какие-то нет. Антипролежневый массаж воспринимается как очень легкое, едва заметное пощипывание. Спина совсем утратила тактильную способность; в коже ног кое-что сохранилось.
– Приятного аппетита, мадам, – говорит Марина Васильевна перед тем, как запустить капельницу.
По вене струится щекочущий ток питательного раствора. Я жду, пока щекотка закончится, чтобы сделать цикл упражнений по гемоциркуляции в тех отсеках кровеносной системы, которые остались мне подконтрольны. Это занятие требует полной концентрации воли. К разговору я не прислушиваюсь. Обрывки фраз и отдельные слова пробиваются ко мне из мрака сами.
У моей предположительной родственницы милый тембр голоса, протяжная московская речь, которой я давно, очень давно не слышала.
Где-то далеко по-прежнему существует Москва, и там по-прежнему живут люди, которые уютно акают и проглатывают гласные.
– Дьманстра-ация какая-то, – говорит девочка, очевидно разглядывая фотографию шествия в поддержку Учредительного Собрания. – Всё-тки непаня-атно. Зачем тут эта фтагра-афия? На Питер пахоже… Ну-ка, что на транспара-анте написано? «Добро пожаловать, народные избранники!». Зима-а, сне-ег, ша-апки, платки. Нет, правда, зачем Мадам тут это павесила?
Затем, моя «масковская девачка», что где-то на этой «фтаграфии», среди шапок и платков, иду я. Все, кто меня там окружает, умерли. Из тысяч людей, вышедших на улицу поддержать всенародно избранный парламент, который в тот же день будет разогнан большевиками, на свете осталась я одна.
Вдруг включается кинокамера эйдетической памяти. Сама собой, сразу, во всей полноте цвета, звука и того, что не в состоянии передать никакое кино – сочетания запахов, тепла и холода, сиюмоментной остроты чувств.
Я давно привыкла к возникновению картинок из прошлого – как вызванных усилием воли, так и спонтанных. Воспоминания наполняют мои дни смыслом, нервом, эмоциями. Без этого инструмента многолетнее существование в темной и тесной гробнице беспомощной плоти было бы невыносимым, невозможным.
Наряду с гиперосмией, то есть усилением обоняния, и гиперакузией (усилением слуха), а также развившейся биорецепционной способностью, я получила от жизни еще одну компенсацию за неподвижность – быть может, самую драгоценную: гипермнезию.
Я очень хорошо разбираюсь в фокусах памяти. Эта тема входила в предмет моих исследований. Поэтому механизм феноменального обострения и принципиального реструктурирования памяти в мозге, утратившем ряд своих обычных функций, мне известен.
Человеческая память иконична, то есть вся состоит из отдельных «иконок» – как меню компьютера. Это хранилище можно также сравнить с огромным архивом, стеллажи которого забиты массой нужных и ненужных документов. В нормально функционирующем мозге «документы», не востребованные в сегодняшней жизни человека, пылятся забытыми, но всё равно хранятся. Всё, что мы когда-то видели, слышали, осязали, обоняли, пробовали на язык, не исчезает.
Иногда доступ к давно не востребованному «документу» внезапно восстанавливается во время стрессовой ситуации. Например, после травмы головы человек вдруг может с невероятной точностью вспомнить какую-то сцену или деталь из далекого прошлого: ярко, зримо, подробно. Это включается эйдетическая, чувственная память, которой все мы обладаем в младенческом возрасте. Потом она постепенно вытесняется памятью вербально-логической.
Нарушение нормального кровоснабжения заставило мой мозг расчистить иные, давно заросшие тропы, сняло блокировку с ископаемых слоев памяти, что находятся в глубинных подземельях подкорки, гораздо ниже уровня сознания. Не сразу, постепенно, мне открылся доступ в глухие комнаты, галереи и закутки огромного здания всей моей длинной жизни.
Воспоминания в моем случае – слово чересчур приблизительное и бледное, чтобы передать эффект повторного переживания событий, когда-то уже случившихся. Я одновременно нахожусь здесь, в палате, и там, в прошлом. Всё, что я видела и ощущала в тот момент, вплоть до сердечного трепета, мимолетных запахов, скользящих теней или приглушенных звуков, воскрешает во мне.
Больше всего мое нынешнее существование напоминает жизнь в библиотечном зале. Я снимаю с полок книгу за книгой. Все их я когда-то уже читала, сюжеты мне известны, но детали подзабылись. Иногда книга сама падает с полки, я подбираю ее, вглядываюсь в случайно раскрывшуюся страницу – и уже не могу оторваться.
Мысли при этом во мне могут возникать теперешние (ведь я знаю, что случилось дальше), но эмоции – те, давние, испытанные в миг первого прочтения. Что-либо изменить в судьбе главной героини и других персонажей я не властна. Это действительно похоже на перечитывание старого романа. Представьте, что вы заглянули в «Войну и мир», читаете про Бородинский бой, знаете, что на следующей странице осколок бомбы раздробит Болконскому бедро, всё внутри вас сжимается от ужаса, но спасти князя Андрея вы не можете, разве что захлопнуть книгу и не читать. Или вы перечитываете сцену, в которой Анна Каренина дольше нужного заглядится на чугунные колеса паровоза – и бессильны ее предостеречь. Точно так же, в черный день своей жизни, я всё бегу за угол, на лязг трамвая, и ни за что не остановлюсь, даже не оглянусь назад. Что случилось, то случилось, изменить ничего нельзя.
Московская девочка заговорила про зиму, шапки и платки. С полки упала книга, распахнулись пожелтевшие страницы. Я заглядываю в них – и замираю. Но вижу я не январское шествие, которое через несколько минут будет расстреляно из винтовок и пулеметов. Я стою на Знаменской площади, перед Московским вокзалом. Я запыхалась, жадно глотаю воздух. Он пахнет тающим снегом, холодным солнцем, сырым ветром, навозом, бензином – петроградской весной.
Сашенька. Вокзал
Я приподнимаюсь на цыпочки, мне не хватает роста. Нужно не потерять в толпе Давида.
Толпа серая, нечистая, крикливая. Мешочники, расхристанные солдаты, визгливые бабы, очень много крестьян – раньше их в столице было почти не видно. За последний год Питер будто укатился из Европы в Азию, из двадцатого века в допетровские времена. Всё перепуталось, всё перевернулось. Город стал шумным, грязным, каким-то бесстыжим. Будто спившийся и опустившийся персонаж Достоевского, он упивается глубиной своего падения, старается казаться еще гаже, чем есть. Витрины, даже те что целы, закрыты мерзкими досками и рогожами. Тротуары замусорены. Приличная публика нарочно рядится в рванье. Все объясняются исключительно криком и бранью.
Пока я топчусь на месте, тяну шею, меня несколько раз пихают и матерят, но я этого почти не замечаю.
– Семь рублей от Знаменской площади до Большого проспекта?! – возмущается приезжая дама, неубедительно замотанная в бабий платок. – Это всегда стоило полтинник! Побойтесь Бога, любезный!
– Бога нынче нету, – отвечает ей с козел извозчик. – А «любезные» в Чрезвычайке сидят. Хошь – ехай, не хошь – катись на…
Дама ахает:
– Господи, что за времена! Ее хватают за рукав:
– Кому тут времена не нравятся?
(Это конец марта восемнадцатого года. Я нынешняя отлично знаю, что по-настоящему страшные времена впереди: Чрезвычайка еще не обзавелась расстрельными подвалами, семь рублей – все равно деньги, и даже извозчики пока не исчезли. Но мне тринадцатилетней кажется, что настал конец света, уже протрубил последний ангел и сейчас, через несколько минут, на землю опустится вечная тьма. Россия умерла, город умер, а как только уедет Давид, я тоже умру.)
Пока отец с ним рядом, я даже не решаюсь подойти, проститься. Самое большее, на что я осмеливаюсь: подобраться шагов на десять, спрятавшись за тумбой, обклеенной декретами и воззваниями.
Слышу, как отец говорит:
– Пойду, выясню, на каком пути литерный. А ты следи за тачкой. Глаз не спускай!
– Кому тут нужна твоя целлюлоза, – усмехается Давид.
Он прав. Я следила за ними от самого дома. Видела, как на углу Невского их остановил патруль. Матрос в офицерской бекеше порылся в тачке, не заинтересовался: не золото, не соль, не сало – старые книги с непонятными письменами.
И вот отец уходит, Давид остается один. Чудо, настоящее чудо!
Я тут же подхожу к нему. Нельзя терять времени. Сколько его у меня – три минуты, пять?
– Это я, – говорю я.
И улыбаюсь. Гибнет мир, я умираю, но мне почему-то нужно, чтобы Давид об этом не догадался.
Он выше меня на полголовы. Глаза у него сине-зеленого цвета. Каждый раз, когда я их вижу, удивляюсь – всё не привыкну, что у человека могут быть такие глаза.
Давид удивлен, но не особенно.
– Привет. Питер я запомню, как маленький город, где мне постоянно встречалась Сашенька Казначеева. Ты что тут делаешь?
– Пришла с тобой попрощаться, – говорю я.
Раньше в таких случаях я изображала удивление: надо же, какая встреча. Но мне не хочется оскорблять трагическую минуту ложью.
Я отлично вижу, что мое появление для Давида – событие не шибко важное. Он возбужден предстоящей дорогой. Я смотрю на него не отрываясь, а он то и дело вертит головой – не возвращается ли отец.
– Вроде попрощались уже. Вчера еще.
Это правда. Он заходил ко мне домой, сказал, что всё наконец решилось, пан Дудка сдержал слово, добыл пропуск, и завтра они с «папочкой» уезжают в Москву, а оттуда в Пензу, где чехословацкий штаб. От этого известия я так одеревенела, что не могла произнести ни слова. Помню только, что вяло ответила на рукопожатие, и он ушел.
– Вчера я забыла тебе кое-что дать. На память.
Я достаю из-под пальто конверт. Он теплый, потому что лежал около сердца.
– Ух ты! – Давид разглядывает снимок. – Демонстрация пятого января. Где взяла? За такую картинку нынче и посадить могут.
– Нашла у одного фотографа. Он хотел сжечь, а я выкупила. Это тебе на память – о Петрограде, о том дне… ну и вообще.
Я не решаюсь сказать «обо мне». Фотограф очень боялся, но я упросила его сделать два отпечатка. Подумала, что, если подарю Давиду какую-нибудь из моих карточек, он, пожалуй, потеряет или выкинет, а эту будет хранить.
Где-то там, среди моря голов, мы с Давидом. Другого снимка, на котором мы вместе, у меня нет и теперь уже не будет.
– Ах да, – вспоминает он. – Мы же в тот день познакомились. Вроде недавно было, а будто в другую эпоху. Демонстрация в поддержку Учредиловки. – Давид, словно не веря, качает головой. – Сколько ж это времени прошло?
Фотографию он небрежно сует в карман своего потрепанного, но все еще элегантного пальто, и я вдруг ясно понимаю: это для него никакая не ценность, потеряет.
– Семьдесят семь дней, – отвечаю я.
(Дурочка себя выдала с головой, она лелеяла в памяти (именно так это и называла: «лелеяла») каждый из них, начиная с самого первого. Но мальчику так мало до дурочки дела, что он ее оплошности и не заметил.)
Пятого января 1918 года мы договорились участвовать в уличном шествии всей нашей фракцией, Лена Гржебина даже обещала приготовить транспарант «Александровская гимназия за демократическую отчизну!», но в результате к Марсову полю, где собирались сторонники Учредительного Собрания, из класса пришла я одна. Других девочек не пустили родители, а я своих и слушать не стала бы.
Я знала про себя, что я девочка с характером, и гордилась этим. Он сформировался у меня не так давно. Всего год назад, даже меньше, я была обычная гимназисточка, папина-мамина дочка. Переписывала в альбом стихи Бальмонта и Мирры Лохвицкой, всхлипывала над книжками Чарской и была влюблена в киноактера Осипа Рунича. Я трепетала, когда папа хмурил брови над моим кондуитом, прятала от мамы роман Анны Мар «Женщина на кресте», боялась заглядывать в комнату к бабушке. Во-первых, там ужасно пахло, а во-вторых, однажды бабушка вцепилась худой, с лиловыми венами рукой мне в волосы и обозвала «мерзкой интриганкой». Приняла за кого-то из своего прошлого. Бабушка выжила из ума, никого не узнавала.
Теперешняя девочка с характером сказала бы: «Отстань, старая ведьма!» Но год назад такие слова я могла бы произнести только мысленно.
В считанные месяцы изменилось всё: окружающая жизнь, я, домашние.
Я появилась на свет поздно, первым и единственным ребенком, когда родители больше не надеялись. К моим тринадцати мама была уже наполовину седая, папа – вообще старик, за шестьдесят, про бабушку и говорить нечего, она родилась еще при Пушкине. Бабушке, можно сказать, повезло. Она впала в детство, удалилась в далекую-предалекую эпоху, и ей там было хорошо, гораздо лучше, чем нам.
Знаете, что такое революция? Это когда сначала все бегают с горящими глазами, надевают красные банты и шумно радуются. Потом мир начинает разваливаться, всё быстрей, всё необратимей, и каждый новый день хуже предыдущего. Перестают мести дворы и улицы. Товары сначала дорожают, затем исчезают. Ночью на улицах крики «Караул! Грабят!», но никто не свистит в свисток. Во время осенней стрельбы прямо перед нашим подъездом лежал мертвый человек, и целый день его не подбирали – боялись выйти.
С началом зимы стало совсем странно. Газеты с пустыми страницами, мертвые фонари, с улиц куда-то исчезла приличная публика, сплошь серые папахи да черные кепки, и ходят почему-то не по тротуарам, а по проезжей части. Дома невообразимые разговоры, шепотом: «Надо потерпеть, скоро придут немцы, и всё устроится».
До неузнаваемости переменился папа. Раньше он был важный человек, заведующий кредитно-ссудным столом в банке, а теперь ни кредитов, ни ссуд, да и банков, говорят, скоро не будет. Мама все время плакала и не хотела выходить из дома.
Я их обоих презирала за трусость и пораженчество, а летом одно время даже ненавидела, потому что хотела записаться в женский батальон смерти, наврала на призывном пункте, что мне семнадцать, и меня уже почти взяли, я была высокой для своего возраста, но прибежали родители, показали документы, и я была с позором изгнана.
Когда начались выборы в Учредительное Собрание, весь наш класс поделился на фракции. Я была за эсеров – за правых, не за левых же! Какое началось у нас ликование, когда выяснилось, что больше всего голосов собрали наши. Первый настоящий русский парламент был наш!
Утром пятого января я произнесла перед папой и мамой горячую речь, корила их за упование на немцев. Учредительное Собрание, избранное волей народа, наведет в стране порядок, а если понадобится, призовет на помощь союзников. Нужно только быть гражданами, а не быдлом – продемонстрировать предателям революции большевикам, что нас много, что это наш город и наша страна!
– Ты никуда не пойдешь, – жалким голосом сказал папа. – Я тебе запрещаю! Ты еще ребенок! Они будут стрелять!
Презрительно расхохотавшись, я продекламировала из Максима Горького, который тоже был на нашей стороне: – «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах!»
Шмыгнула на улицу через черную лестницу, только меня и видели.
Колонны шли к Марсовому полю с девяти назначенных пунктов сбора. Уже очень давно не видела я такого количества нормальных людей с нормальными лицами, в нормальной одежде. Кроме интеллигентов пришли студенты, гимназисты старших классов, рабочие – настоящие, петроградские, а не собранные по деревням неумехи да пьяницы. Женщин собралось не меньше, чем мужчин. Я сновала туда и сюда, мне хотелось всё увидеть, всюду успеть. «Вот как нас много, – радостно думала я, – это вам не провинция, это град Петров, столица! Нас больше, чем большевиков! Недаром они получили только четверть мандатов! Это наша страна! Мы цивилизованные и умные, мы за свободу и человеческое достоинство!»
В толпе говорили, что в Таврическом дворце уже собираются депутаты, что многие не смогли добраться до Петрограда, потому что на транспорте творится безобразие.
Были и такие, кто беспокоился, не устроят ли большевики какую-нибудь провокацию – даром что ли они объявили в городе осадное положение. Кто-то рассказывал, что Шпалерную перекрыли вооруженные матросы с крейсера «Аврора» и линкора «Республика», бывшего «Павел Первый». Но когда один господин в бобриковом пирожке и пенсне опасливо сказал: «Не открыли бы эти разбойники стрельбу», на него со всех сторон накинулись: «Не сейте панику!» «Расстрел абсолютно невозможен! Абсурд!» «Какими бы мерзавцами большевики ни были, новое «кровавое воскресенье» они устроить не посмеют!» Бобриковый пирожок согласился: «Да, пожалуй, на такое не решится даже Ленин».
Голова многотысячного потока, кое-как построившись в шеренги, с пением «Марсельезы» двинулась через Фонтанку в сторону Литейного. На мосту, изящно облокотившись о перила, стоял юноша в распахнутой гимназической шинели и, насмешливо улыбаясь, смотрел на проходивших мимо поборников демократии. Я обратила на него внимание, потому что, несмотря на снегопад, он один был без шапки, снежинки поблескивали на черных волосах, словно блестки. Длинный конец белого шарфа был перекинут за спину и тоже переливался серебром. В углу красногубого рта дымилась папироса в черном с золотом мундштуке – немыслимая в прежние времена вольность для гимназиста.
Мальчик был так красив, что я поперхнулась припевом «Вставай, подымайся, рабочий народ!», споткнулась и потеряла место в шеренге. Поток выбросил меня на тротуар прямо к чудесному красавцу.
Небывалого цвета глаза, синие с зеленым отсветом, остановились на мне, оглядели с головы до ног.
– О, Александриночка! – сказал ослепительный брюнет, и я окончательно вообразила, что это наваждение. Откуда он мог знать мое имя?
Но юноша тряхнул волосами, которые с великолепной небрежностью свешивались на чистый лоб, и прибавил:
– А я александровец – тезка и сосед.
Только теперь я поняла, что моего имени он не знает, а просто увидел вензель на шевроне. Учениц нашей Александровской гимназии называли «александринками». «Александровцами» были учащиеся Второй мужской гимназии, прежней императора Александра Первого. Она находилась на Казанской улице, неподалеку от нашей Гороховой.
– Свободу защищаешь? – подмигнул александровец, но не нахально, а так весело и просто, что «тыканье» меня не покоробило. Как еще обращаться друг к другу посреди демонстрации, где все единомышленники и товарищи? То есть, не товарищи, конечно, (это прекрасное слово опорочено и опоганено негодяями большевиками) – но соратники по борьбе.
Мне еще предстояло узнать, что главным даром Давида была не красота, а удивительная естественность во всём. Никогда и ни с кем мне не будет так просто и легко, даже с лучшими подругами. Сама ведь я по складу характера – девочка, очень далекая от естественности. Всё время что-то собою изображаю, хочу произвести впечатление, живу так, словно норовлю каждую минуту подглядеть в зеркало – ну-ка, хорошо ли я смотрюсь? А рядом с Давидом я будто попадаю туда, где мне предписано быть природой, и ничего больше не нужно, только жмуриться и урчать, как кошке на солнечном подоконнике.
Мы познакомились, и само его имя показалось мне невероятно красивым, экзотичным, библейским. У нас в гимназии был учитель рисования, Давыд Петрович. В его имени мне всегда слышалось что-то грубое и вульгарное. Как многое меняет всего одна буква, думала я пораженно.
– Ты в каком классе? – спросил Давид.
– В четвертом, – сказала я и тут же пожалела, что не соврала, потому что он оказался шестиклассником.
– Мне через неделю пятнадцать, – гордо обронил он. Даже в этой цифре мне привиделось нечто особенное.
Дик Сэнд, пятнадцатилетний капитан, пронеслось в голове.
– Ладно, пойдем за стадом баранов. Поглядим, чем кончится, – предложил новый знакомый.
– Пойдем!
Мы повернули на Литейный. «Марсельеза» кончилась. Проходы во все улицы и переулки по правой стороне проспекта были перекрыты хмурыми матросами и красногвардейцами с винтовками в руках.
– Жан-дар-мы! Жан-дар-мы! – принялась скандировать толпа.
– Как они блеют, – поморщился Давид. – Даже заорать как следует не могут. Овцы! Сейчас матросня начнет их пинками и прикладами разгонять, а они будут только: «Бе-е, бе-е, по какому пра-аву, бе-езобра-азие!».
Я засмеялась. Заблеял он очень похоже.