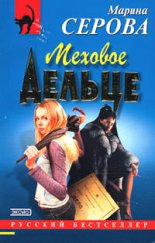Орнамент на моей ладони Дибирова Полина

Прощаясь со мной, мать положила свою ладонь мне на грудь, там, где под рубахой билось моё сердце, и сказала следующие слова:
– Сколько бы людей ни было на поле боя, умрёт лишь тот, кому суждено умереть. Смотри, не будь трусом, сынок.
Эти слова разломили пополам мое сердце. В этот момент мне стало так страшно, как не было страшно потом в бою и перед лицом любой опасности. Я не ожидал, что мать скажет мне так.
Глубокой ночью меня, валяющегося под церковной стеной, разбудил дождь. Это был уже настоящий, набравший полную силу ливень.
Вся земля была мокрой. Рядом со мной примостился ещё какой-то пленный. Он спал настолько крепко, что даже крупные капли дождя, колотившие его по распахнутой груди, не могли согнать с него сон. Это показалось мне странным.
Я поднял взгляд к небу и увидел руки. Много рук, и все разные, но преимущественно правые. Руки, худые и голые, костлявые, покрытые густым и мокрым волосяным покровом, изрезанные в кровь и грязные. Они высовывались из-за решётки узкого церковного окна в стене надо мной и жадно хватали ледяные капли дождя. Набрав в ладонь немного, всего-то несколько капель, рука исчезала, и уже через мгновение, ненасытная, она появлялась вновь. Мне было слышно, как пьют эту влагу. Люди лизали себе руки, как собаки, чтобы насытиться, но животная жажда всё равно беспощадно мучила их.
Это было похоже на кошмар. Всхлипывания, сутолока, лакания, истошные вздохи и ругань. Они алкали, и желание их было бесконечно.
Я зажмурил глаза, закрыл уши, чтобы ничего этого не слышать, и снова уснул. Так я проспал до самого рассвета.
Сквозь мой сон автоматной очередью пробилась хлёсткая немецкая речь, и я очнулся.
Небо было покрыто чистой и свежей лазурью. Вокруг, на досягаемом взглядом просторе в несколько километров, не было ни облачка. В любое другое время я бы порадовался этому небу, но только не сейчас.
Я взглянул в сторону двустворчатых церковных дверей. Они были настежь распахнуты. Оттуда-то и слышались громкие немецкие голоса. Один из фашистских офицеров стоял у входа и командовал немецким рядовым, находившимся внутри.
Через пару секунд двое солдат понесли из церкви что-то к дороге.
С моей позиции видно было не слишком хорошо, к тому же и несли они в противоположную сторону.
Только когда немцы бросили свой груз на размокшую после дождя землю и отправились за следующим, я разглядел издалека, что это было человеческое тело. Следующая пара солдат тут же кинула на него второе.
На тот момент сомнений у меня не возникло по поводу того, что наших пленных солдат застрелили, пока те спали.
Я еле встал с места, чтобы подобраться ближе. Я ступал осторожно, опираясь на здоровую ногу и стараясь глядеть вниз. На земле лежало ещё много спящих солдат. Но я был слаб, и ноги меня не слушались. Голени были тяжелы и отекли так, что я почти их не чувствовал.
Случайно я всё же задел одного солдата, чиркнув довольно сильно носком сапога прямо по его голове. Солдат никак не отреагировал. Я посмотрел на его лицо и содрогнулся. Это был мертвец. Но его глаза всё ещё продолжали смотреть на меня, точно из другого мира.
Я повернулся кругом, оглядев остальных пленных. Кто-то сидел на грязной жиже и смотрел перед собой. Другие о чем-то говорили. Остальные так же, как и я, наблюдали за немцами. Но были и те, кто лежал так же, как уснул вчера вечером. Все они были мертвы.
К этому моменту к дороге, где сваливали трупы, немцы несли уже шестое тело. Потом было седьмое, восьмое, и так без перерыва ещё почти час немцы выносили из церковной залы и сваливали на мокрую дорогу тела наших солдат.
Бледные, окоченевшие трупы валились друг на друга, как мешки, свисая вниз голыми и мокрыми человеческими руками. Они замёрзли. Переночевав на холодном каменном полу, обессиленные от ранений, существенной потери крови, голода и бедственного положения, они заснули и больше уже не захотели просыпаться. Мёртвых было больше сотни – примерно около одной трети всех пленных.
Закончив свою работу, немецкий офицер надменно обратился к нам. «Копать!» – крикнул он и ушёл.
Все, кто оказался поблизости, наблюдали за немцами и слышали приказ, тотчас же, не сговариваясь, словно повинуясь какому-то единому внутреннему голосу, собрались вместе и упали на колени.
И мы копали.
Я вместе со всеми яростно припал к мокрой глинистой земле и рыл её голыми руками.
Сначала земля поддавалась, и все копали быстро, ладонь за ладонью черпая землю перед собой и отбрасывая её в стороны. Но уже вскоре пошла сухая, твёрдая порода, вдобавок силы быстро исчерпали себя, и копать стало в сто раз тяжелее. Сухая пыль забилась под ногти и в трещины ладоней, которыми я въедался в каменный грунт, соскребая по горсточке пыли. Ногти обламывались у самой мякоти.
Я исцарапал себе руки до крови, и эти ранки тоже забились земляной пылью.
Мы быстро поняли, что копать надо в основном вширь, но не вглубь.
Кое-как всем вместе нам удалось выкопать яму в полметра глубиной, распластавшуюся на земле квадратом примерно два на пять метров.
Дальше принялись перетаскивать в неё тела и укладывать их друг за другом. Силы были совсем на исходе, и за одно тело приходилось браться впятером, чтобы только донести. Трупы были холодны и, как мне показалось, очень грузные, намного тяжелее веса тела живого человека.
Один молодой солдат вскоре не выдержал такой работы. Сдали нервы. Он начал плакать, да не просто плакать, а принялся реветь во всю мощь, закрывая глаза измазанными в земляной жиже ладонями.
Рёв быстро перешёл в истерику. Тело его затрясло в нервной судороге, и он, повалившись прямо в яму на трупы, принялся корчиться, точно его пинают в живот.
Парня быстро достали и оттащили от могилы, и он ещё долго дрожал и всхлипывал в рыданиях, лёжа прямо на земле недалеко от нас.
К этому моменту солнце уже достигло зенита и палило беспощадно. Все истекали потом. Приходилось уже не нести трупы, а волочь их по земле. Некоторые, старались вовсе не смотреть на них и тащили, крепко зажмурив глаза.
В конце концов все тела были уложены и закопаны. После этого один наш офицер, сняв с себя сапог, размотал портянку и оторвал от её края лоскут во всю длину. Им он перевязал две сломанные палки крестом и воткнул в свежую землю.
Все склонили головы и стояли молча некоторое время.
Меня ноги уже не держали. Я опустился на траву около деревянного креста и так же молчал со всеми.
Это была последняя дань и почесть умершим солдатам. Так похоронили бы и меня. Но в моих краях совсем иные обычаи погребения.
Была глубокая, серая осень. На похороны в наш дом с самого утра собралось почти всё село. Приезжали люди из других сел, районов и городов.
Женщины, как только рассвело, начали приготовления на кухне. В большом казане варили рис, в кадках подходило тесто для хинкала, отдельно готовили сладости, чтобы раздать садака. Во дворе к дереву были привязаны три барана, которых должны были в тот день зарезать.
Я искал мать, но нигде не находил.
Она была ещё сильна и вполне здорова в то время, но смерть отца после долгой тяжёлой болезни всё же оказалась сильнейшим и безжалостным ударом для неё.
В родительской спальне на втором этаже мать лежала на старой деревянной кровати, и за ней ухаживала младшая сестра, Шахри. Она то подносила ей воды, растворяла порошок от головной боли, то меняла холодный компресс со лба, постоянно докладывала о приготовлениях, успокаивала, утешала. И в конце концов залилась горьким, неудержимым плачем, который был слышен во всём доме.
Пожалуй, из сестёр именно Шахри была сильнее всех привязана к матери. И мать сама, при всей своей строгости к нам, относилась к ней с каким-то едва уловимым трепетом.
В соседней со спальней комнате – это была моя комната – покоился отец.
После смерти покойного надлежит обмыть в специальном тазу. На всё наше селение был один такой таз, и я никогда до этого дня его не видел, как не видел потом и после. Никогда я не знал, у кого он хранится, но предполагаю, что, должно быть, у муллы.
Этот таз был как символ горя. Когда человек шёл по селу, неся его в свой дом, не было удачи и каждому, кто его встретил. Из-за этого, чтобы избежать дальнейших трагедий, за тазом, по возможности, ходили поздней ночью или рано с утра.
У аварцев хоронят без одежды. По мусульманским обычаям отец был полностью, в несколько слоёв, завернут в белый бязевый саван и уложен на специальный ритуальный коврик. Вокруг него на полу сидели старухи во всём чёрном. Перебирая костлявыми, сухими руками янтарные чётки, они читали суры из Корана, воедино слившись голосами.
Такую необходимость, как правило, доверяли родственникам, но этих женщин я никогда не видел до этого дня в нашем доме.
Я попытался взглянуть им в лица, но их черты мне ни о чём не говорили.
Их губы, перешёптывающие арабские слова, будто и не произносили никогда обыденной речи. Глаза были едва прикрыты в скорбной поволоке, и пальцы уже много лет подряд перебирали число 33 в бусинах, связанных одной нитью, среди которых не было ни первых, ни последних номеров, как не было первых и последних среди тех, по ком они плакали.
Потом я часто вспоминал этих женщин в трауре. Несколько раз они мне снились, и я мучительно всё пытался узнать хоть одну из них. Найти связь между ними и нашим родом. И всё зря. Только у людей случалось горе, они уже стучали в их двери и исчезали, окончив ритуал.
Мне представлялось, что у этих старух никогда не было семьи. Они никогда не рожали детей и не занимались ничем, кроме того, что ходили по домам вслед за вестником смерти и отпевали мертвецов. Кто они были на самом деле? Откуда? Где жили своей будничной жизнью? Я не знаю и сейчас. Задать эти вопросы матери я никогда не решался, и они, навечно открытые, мучают меня до сих пор.
Мне было тогда пятнадцать. Я ходил по коридору второго этажа нашего дома в селе из конца в конец, сквозь щели между неприкрытыми дверями заглядывая то в одну комнату, то в другую.
Было видно, как, прильнув к маминой груди, в её комнате рыдает сестра, как мама гладит её рукой по голове, едва сдерживая слёзы. В другой комнате я видел, как чёрные, точно вороны, старухи возносят руки к небу, прося об отпущении прижизненных грехов. Я знал, что они будут делать это ещё три следующих дня.
Остановившись, я прижался вплотную к двери и взглянул на него.
Мой отец при жизни был высоким и умер несколько даже грузным, с небольшим брюшком мужчиной. Его фигура мне всегда представлялась достаточно массивной, но теперь, в саване, это словно был не он вовсе. Тело казалось маленьким, совсем иных пропорций. На какое-то мгновение я замер в смятении, вдруг совершенно явным показалось мне, что там внутри, под этой сплошной бязью, некто совсем чужой мне.
В этом образе не было ничего мне родного. Ничего, что могло бы нас объединять. Я не поверил. Он ли это? Не может быть. Это обман, вдруг почудилось мне.
Из соседней комнаты опять послышались всхлипывания сестры, я стремительно отпрянул от двери и продолжил свой путь по коридору дальше. И я не мог даже переступить порог этих двух комнат. Только проходя мимо, я ловил мгновения, глотая воздух, как глотают горечь яда по капле из большой ложки.
Увидев, что работа наша закончена, немецкий офицер тут же погнал нас на построение. Со всех сторон к одной столбовой дороге начали стягиваться пленные.
Это была армия, вывернутая наизнанку. Она была похожа на сбор калек и обездоленных.
Уставшие от работы, изморённые жарой и голодом, мы тоже пополняли их ряды, выстроившись в шеренгу, составлявшую одну из четырёх колонн. Среди пленных трудно было заметить тех, кто был ещё в силах и мог держать строевую выправку. Некоторые вообще едва сдерживали в себе дух. Мне было жутко смотреть на их лица, и было только лучше от того, что я не видел своё.
Позади нас по приказу расположился частый конвой. Каждый конвоир имел при себе ружьё наготове и овчарку.
Собаки были бешеные. Видимо, их долго не кормили, и они обезумели от вероятности скорейшей поживы. Готовые наброситься на всё, что движется, эти звери скалили свои жёлтые клыки сквозь металлическую решётку намордников. Нас они воспринимали за лёгкую добычу.
Из избы, где засело на прошлую ночь немецкое командование, вышел молодой немец какого-то большого чина, что было видно по форме и по тому, как он держался среди своих.
Он выглядел надменно. Тогда мне показалось, что именно эта черта, надменность, и является у немцев определяющей для раздачи титулов и званий. Они получают эту черту как очередную отметку на погон. А потом носят гордо, хвастая, как наградой.
Пересчитав всех нас одним долгим взглядом поверх голов, немец отметил что-то, видимо, цифру, в своём блокноте и удалился в тень под развёрнутую палатку.
Ещё тогда мне подумалось, что, учитывая известную немецкую точность, эта цифра в его блокноте никак не могла быть верной. Было невозможно пересчитать всех нас, стоящих кое-как, вразнобой, кренясь на бок и опираясь о товарища, с одной позиции, вот так запросто. Позже я понял, что на этот счёт не ошибался.
С овчарок сняли намордники. Конвой разошёлся по обе стороны от нашей колонны, а также вперёд и назад.
Получилось, что немец с ружьём стоял через каждые два метра по всему периметру нашей колонны.
Завели военный вездеход, в который село несколько офицеров из командного состава.
Ещё пару минут все топтали землю и ждали приказа. Вот, наконец, он прозвучал на немецком. Торжественно и грозно.
Мы двинулись. Сначала нехотя, тяжело, вразвалку, но уже вскоре отстающих подгоняли бешеные овчарки.
Немцы спускали их немного с поводков, точно невзначай, и они вгрызались в ноги, рвали штанины, сбивали с ног, держались мёртвой хваткой, вонзивши клыки в живое мясо, в голые ступни до крови, и злобно, сварливо скалились на нас, капая вспененной слюной, лая до хрипоты, до звона в ушах. Люди стонали, волочили раненые конечности и семенили, понурив головы.
Никто не знал, что нам предстоит ещё долгий и трудный путь. И самым долгим днём из всех оказался день первый…
Солнце ещё и не думало клониться к земле, а я был уже изнурён и перебирал ногами скорее по инерции. Мне казалось, что если я остановлюсь, то просто упаду, и меня затопчут.
Мы шли по пыльным, размытым и кривым дорогам под вездесущим летним пеклом, от которого не было спасения.
Из-за жары притуплялся голод. Но жара вытягивала из тела всю влагу, и это, пожалуй, была самая страшная пытка. Я снял гимнастёрку и повязал её на голову наподобие чалмы. Постепенно моему примеру начали следовать те, что шли после. К полудню я ощущал себя так, что каждый вдох стоил мне серьёзного труда, и я мог прочувствовать всеми лёгкими молекулы воздуха, которые распирают их изнутри.
Я чувствовал, как он обжигающе горяч, как он тяжек мне. Я ощущал его вес. Ощущал, как пыль, растворённая в воздухе дорог, оседает на стенках моих органов дыхания. Впервые за всю прожитую жизнь я дышал так осмысленно. С толком, с вниманием и изумлением. Я дышал всепоглощающе. Дышала и впитывала в себя воздух каждая клеточка моего тела. Тогда как раньше это было как-то само собой, между прочим.
Я словно никогда не замечал того, что вдыхаю и выдыхаю воздух каждую минуту. Как раскрывается моя грудь, наполняясь плотным кислородом, и как стремительно он выходит, раздувая ноздри. Я даже развил в голове теорию, что в воздухе, должно быть, так же содержится какая-то пищевая ценность. Ведь эта пыль, которая есть повсюду, не образуется просто так, из ничего. Это ведь не что иное, как останки насекомых, зверей, людей и ещё сотен организмов, перетёртых в прах, в без весовые молекулы, переносимые ветром. И если так, то на ней можно сколько-нибудь протянуть, обойдясь без употребления привычной человеческой пищи.
Соседствующий со мной солдат всё шнырял по сторонам глазами. Как рассудил я, он находился в поисках возможностей для побега. Признаюсь, и у меня были похожие мысли. Они напрочь пропали сразу же после того, как на моих глазах моментально расстреляли одного солдата, рванувшегося из колонны в густое колосящееся поле.
Реакция у немцев была спортивная. Многие даже понять не успели, что случилось, а «конфликт» был уже исчерпан, как самое рядовое дело.
До самых сумерек нас вели по этой нескончаемой дороге, а когда наступила ночь, мы пришли в небольшую деревню.
Деревушка насчитывала всего шесть или семь дворов. Не ручаюсь говорить, были ли там местные жители или их всех вырезали, но только нас распределили по пустым коровникам, заколотили все щели так, что нас даже комары не мучили, и поставили караул. Мы ждали, что дадут хлеба, но есть ничего не дали. Поставили только две деревянные бадьи с водой, на глади которой, особенно у краёв, дрейфовали дохлые мухи.
Кто-то отпил. Я пить не стал, только обмыл лицо и руки. Осмотрел свою ногу. Рана не гноилась и быстро затягивалась. Я помнил, как мой отец делал перевязки в таких случаях. Возможно, это мне и помогло.
Вскоре все повалились – кто на сено, а кто на голый деревянный пол – и канули в забытьё.
Это была моя первая ночь, когда я не знал толком, где нахожусь и буду ли жив завтра.
Как удивительно мироустройство! Как правильно сотворён живой организм! Насколько рационально устроено его существование. Человек – это подлинный шедевр биоархитектуры и последнее усилие вековых эволюций.
Я дышу. Я втягиваю воздух, моргаю, смачивая свой глаз, сглатываю слюну, чтобы смочить горло. Я должен есть, чтобы жить, и едва ли возможно иначе. Всё, что поступит внутрь меня, принесёт мне силы, пользу или вред и боль. Любой продукт разложится во мне на множество частичек, состав которых отчасти поступит в мою кровь и разнесётся по всему организму. Остальное должно выйти естественным путём. Да, в этом «путешествии» мы совершенно забыли об этой надобности. Это всё оттого, что воздух разлагается без видимого остатка. Ну, так вот как же всё это надо было придумать! Как же всё нужно было безупречно просчитать!
Я рос, и мои клеточки множились, составляя новую плоть, но всю совершенную и правильную. Точно по какому-то лекалу, я вырос похожим на своего отца. А он был похож на своего.
И где все эти чертежи? Где они хранятся? Какая бумага может вынести на себе груз миротворческого характера? И где эта громадная библиотека, способная вместить в себе триллионы подобных чертежей?
Человек никогда не поймёт этого не то что бы до конца, а даже отчасти. Такие сакральные знания скрыты от него навсегда.
Мозг заранее создан таким, чтобы в нём никак не могли бы возникнуть ответы на подобные вопросы. Но здесь, в ситуации, где жизнь человека повисает на волоске, когда достаточно нелепой случайности, глупой провинности или чьей-либо воли, чтобы нить оборвалась, именно здесь я задавался этими вопросами. Они мучают меня и спасают одновременно.
Теперь я могу не замечать всего, что творится вокруг меня. Этой грязи с кровью вперемешку. Этой низости и жестокости, злобы и вероломства. Не видеть смерти. Мой дух восстал внутри меня, и разум сбережёт его от гибели. И я буду жить, пока буду думать.
Когда не осталось ничего иного, за что возможно ухватиться и чем можно воспользоваться, мысль становится единственным путём к спасению души. А через неё к сохранению плоти.
Человеку всегда было свойственно планировать свою жизнь. В этом есть глубокая и важная его суть. Привычка поразмышлять о завтрашнем дне на сон грядущий успокаивает и внушает чувство мнимой уверенности в само придуманном своём будущем. Это «планирование» скорее напоминает замки из песка, чем правильные и точные чертежи архитектора. А жизнь, как известно, имеет времена приливов и отливов, не зависящих ни от лунного календаря, ни от времени года и сверяющихся только с маятником твоей судьбы.
Но какая в сущности разница в том, нахожусь ли я где-то в приятном и родном мне месте или не нахожусь там, имею ли я необходимые и желаемые жизненные блага или не имею того, если я могу представить себе это всё в мельчайших подробностях? Вся разница будет лишь в том, что я никогда не смогу похвастать своей фантазией перед товарищем, да и чёрт с этим. Я просто представлю себе всё, что захочу. Окунусь в свою фантазию с головой, и тогда реальный мир перестанет существовать. Я его не запомню. В моей памяти за этот период отложится только моя фантазия. Прекрасная и безупречная.
Одно мгновение, и вот я уже сижу на обрыве скалы, у самого края. Подо мною, у подножья, расстилается панорама города, а всю даль покрывает синее Каспийское море. Я не слышу голосов и стонов, не слышу лая овчарок и немецкой речи. Только воздух, свежий, прохладный воздух доносится с моря до меня. Он вокруг и повсюду. Километры, тонны свежего и прозрачного, свободного воздуха стихии. И я хочу раствориться в нём, стать им, исчезнуть с места и ощутить себя везде. Заменить себя им и стать свободным. Пока свобода в моей душе, я не могу быть пленён.
Утром, как только встало солнце, нас уже шла огромная людская колонна, растянувшаяся на километр передо мной и после меня.
Едва приподнимая ноги выше, чем нужно для того, чтобы переступить через неровности русских дорог, мы плелись на запад, с каждым шагом покидая свою землю. С каждым шагом становясь ей чужими. И, может, даже было бы правильнее сигануть в сторону, как тот солдат, и остаться на этой земле навсегда. Хоть мёртвым лежать, но на родной земле.
Колонна шла молча. Петь строевую не было сил. К тому же конвоиры не вполне понимали смысл русских слов, и каждая фраза вызывала у них подозрение и принималась за заговорщические условности. По этой же причине наше порядковое положение в строю всё время менялось.
Никто из нас в точности не знал и не мог знать, куда нас ведут. Немцы вообще были немногословны. Уж тем более и мысли у них не возникало, чтобы посвящать русских в свои планы. Среди пленных же бродили разные слухи. Говорить в открытую, во время хода колонны, запрещалось. Переговариваться, заводить знакомства, жаловаться и обмениваться мнениями можно было только на постое ночью. Разговором, рваным на мелкие клочки, которые по отдельности представляли из себя трудно переводимые, лишённые смысла фразы и слова, а вместе составляли одно конкретное предложение, мы обменивались соображениями по поводу нашей участи.
Пленные солдаты, большей своей частью малограмотные крестьяне, тогда и не знали о существовании нацизма. Они не разбирались в мировой политике и имели о ней довольно однобокое представление, в основном полагаясь на пламенные речи агитаторов.
Кто-то божился, что точно знает, будто нас ведут на расстрел, на непременную и поголовную погибель. Но это мнение казалось мне абсурдным. Оно было рождено животным страхом и сеяло только судорожную панику среди пленных. Все, кто верил в это, пытались бежать. И это была их гибель. Немцы всегда убивали на месте. Незачем было кого-то куда-то вести. Слишком хлопотно, да и не нужно вовсе.
Иные утверждали, что нас взяли в заложники для последующего обмена на пленных немцев. В этом случае нас должны были довести до границы, не дальше. Дальше не было смысла.
Пленных, я имею в виду нашу численность, не берегли. Помимо того, что народ таял от голода и потери сил, немцы стреляли во всех, кто хоть как-то проявлял себя среди других. Пока мы безропотно шли все вместе, всё было тихо и спокойно, но стоило только кому-то засеменить и отстать от своего ряда, как несчастный тут же становился снайперской мишенью. Так что версия об обмене вскоре тоже развеялась.
Немцы относились к нам как к скотине и даже хуже. У нас, в горах и на равнинных землях, чабаны перегоняют стада овец с пастбища на пастбище в поисках свежего корма, оберегая от дикого зверя и стараясь проследить за каждой головой. В этом у них есть прямой экономический интерес и, кроме того, чисто человеческая порядочность и ответственность. А здесь – нет.
Фашистам было совершенно всё равно, какое количество такого «скота» они доставят до места. Люди гибли в день по дюжине, и это только те, которых я успевал насчитать. Они просто падали в бессилие сделать следующий шаг, и по ним проходили толпы таких же пленных, но только ещё живых. После один из офицеров, которые сопровождали нас, едучи на моторах позади колонны, останавливал машину, выходил и стрелял в упавшего. Это делалось для того, чтобы никому не пришло в голову симулировать свою смерть в надежде таким образом сбежать. Тех же, кто пытался бежать открыто, отлавливали, сбивали группами в конец идущей колонны и там расстреливали всех разом.
Бывало, оглянувшись назад, на дорогу, простирающуюся далеко вдаль за нами, можно было увидеть на обочине, вдоль которой мы шли, людские тела.
Немцы, как народ аккуратный, растаскивали их именно по обочине. Поэтому я предположил, что за нами где-то ещё могла идти другая такая же колонна. В таком случае это несло в себе и устрашающий смысл.
Люди, видя, как запросто можно схватить пулю в затылок, начинали панически бояться спотыкнуться на дороге и упасть. Один тощий сержант в истрёпанном кителе и с перевязанной головой зацепился ногой за корягу, когда мы переходили небольшую речушку вброд, и упал лицом прямо в воду. Сию же секунду он принялся изо всех сил барахтаться, бить по воде руками, издавая дикие вопли, вперемешку с которыми выкрикивал: «Живой! Живой!». А подняться никак не мог. Немецкий конвоир так и застрелил его, не понимая, что он кричит.
Кто из пленных успевал, мог снять с мёртвого одежду или обувь для себя, в запас или взамен, чтобы продолжить идти дальше.
Спустя две недели пути случаев побега уже не было. Никто больше не хотел, да и не имел сил бежать. Выстрелы прекратились.
В пути нас не кормили. Мы, как собаки, глодали, что найдём по обочинам дорог. Жевали подорожник, клевер, другую траву. Ловили насекомых: бабочек, жуков, стрекоз. Что придётся, что успеем захватить, что достанется нам на привале.
Земля, по которой мы шли, после нас оставалась мёртвой и голой. Пленные съедали всё живое.
Понимая наше состояние, немцы разрешали идти медленным шагом и не торопили.
Никто не поднимал голодного взгляда от дороги, и если под ногами удавалось заметить что-то живое, оно тут же попадало в рот. Люди ели всё подряд, часто совсем не годное в пищу, и многие гибли. Но чувство голода было сильнее инстинкта самосохранения, потому что голод – это то, что снаружи, на поверхности. Голод – это то, что увидят, заметят твои глаза, что достанут, что поймают твои руки. Инстинкт самосохранения намного глубже в человеке. Он внутри. Зачастую его просто не успеваешь достать.
У половины пленных солдат открылись поносы, и из-за слабости они опорожняли кишечник произвольно, прямо на ходу. И почти у всех крутило животы.
Вместе с этой адской болью взгляд всё равно шарил по обочине, а рука сама тянулась за любым корешком, какой только можно было достать.
Кончился август. За знойным летом пришла осень, а вместе с ней холодные северные ветры и дожди. Дороги превратились в слякотные, вязкие лужи. Мы утопали в грязевых потоках по щиколотку.
Многие уже шли босиком. И если вначале это было удобнее, то через несколько недель, когда пошли значительные заморозки и на землю упал первый снежок, ноги стало сводить судорогой. Промозглый холод пробирался внутрь, до костей. Идти стало невыносимо трудно, а после ночного привала в строй вставало всё меньше народу.
Мне казалось, что я физически не перенесу дороги. Каждый день представлялся мне последним мерилом моих жизненных сил и краем перед той пропастью, в которую за время пути уже провалилось почти две трети из нас. Каждый день я прощался с землёй под ногами, с небом над головой и со своими близкими в своём сердце. Но наступал мой следующий последний день, и я снова говорил ему «здравствуй», а за ним ещё один и так дальше.
Человек не должен знать свой последний день. Он должен жить, падая в глубину будущего, как в огромный тёмный колодец, не видя дна. Потому что, увидев дно своего колодца, он разобьётся досрочно. С такой же безысходностью у меня было моё бесконечное «завтра».
Конституция моего тела оказалась не лучшим образом подходящей для долгих походов. Во-первых, высокий рост и крупное сложение всегда требовали от сердца намного больших усилий для перегона крови, чем этого требовалось бы для человека среднего и низкого роста. Вторым и не менее главным недостатком моим было то, что я не был вынослив. Силы мои быстро иссякали. Это обстоятельство не дало бы мне выжить, если бы только я не имел способности к быстрому восстановлению сил. Я мог спать меньше, чем полагалось обычно, успевая отдохнуть и восполнить резерв энергии.
В первый месяц организм восполнял недостаток калорий за счёт моей подкожной прослойки жира. Она таяла, и уже скоро из-под кожи, как рифы у берега, начали проступать кости скелета.
К счастью, моё ранение в щиколотку на удивление быстро затянулось и больше не беспокоило меня. Когда повязка пришла в негодность и спала, на ее месте уже был гладкий овальный рубец.
Я оброс густой курчавой бородой, которая мне заметно досаждала. В жару кожа под ней обильно потела. К тому же не успел я заметить, как по моей голове, хоть сверху, хоть снизу, распространились телесные паразиты. Я чесался, раздирая кожу до крови. Через грязные ногти в ранки заползала инфекция, оттого они непрерывно гноились и сочились слизистой сукровицей. Так было по всему телу. Я словно гнил с поверхности и сох изнутри.
Зима того года была самой суровой. Навсегда запомнил я её злой, ненавистный холод. От него на всю жизнь остался во мне этот страх перед изменением погоды. Эта память о страшном, косящем людей десятками холоде, от которого некуда скрыться и нечем защитить себя, въелась глубоко мне под кожу.
Каждая клеточка организма имеет свою память. Надави на зажившую рану, и она вроде как снова болит. И теперь при первом проявлении северных ветров я начинаю плотнее кутаться в одежду и всё равно так же боюсь замёрзнуть.
За время похода я потерял счёт времени. Не знаю, шли ли мы десять месяцев, полгода или больше года. Пейзажи плавно перетекали один в другой, как и времена года, и мне казалось, что нашу колонну пустили по кругу земного шара.
Я могу вспомнить почти каждый день этой проклятой дороги, но, сколько было этих дней, не знаю до сих пор.
В каждом крупном населённом пункте, где мы останавливались, уже побывали немцы. А это всё ещё была территория СССР, и мне уже начало казаться, что в самой Германии никого больше не осталось.
Русские ничего своего не отдавали без боя, так что присутствие фашистов было заметно и ощутимо сразу. Все они были здесь. Впились в нашу землю, как кровососущие клещи, и не отступали.
Всегда подтянутые, в порядковой строгости, при полной амуниции и довольствии, в свежих гимнастёрках, выглаженных брюках-галифе и начищенных сапогах, они чувствовали себя здесь хозяевами. Было заметно, как и им непривычен этот холод, против которого у них нет никакого оружия. Но суровые испытания стихии не страшили их, а возмущали. Они именно возмущались русской непогодой, как возмущаются взрослые капризами ребёнка.
Они шли так же, как мы, под теми же сквозящими ветрами и метелями, кутаясь в тёплые платки поверх своих шинелей. Сама природа была против них, посылая летом палящий зной, когда их кожаные ремни тёрли им плечи через гимнастёрки, шерстяные брюки-галифе парили им ноги и демисезонная обувь душила ступни, и зимой – мороз, который досаждал не меньше. От этого всего они злились ещё больше и не гнушались всякой возможностью выплеснуть свою злобу на нас – голодных и усталых, которые ничем не могли им ответить.
Это поколение их народа было рождено войной и не могло породить ничего иного, кроме войны, жестокости и насилия. Это были люди, для которых убить – одно простое движение руки. Они не могли не действовать с другими точно так же, как поступали с ними. Сам их язык был словно приспособлен для войны.
Немцы ещё много лет будут отмывать свои руки от крови. Любой человек будет жалить потомков этого народа в ахиллесову пяту напоминаниями о чудовищном преступлении против человечества, которое, в свою очередь, всегда будет носить их национальные черты.
Эсэсовская форма, их машины и самолёты казались мне такими же основательными, как всё немецкое. Но я не хотел думать об этом в какой-либо мере положительно. Не хотелось даже воспринимать их людьми. Это унижало бы звание человека. Фашисты – это не немцы. Это особая нация.
Нет плохих и хороших народов. Убивая фашизм, мы только подтверждали его идеи. И ничего не укореняет так рабство в сознании толпы, как провозглашаемые с трибун идеи о свободе и равенстве.
Я всегда был убеждён, что высшее мерило человечности – это способность его к состраданию и участию. Так вот, такого здесь не было. Причём как с немецкой, так и с нашей стороны.
Из человека лучше всего можно сделать раба, выбив из него душу. Выдавив все навыки разумной душевности, которые культивировались в нём на протяжении многих десятков поколений эволюции, прогресса, демократических завоеваний, философских объяснений сути и культурного становления. Показав человеку его «хозяина» и принудив боятся, заставив трепетать и пресмыкаться перед грубой силой, можно легко ограничить сферу его интересов заботой исключительно о сохранности своего тела и сытости своего желудка. Так общество превращается в разрозненный механизм из отдельных винтов и гаек. Оно бывает уже ни на что не способным.
Человек – социальное животное. Когда он утрачивает чувство общности и ответственности друг за друга, им становится легко управлять. Он становится глуп, дезориентирован и беззащитен перед хорошо организованной силой.
Люди умирают. Умирают гении, великие творцы и философы. Гибнут дети, ещё не познавшие жизнь, и глубокие старики, пережившие свои зубы, волосы, глаза и память. Камни точатся в песок и разносятся ветром по миру. Народы и города стираются с лица земли. Всё истлевает. Только природа, умирая каждый год, оголяясь и сгнивая в земле, на следующий год возрождается заново в той же своей красе. Вновь на голых ветках набухают почки, снова распускаются молодые листья. Завязи опять появляются на тех же местах, чтобы снова созрели плоды.
В мире должно быть что-то постоянное. Не статичное, но вечное. В этом и есть великая суть и мудрость Вселенной.
Мы следовали мимо прекрасных природных пейзажей.
Земля оттаивала, освобождалась от снежного наста и вдыхала первый тёплый ветер нового года. Это была весна. Самое прекрасное время года.
Огромные по широте и простору поля открывались перед моим взором. Реки и маленькие речушки с прозрачной холодной водой текли и журчали, пересекая нам путь. Мы переходили их вброд. Промокнув насквозь по пояс, мы сушились, не останавливаясь ни на минуту, под лучами солнца.
Навстречу нашей колонне дул пронзительный, скользкий ветер. Моё расположение в строю было не самым плохим. Попав в подобные условия, тоже можно обнаружить некоторый комфорт. Всё относительно. Людям, идущим в голове колонны, было не в пример хуже. Они протаптывали путь всем остальным. Идти после них, а мне после нескольких десятков рядов военнопленных, было гораздо легче. Людские ступни словно утюжили поверхность земли. Они дробили земляные комки, вдавливали мелкие дорожные камушки, выносили на обочину ветошь и сухие сучья. Дорога после нас оставалась гладкой и широкой, как морской берег.
Люди, идущие «в голове» колонны, чаще гибли. Они впитывали в себя холод и дождь, подставляя стихии своё тело.
Примерно через месяц в строю негласно поставили такой порядок, что эта самая «голова» должна сменяться.
Я шёл в ряду первых три недели, хотя в сроках мне легко было ошибиться. По рассветам я считал дни, но цифры не держались в уме. Я всё время думал о доме и о родных.
У всех малых народов на земле, вне зависимости от их географического места расселения и других национальных особенностей, чрезвычайно сильны родственные узы. Так, чем меньше их национальная численность на планете, тем теснее они будут сплочены внутри своей общины и тем сложнее будут их взаимоотношения с внешним социальным миром.
Это чувство общности очень глубоко засело в сердце каждого представителя небольших этнических групп и народностей. Они стремятся сохранить себя как вид, отсюда эта приверженность к сохранению традиций предков, к родственным бракам и большим семьям.
Каждый маленький народ в душе уверен, что на самом деле именно для него крутится эта планета. И ни один не упустит возможности напомнить о своей национальной исключительности.
Немногочисленные нации более агрессивны и консервативны в своих устоях. Испокон веков наследие малых народов было лакомым кусочком для главенствующих держав, и сохранение его в самобытном виде до сегодняшних дней можно считать истинным героизмом.
С того самого дня, как над Вавилонской башней были нарочно рассыпаны все языки мира, поделив людей на национальные единицы, не прекращаются споры о том, кто же из них лучше.
Существуют свидетели, утверждающие, что в тот же день загадочный мешок с языками пролетал и над Дагестаном. Зацепившись за вершину горы Тарки-Тау, он получил небольшую прореху, откуда на землю моих предков и попала горсточка различных наречий.
Национальный признак на протяжении многих веков был определяющим фактором при взаимоотношении людей на Кавказе. Никто не хотел иметь дело с незнакомцем, не спросив предварительно: кто он по нации, из какого рода, кто его родители. И здесь сын уж точно отвечал за отца. О человеке составляли суждение, исходя из того, к какому тухуму он принадлежит, и дело едва ли обходилось без взаимных упрёков. Так, среди аварцев пользуются большой популярностью шутки о хитрости лакцев, даргинцы не пропустят случая посмеяться над горячностью аварцев, а кумыки обязательно заведут разговор о бахвальстве лезгин.
С характерной точностью каждый определяет для себя, кто свой, а кто чужой. Кому нужно помогать, а кого необходимо опасаться. И каждый из нас знает: пока мы вместе – мы сильнее. Одиночка – не значит ничего. Он никому не нужен.
Так и я, оторванный от своей земли, от своих корней, ничего не значу на чужой территории. Я здесь один и иду в толпе таких же, как я, одиночек.
Двое из первого ряда, в котором я шёл, не дожили до того дня, когда нас сменили.
У моего соседа за этот период отморозило пальцы ног. Они почернели, усохли и превратились в гниющие трупы на ещё живом теле. Он сам отрезал их маленькими кусочками, используя в качестве скальпеля складной ножик-брелок с почти совсем тупым лезвием длиной всего в три сантиметра.
Ему не было больно. Он кромсал уже отмершие куски плоти и даже шутил, хвалился своим спокойствием. Но никто из нас не смеялся. И в его глазах за улыбкой прятался ужас.
На деревьях уже набухали первые почки, когда по характерному типу постройки деревенских домов я понял, что мы дошли до территории Украины. По всему горизонту начали подниматься аккуратные выбеленные одноэтажные домики с четырёхскатной крышей, покрытой соломой.
Жители деревень и хуторов, вдоль которых проходил наш маршрут, клали по обочинам дороги небольшие горки из съестного.
Люди оставляли нам кто что мог: ломти хлеба из непросеянной муки, яблоки, морковь, тыквы, сырые клубни картофеля, в тканые тряпицы были завёрнуты небольшие куски сала.
Наша колонна шла, и каждый молча наклонялся к этой «кормушке», брал что-то и шёл дальше. И тот, кто взял уже с одного места, не брал с другого. Все понимали, что за нами тоже идут люди и им тоже должна достаться пища. Эту еду не трогали даже конвоиры, оттаскивая от неё своих голодных овчарок. Немцы не понимали, почему жители опустошённых деревень, которым зачастую самим нечего есть, кормят пленных солдат, но они считали, что от этого была им только выгода. Если бы русские сами не кормили своих пленных, все они померли бы от голода.
Мы прошли через оккупированный фашистами Харьков. В это трудно было поверить. Ещё несколько месяцев назад этот город был совсем другим. Теперь же – сожжённые дома, развалины от бомбёжек, всюду голод и смерть.
Из местного населения мы никого не встретили. Конечно, оно здесь ещё осталось, но все прятались по подвалам и бомбоубежищам, выходя наверх только для возможности перехватить где-то пищу и питьевую воду.
Мне запомнился один старик. Я заметил его почти случайно, посреди огромной свалки, так он в своём грязном ободранном пиджаке сливался с мусором. В его руке был металлический чайник с вмятинами со всех боков. Согнувшись над грудой барахла, он выбирал оттуда что-то и складывал в чайник.
Наша колонна как раз проходила мимо и достаточно близко. Но, видимо, старик плохо слышал. Возможно, был контужен от тех же бомбёжек и не заметил нашего приближения, иначе бы спрятался. Немцы иногда стреляли в таких бродяг, просто так, от нечего делать, вроде как для порядка, будто это и не люди были, а чумные собаки.
Увидев, наконец, наш строй, старик жутко испугался. Он замер, как соляной столб, и так и не шевелился.
Я запомнил его лицо. Мне оно точно в душу запало. В его испуганном и дрожащем взоре всё ещё чувствовалась стержневая, мраморная интеллигенция. Уж слишком он был аккуратен на этой помойке, ворочая разбитый хлам.
Мне почему-то представилось, что он непременно должен был быть школьным учителем. Я видел его у доски с указкой и мелом, в пылу профессионального азарта и вдохновения разъясняющего ученикам скучные азы науки. И вот внезапно война, и он уже никому не нужен. Так же, как и его наука. Ученики разбежались и прячутся по сырым подвалам. Фашисты вторглись в нашу страну, как хозяева на скотный двор. Когда ещё всё восстановится?
Когда течение времени возобновится со своего прерванного мгновения? Когда дети позабудут звуки сирен и боевой тревоги? Когда развеется из памяти молодого поколения запах огня и пороха? Сколько сил предстоит на это потратить, сколько жизней ещё предстоит погубить во имя будущего мира? На все эти вопросы не отвечает ни одна наука. Сколько уроков не даёт история, в её книгах всё равно остаются белые параграфы.
Времена года плавно сменяли друг друга. Приближался тот день, когда мы должны были замкнуть год в пути. Нас взяли в августе. Теперь была середина лета.
За все месяцы тяжёлого и долгого пути одежда моя истрепалась, истёрлась, прохудилась и вконец истлела. Я дошёл до Германии в пыльных, испачканных кровью и смердящих лохмотьях. От меня пахло хуже, чем от немытой скотины. Нести это на теле было невыносимо противно. Хотелось дорвать эту одежду в конце концов в маленькие лоскутки и скинуть. Но приходилось мириться. Никакой другой одежды не было.
Ещё будучи подростком, я всегда уделял своему внешнему виду большое внимание. Костюм я выбирал очень тщательно. Я был высокий, стройный и видный юноша. У меня были белая рубашка, брюки-галифе и высокие сапоги из мягкой кожи. Я носил каракулевую папаху, которая осталась мне после отца. Чтобы выглядеть старше и солиднее, я оставлял усы.
В погожий, досужий день я любил выйти из дома с небольшим блокнотиком и парой карандашей в кармане. За спиной в расшитом мешке, перекроенном из конской попоны, я нёс свой обед. Обычно он состоял из ломтя домашнего хлеба или лепёшки из серой муки и небольшого куска козьего сыра. По местной рецептуре и в связи с порядком долгосрочного хранения его всегда делали изрядно пересоленным, так что невозможно было обойтись без питья. В походную металлическую фляжку я заливал воды или холодного компота из кураги. В еде я не был прихотлив, и такой простой обед меня вполне устраивал.
Я спускался по узкой дороге между домов вниз, к подошве склона. Все, кого я встречал в селе по пути, вежливо со мной здоровались. «Салам алейкум, Парук, – говорили они. – Какой ты стал важный. Настоящий мужчина, на своего отца похож! Жениться тебе пора». А я улыбался и благодарил за почтение.
Спустившись к подножию, я проходил ещё далее по ровному, травянистому плато. Вдалеке, под тенью едва ли не единственного дерева в округе, которое своими раскидистыми, пышными ветками было способно создать прохладную тень, я соорудил небольшую скамеечку. В свободное время, когда ни по дому, ни по учебной части у меня не было никаких дел, а это время приходилось именно на жаркий полдень, я направлялся сюда.
Это место под палящим небом с налётом перистых облаков, с сухой, каменистой землёй под ногами и эта скамья из сруба были обстановкой моего собственного кабинета. И я работал. Не щадя усилий, прилагая всевозможные старания и не отвлекаясь ни на что, я рисовал.
Сначала моей натурой был вид родного села, раскинувшегося во всей красе перед взором. Для своих целей я таскал с собой старые отцовские блокноты, вырывая из них ненужные, исписанные листы. Таким образом, мне оставалась только некоторая доля чистого пространства, которой надо было распорядиться с умом.
Я не делал никаких набросков. Рисовал, что называется, «от угла до угла», перенося на бумагу всё, что вижу, в таком же порядке. Именно из-за этого мне было трудно разобраться в пропорциях и перспективе.
Частенько случалось так, что моё село, изображённое на плоскости желтоватой блокнотной бумаги, словно переворачивалось, будто дома его лежали не на склоне горы, а были построены каким-то образом на своде огромной арки, возведённой к небу. Или же крайние правые дома, условно с моей точки зрения, так же, как и крайние слева, выпирали так, что создавалось впечатление, будто село расположено полукругом. А иногда, начиная свою зарисовку с левого края листа, я, к своей досаде, вскоре замечал, что выбрал настолько большой масштаб изображения, что из всей предполагаемой панорамы у меня умещалась от силы только половина, и притом не лучшая.
Много времени прошло, прежде чем я поборол эту многоголовую гидру, называемую «обратной перспективой». Но всё же методом совершенно не научным, а, скажем так, механически я просто приучил свою руку рисовать правильно. Тогда я ещё не знал, что настоящий рисунок начинается не на бумаге, а в голове художника.
Постепенно с кривых и узких, неудобных, тесных и пыльных дорог мы вышли на широкие и ровные. Под ногами стелились большие бетонные плиты, точно подогнанные друг к другу. Стало легче идти. Это была центральная Германия.
В следующую ночь после того, как мы пересекли границу, нас начали пересчитывать. Теперь мы проходили насквозь немецкие города и поселения, оставаясь на ночлег то в скотных хлевах, то в сараях, то в лагерях с военнопленными, расположенными по пути нашего следования.
Местные жители высовывались из окон своих домов, выходили на балконы и стояли на улицах, провожая взглядом нашу колонну. Женщины, все, как одна, светлые, точно моль, в опрятных, накрахмаленных передниках с оборками, с интересом разглядывали нас, русских. Нашу одежду, босые ноги и исхудавшие лица. Они не разбирали, кто из нас грузин, кто сибиряк, кто дагестанец. Для них мы все были пленными, и, наверное, им казалось, что мы варвары, свиньи, которые живут в пещерах и так и ходят везде в лохмотьях, необутые, зловонные и грязные.
Они презирали нас за наши обмоченные штаны, за вши в наших одеждах, за грязь под жёлтыми ногтями, за спутанные паклей волосы, синяки, гниющие ранения, обмороженные конечности и открытые раны до кровящего мяса.
Дети кидали в нас мелкой галькой и старались доплюнуть с места до кого-нибудь, причём особой удачей было попасть кому-то в лицо или хоть на одежду. Это была у них такая игра.
Я шёл и думал про себя, что время всё рассудит. Всё расставит по своим местам.
В лагерях, где мы ночевали, а всего на нашем пути их было два, нас выстраивали в общий строй и выдавали по одному половнику баланды. На вкус она была отвратительной и не годной даже на корм скотине, но мы ели.
Местные пленные и наши спали все вповалку в одном общем помещении, причём плотность была такая, что не каждый мог позволить себе растянуться во всю длину тела. Так, наутро значительная часть наших вшей оставалась с постоянными обитателями лагеря. Что интересно, нам самим от этого отнюдь не становилось легче. Всё тело так же зудело и чесалось от беспрерывного покусывания и беспокойных передвижений этих мелких тварей.
Не знаю, как далеко мы забрались в Германию, но только крупных городов на нашем пути встречалось немного. Все уже понимали, что до конечной точки нашего маршрута уже недалеко, но только радоваться этому или огорчаться, никто не знал.
Почти три четверти всей численности нашей колонны военнопленных погибло по пути сюда. Что могло ждать нас, выживших, на чужой земле? Это было всё равно что другая планета, на которой мы были людьми низшего сорта. Люди-рабы, которых стали бы использовать на самой тяжёлой работе, на износ, на вынос вперёд ногами.
Человек, оторванный от своей родной земли, – как лист, слетевший с ветки дерева. Он несётся ветром по воле стихии, никому не нужный и ни на что не вольный.
Я впервые покинул свой родной край, когда меня, восемнадцатилетнего юношу, призвали в ряды Красной Армии. По распределению я попал в танковые войска. Часть, в которую меня определили, располагалась близ Хабаровска. Достаточно далеко от Дагестана.
Я обрадовался, когда узнал о распределении. Думал, теперь весь Союз проеду. И был чрезвычайно горд, что меня призвали.
Добираться из Махачкалы на поезде пришлось почти месяц.
На месте, в гарнизоне, все было уже совершенно другое. Люди общались между собой иначе. Иначе задавали вопросы, по-другому шутили и вели себя совсем не так, как было принято у нас.