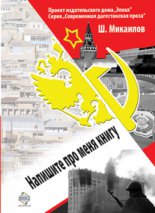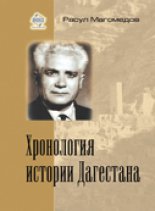Пробуждение Улитки Куберский Игорь
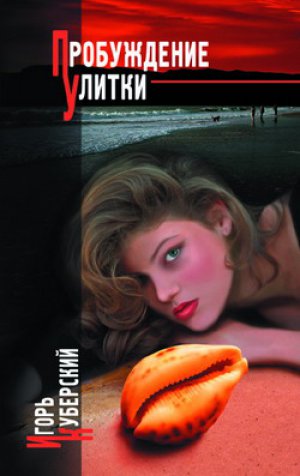
Тотчас он пошел за нею, как вол идет
на убой и как олень на выстрел.
Книга Притчей
К тому же улитки не ведут
бессмысленных войн.
Знаки агни-йоги
Да, я приучил себя довольствоваться малым. Лучше пригоршня в покое, нежели горсти в трудах и заботах. Из максималиста я стал минималистом. Труднее всего было обуздать честолюбие и признать, что ничего не получилось. Я и сейчас иногда взбрыкиваюсь – мне кажется, что еще есть время и силы. Мне даже кажется, что сил у меня больше, чем в молодости. Я не про славу. Я про чувство внутренней гармонии – с внешней уже не вышло и не выйдет. Но внутри можно было бы переорганизовать весь этот трагический фарс и хаос в свет и покой. Последние годы я только этим и занимался. И заклинал себя: я свободен и я спокоен. Я никому и ничему не завидую. Я не боюсь смерти и не жажду бессмертия. То, что я делаю, я делаю хорошо. Я стараюсь не приносить людям зла и не считаю себя лучше других. Совсем как у Швейцера: «Я есть жизнь, которая хочет жить. Я есть жизнь среди жизней, которая хочет жить». Мое сердце открыто для добра и любви… Нет, про сердце я не буду. Сердце мое закрыто. Я боюсь его открывать. Если оно открывается, то само. Мы с ним разошлись, и, когда ему больно, я злорадствую: «Вот видишь, я оказался прав. Так тебе и надо». Друг к другу мы относимся с недоверием.
Иногда я колочусь в стену головой – Господи, какие прекрасные молодые женщины были рядом со мной и сколько прекрасного привносили они в мою жизнь, сколько подарили мне минут, и часов, и дней, и месяцев, и даже лет, как счастлив я бывал с ними, и как лучились их глаза, и как они улыбались – да! мне! – и что теперь? Где они? С кем? И кем стали? Наверняка у них дети и, может быть, внуки. Вспоминают ли они меня? Это один из моих вечных вопросов самому себе. Вспоминает ли кто-нибудь меня, принес ли я кому-нибудь хоть крупицу счастья?
I
Я увидел ее среди уличных художников в портике бывших Серебряных рядов, что на Невском возле Думы.
– Ты только из-за моих ног со мной познакомился! – смеялась она.
И вправду – не из-за работ же ее, прикнопленных рядом с этюдником. Работы мне тогда не понравились. Она заканчивала чей-то портрет, держа его перед собой на коленях, а складной стульчик перед ней был пуст; видимо, портретируемый, не признав сходства, исчез, но она еще сердито водила цветными мелками, добавляя тупой похожести, на которую клюют невежды. Помню, сердце у меня застучало вдвое быстрее, верно угадав момент жизни, от которого начнется что-то другое, сердце застучало, отдаваясь в висках, и не своим от волнения голосом я спросил:
– Меня нарисуете?
Она глянула в мою сторону сквозь очки и мрачновато кивнула на складной стульчик:
– Садитесь.
Нет, не мрачновато, скорее безучастно, и даже не безучастно, а со скрытой неприязнью – я был работодателем, а ее натура протестовала против этого. Но она пришла сюда зарабатывать деньги и поэтому сказала «садитесь». Я сел, ее высокие ноги оказались перед моим носом, и я с трудом оторвал от них взгляд. Лицо ее было смуглым, розовые губы своенравно вывернуты, как у таитянок Гогена, а нос с большими ноздрями по-азиатски слегка приплюснут. Голос звучал низко и уверенно.
– Какой вы хотите портрет? – спросила она. – Цветной, черно-белый?
– Цветной, – сказал я, стараясь не опускать глаз.
– Цветной стоит дороже, – сказала она.
– Я могу себе это позволить, – сказал я.
Она выбрала из пачки листок, шершавый лист для пастели, – и у нее были такие кисти рук, такие умные живые пальцы, что мое учащенно бьющееся сердце дало перебой, а душа заныла.
– Я правильно сижу? – спросил я.
Мне хотелось с ней говорить.
– Правильно, – сказала она, время от времени окидывая меня тем пристально-отсутствующим взглядом, какой отличает художников. – Можете вообще шевелиться.
– А Модильяни писал не так, – сказал я. – Он сначала полчаса смотрел на модель, а писал по памяти.
– Я не очень люблю Модильяни, – сказала она.
– А кого вы любите?
– Ну… – замялась она, явно не желая открываться перед посторонним.
– Серова? – спросил я, потому что в тот момент читал про Серова.
– Да, – сказала она, – и Врубеля. Вот у них получалось.
– Но «Девушку, освещенную солнцем» Серов писал три месяца по восемь часов в день, – сказал я.
– Он мог себе это позволить, – ответила она моей фразой.
– Я как раз собирался сходить в Русский, портреты Юсуповой, Орловой – это черт-те что!
– Да, – сказала она, – неплохо бы сходить.
Похоже, я ей мешал работать, но у меня было мало времени – пятнадцать минут, не больше, как она заверила.
– Не знаю, как он писал свою девушку, – продолжал я. – За три месяца она должна была сильно загореть. А этого незаметно.
– Он создавал, а не копировал, – сказала она. – У него был образ, замысел.
Тем временем что-то вокруг изменилось, как будто мы создали некое силовое поле, притягивающее окружающих. Сначала возникли зрители, затем телевизионщики. То есть сначала возник молодой человек с залысинами и лукавой улыбкой прохиндея, а за ним, как на веревочке, – большой и толстый оператор с переносной телевизионной камерой. Лукавец зацепился взглядом за нашу парочку и что-то шепнул оператору. Тот сделал шаг в сторону, чтобы мы попали в кадр, и прицелился в свой видоискатель. Затем он кивнул ведущему, и тот на цырлах подсеменил к нам.
– Похоже, нас будут снимать, – поежился я.
– Не бойтесь, – сказала она.
Я сидел очень низко, и молодому человеку пришлось сильно наклониться, в руке у него был микрофон.
– Как вы относитесь к фотографии? – спросил он.
– Нормально, – сказал я.
Тогда он спросил, почему я захотел заиметь свой собственный портрет. Я не мог ему сказать, что на собственный портрет мне абсолютно наплевать, и я стал говорить ему про психологические отношения художника и модели. По его заскучавшим глазам я понял, что говорю не то, что ему нужно, но моя художница слушала с интересом. Потом он спросил, нравится ли мне, что художники вышли на улицы и вообще «такая атмосфера». Все это тогда было еще в новинку нашему суровому городу, и вопрос звучал актуально. Я сказал, что если мы считаем себя Европой, то, как в европейских городах, у нас на улицах должна быть атмосфера свободного, радостного общения. В «европейских городах» я тогда еще не был, наверное, именно поэтому от них в телепередаче ничего не осталось. Удивительное дело – голос был мой, а слова не мои. Вид у меня на телеэкране был слегка затравленный, будто меня брали с поличным. Моя художница держалась много лучше. Хотя и ее слов про милицию, гоняющую художников, в интервью не оказалось.
Портрет был готов, это был не я, не тот я, каким я видел себя в «психологических отношениях художника и модели».
– Может, получилось не совсем… – с сомнением сказала она, но я поспешно сказал: «Что вы, отлично!» – и еще поспешней выложил деньги.
Я выбрался из толпы со свернутым в рулончик портретом. Затем вернулся – стул перед ней уже был занят – и громко спросил через головы:
– Как вас зовут?
Мне нужно было домой, но, покружив по Невскому, я снова вернулся к портику. Ее я не нашел.
II
Назавтра ее не было. Я прошелся по всем засидкам художников, которые она упоминала, я побывал везде – она исчезла. Я чувствовал, что напрасно ищу, что ее сегодня нет и не будет, но не верил инстинкту и продолжал торить мостовые и площади города. Он был прекрасен и пуст, он был ужасен, он был белым на солнце и черным в тени. Я перебирал всякие мелочи нашей тридцатиминутной встречи, весь тот переливавшийся из пустого в порожнее разговор, который теперь мне казался значительным, полным разных поощряющих мою инициативу знаков и символов, и проклинал себя за пижонство. Упустить, потерять, лишиться… И все-то из опасения показаться пошлым. Ведь должен же был я понимать, когда сидел на ее стульчике, – Господи, даже тот стульчик я теперь любил! – должен же был я тогда понимать, что подобным же образом садятся на него и начинают полоскать перед ней зубы десятки других знатоков Серова.
– Вообще-то я оформитель, – сказала она. – И еще я реставрирую иконы.
Нет, она работала не в театре. Она вообще нигде не работала, только где-то там числилась. Да, а на жизнь она зарабатывает портретами. Сначала было страшно – вот так взять и выйти на улицу. Надо было себя преодолеть. Она начала в Пицунде. В Пицунде было проще, там она одна рисовала. Нет, грузины не такие уж щедрые. Они садились, чтобы познакомиться. Каждый предлагал себя в мужья. Чтобы отстали, она говорила, что ей пятнадцать лет. Но они соглашались подождать. Прямо тут же, на стульчике. Они забывали, что садились для портрета, и потом не хотели за него платить. Им была нужна женщина, а портрет им был не нужен, они ничего не понимали в портретах. И не понимали, зачем ей деньги. Деньги должны быть у ее мужчины. Они не понимали, что деньги ей нужны на жизнь, они не понимали, почему она одна. Такая девушка не могла быть одна. В Пицунде она дружила только с мальчишками, с целой ватагой мальчишек, потому что они были чисты и красивы. Грузины красивы только до семнадцати лет.
А потом она сказала, что ей нравится такой возраст, как у меня, и моя седина ей нравится. Когда мужчина начинает седеть, он становится моложе. Потому что светлей. Потому что седина дает рефлекс света на лицо. Не мешаю ли я ей рисовать своей болтовней? Ничего, она привыкла. А вообще-то ей интересно поболтать со мной. И еще она сказала, что на днях должна переехать и будет очень занята. Это я совсем забыл, она просто очень занята. И еще она снова собиралась в Пицунду. Может, она уже там. Там бы я ее наверняка нашел по толпе мальчишек на солнечном песчаном берегу. И хотя я уже понял, что ни сегодня, ни завтра ее не увижу, мистическая интуиция медиума, а влюбленный – почти медиум, говорила мне, что я ее еще встречу.
Я обнаружил ее на четвертый день, когда, согласно Книге Бытия, творец отделил свет от тьмы. Она шла стремительной высоконогой походкой в компании высокого худого мужчины, который был седей и старше меня. Лицо у мужчины было неглупое, но испитое и циничное, и я огорчился за нее. Все было кончено. Мне оставалось только незаметно проскочить мимо. Но она заметила меня, узнала и вдруг побежала ко мне. Пока она подбегала, краем глаза я увидел, как ее спутник состроил кислую презрительную гримасу. Гримаса была явно по моему адресу.
– Я наконец переехала, – сказала она, улыбаясь во весь рот, будто радуясь встрече. – У меня есть телефон, я могу вам позвонить. Я не люблю звонить из автомата.
Нет, она не давала телефона, она просила мой, она оставляла за собой инициативу, и она сказала:
– Я вам позвоню.
– Когда? – спросил я пересохшим горлом.
Мы встретились рано утром на Невском проспекте, когда он еще чист, свеж и малолюден, и политые мостовые еще не отдали летнему небу свою влагу, и кажется, что тебе не сорок пять, а шестнадцать, и от Невского ты ждешь чуда, и он дарит его на протянутой ладони. Что там? Три клеверные головки: розовая и две белые.
– Это для вас.
Я засовываю их стебельками в карман рубашки, и в темноте кинозала они фосфоресцируют от экранного света.
Никогда в жизни не ходил в кино на первый сеанс. Она тоже. И вообще кино разлюбил. А она и не любит. И если б не нервные соседи слева и справа и, кажется, сзади, мы бы объяснились на этот счет: это ведь нечасто – не любить кино. «Я не уверен, что это искусство», – только и успел сказать я. Я много об этом думал и теперь не уверен. А она просто не любит киношников и переносит это на их продукцию. Она не любит суету, хотя, пожалуй, сама немного суетлива. «Я тоже суетлив», – шепчу я, наклоняя к ней голову, так что задним соседям приходится искать другую точку смотрения; зал прямой и узкий, как школьный пенал, непонятно, почему его назвали «Титан». «Это потому, что русский человек испытывает тягу ко всему чрезвычайному», – без зазрения совести цитирую я Пастернака и добавляю, что до революции здесь был ресторан Палкина, а напротив, в «Октябре», – дом свиданий под названием «Шуры-Муры». Господи пронеси, нет больше сил молча трястись от смеха. Мы прыскаем в темноте.
И вечером мы еще вместе. Пьем чай на кухне в ее новой квартире. Она сняла ее на полгода. Отличная хрущевская квартира – балкон, совмещенный с соседским, ватерклозет, совмещенный с ванной, комната, совмещенная с кухней… Ничего, она все здесь распишет – она не выносит скучные интерьеры. На окнах будут витражи, на стенах – декоративные ткани. Конечно, я могу помочь, если захочу, хотя она привыкла обходиться сама. Она с пятнадцати лет сама. Отец, он хороший, но слабый человек. Фантазер. Пишет стихи. В стихах у него тигры, пальмы, пампасы. Вообще-то он инженер-электронщик. Очень хороший электронщик, но очень слабый человек. А мать она ненавидит. Мать все детство ее била – мать не выносит другой жизни рядом с собой. Бабушка – вот кто ее спас. Бабушка взяла ее в свой дом и воспитала. Она скоро возьмет бабушку к себе. Они купят за городом дом и будут жить вместе.
В открытое окно кухни лезла листва кленов, комары-невидимки распевали свои кровожадные песни, легко преодолевая четыре этажа, равные двум 1913 года постройки, по всем трубам вверх-вниз утробно носилась вода, дом гудел, как нутро пациента под фонендоскопом… Нет, она будет жить только в своем собственном доме, за глухой стеной, ей нет дела до того, что вокруг, она создаст свой собственный мир, она умеет все – малярничать, работать по дереву, раскрашивать и обжигать плитку, класть ее.
– Я тоже умею, – сказал я. – Дома я сам облицевал ванную.
– Это все не то, – поморщилась она, хотя не бывала в моей ванной.
– Конечно, не то, – сразу согласился я. Мне почему-то было радостно соглашаться.
Наконец я сказал:
– Уже поздно, мне пора.
– Да, поздно, – сказала она. – Можете остаться. Думаю, нам будет не слишком тесно.
Это было последнее наше «вы».
В ней не оказалось ни капли постельного кокетства, она сразу доверчиво, простодушно раскрылась мне, будто наперед знала все, чем я могу ее одарить, и благодарно принимала это, была податливо-послушна и в то же время равна мне в предприимчивости, и та часть моего тела, где приостанавливались в ласке ее живые пальцы, тут же начинала ответно вибрировать, будто пронизанная пучком золотого света; и в самозабвенном бреду соития, которое все не кончалось, я почему-то ощущал себя поющим деревом, вроде яблони, или вишни в цвету, которые по зримому образу ведь ни что иное как белые вспышки, ослепляющие нас в миг очередного умиранья.
III
Утром она принялась рисовать новую рекламу, потому что я раскритиковал то, что она выставила на Невском. Я обнаружил у нее совсем другие работы, и они меня поразили. Вообще они мало походили на то, что до недавнего времени привычно висело на выставках моих современников. У одних был профессиональный застой, у других – профессиональное лукавство. Они умели изображать только предметы, но не их связь. Впрочем, была еще надежда, что где-то там, за облезлыми стенами нежилого фонда, все-таки живет и дышит, и заново рождается подлинное искусство. Когда же запреты были сняты и в выставочные залы хлынул сель авангарда, оказалось, что подлинного, настоящего почти нет. Так, отдельные золотые крупицы… Оказалось, что когда в обществе нет глубинной потребности в искусстве, то и само искусство вымирает. Мельчает, мелочится, приспосабливается. Оказалось, что гениев порождает потребность в них, то есть среда. Лет за двадцать, за одно поколение, может быть, и возродится дух красоты, дух романтизма. А ей был 21 год, и ей на все было начхать. Затаясь, ушки на макушке, я слушал ее истории, рассматривал ее картины. К себе она относилась иронически. Однако ее было просто обидеть. От насмешки и грубости она была плохо защищена.
Новая реклама у нее не получилась.
– Попробуй на другом фоне, – сказал я.
– Ты прав, – кивнула она и взяла лист плотной розовой бумаги, которой в школьные годы мы обертывали учебники и дневники. Ничего, кроме поросят, на такой бумаге нельзя было нарисовать.
– Да что ты! – воскликнула она. – Ты приглядись! – и она близоруко беззащитно прищурилась. – Видишь, в тени, за изгибом, она уже не розовая, а голубовато-зеленая. Ей только надо придать абрис лица – она сама засветится, надо только чуть выявить ее фактуру.
Пока она выявляла фактуру оберточной бумаги, я съездил домой за съестным. Заодно я прихватил свой этюдник, так как ее собственный еще болтался где-то у знакомых с половиной ее не перевезенных в новую квартиру вещей. За время моего отсутствия ее прежде розово-светящаяся «тетка» позеленела от усталости.
– Чего-то не то, – растерянно пробормотала она, вставая с колен и скрестно размахивая руками, чтобы разогнать кровь, – чего-то не получается.
Я не стал ее разубеждать. В отличие от большинства женщин, ей нужно было говорить правду.
– Она у тебя похожа на буфетчицу, – сказал я.
– Не в этом дело, – поморщилась она. – Я ее уже нашла. Уже было нормально. А потом я вот здесь ввела фиолетовый, и все потерялось. Знаешь, когда розовый фон, очень трудно найти цветовую гамму, ведь все цвета перекликаются, я рисую и вижу, как они то включаются, то выключаются, как цветомузыка.
– Зачем тебе мучиться с розовым? – сказал я.
– А это интересно, – сказала она, массируя пальцами уставшие глаза.
– Таких теток надо писать с натуры, – сказал я.
– Таких теток вообще не надо писать, – сказала она. – Мне просто нужны деньги, нужна реклама. Тетки очень любят, чтобы их рисовали. Они делают прическу в парикмахерской напротив и идут позировать, они садятся передо мной, и в глазах у них такая тоска. У них комплекс одиночества, они мечтают о мужчине. Они очень терпеливые, и не отказываются от своих портретов, и не просят телефончика. Мой вид их не волнует. Даже ты сел из-за моих ног, ведь так?
– Так, – сказал я. – Но я тут же понял, что ноги ни при чем.
– Как это ни при чем? – обиделась она за ноги.
Когда я, чтобы не мешать ей, лег спать, она еще стояла на коленях перед теткой, розовый фон вокруг которой был теперь перекрыт охрой.
В свете от настольной лампы ее падающие до полу волосы загорались багрецом. Только в середине ночи она осторожно, чтобы не разбудить, забралась рядом под одеяло.
– Ну как? – голосом из сна спросил я.
– Ты не спишь?
– Сплю. Как тетка?
– Ну ее. Не получилась. Завтра я тебя нарисую.
– Я не подхожу для рекламы.
– Ты что?! Ты ничего не понимаешь! – воодушевилась она, привстав, словно намереваясь немедленно посвятить меня в игру света и цвета на моей измятой физиономии.
– Спи, – сказал я и поцеловал ее в лоб.
– Хорошо, – кротко сказала она и сразу заснула.
С той ночи я стал бояться ее потерять.
IV
Я жил у себя, чтобы не путаться под ногами, – она любила свободу и одиночество, – но каждый вечер звонил ей в условленное время, и, если ее еще не было, я начинал умирать. Однажды она задержалась на два часа против обещанного, и я как сумасшедший бегал возле ее дома и едва успел спрятаться в телефонную будку, когда увидел ее. Из будки я и позвонил.
– Где ты? – спросила она.
– Не очень далеко, – сказал я.
– Ты что, ждал меня?
– Нет, я звоню по пути домой.
– Ты… ты можешь приехать, – сказала она, – только я очень устала… Эти несчастные мужики… Им бы только глазки строить. Я заработала всего шестьдесят рублей.
Она просила, чтобы я не подходил к ней, когда она с этюдником сидит на Невском, и я только раза два нарушил свое обещание, но она меня не видела. Оба раза работы у нее не было, и она казалась мне такой беззащитной…
Ее родители и бабушка жили во Владимире, где она окончила художественное училище. «Когда я куплю свой дом…» – часто начинала она разговор или: «Когда приедет моя бабушка…» Бабушка была из рода священнослужителей, но в Бога вроде не верила. Не верила и внучка, хотя с Богом у нее были какие-то свои отношения, которых, скажем, не было у меня. Детство ее прошло возле церквей, дядя был иконописцем, и она хорошо разбиралась в иконах. Несколько икон, написанных ее рукой, гуляли по частным коллекциям.
– А что, – хмыкала она, – если человеку хочется иметь восемнадцатый век?
Еще один коллекционер имел акварель «настоящего Шагала», выполненную ею.
– Пришлось повозиться…
– Так он знает, что у него подделка?
– Конечно, он сам меня попросил. Но теперь Шагал висит у него на стене, и все считают, что это подлинник. По-моему, он скоро тоже начнет так считать. Он уже говорит: «Мой Шагал, мой Шагал…» – и, взглянув на меня, она поспешно добавила: – Тебе просто не понять коллекционеров. Это сумасшедшие.
– Я их понимаю, – сказал я. – Я тоже сделал две копии, когда мне захотелось иметь дома своего Рембрандта.
Она еле сдержалась, чтобы не поморщиться, вспомнив те два холста, которые я, всю жизнь балующийся красками, с гордостью показал ей.
– Вот видишь, – сказала она. – Но то копии… – тут она запнулась и извиняющейся скороговоркой выпалила: – Ты все-таки сними их, ладно? То копии, а это новое. Это очень трудно. Надо изучить манеру письма. Ой, там столько тайн! – и она отмахнулась рукой то ли от них, то ли от себя, занимающейся этим тайным делом, то ли от меня, как бы щадя мои потаенные, но не близкие ей идеалы. – Давай знаешь что? – сказала она, словно все еще чувствуя себя виноватой. – Давай ты будешь со мной заниматься поэзией, а я буду тебя учить живописи. Я тебе все объясню, ты поймешь.
– У меня нет таланта, – сказал я, хотя недавно думал иначе.
– Ты не прав, – сказала она не очень уверенно, – ты… ты поймешь.
Она настаивала, что главное – голова, про свою руку она забывала, потому что той не стоило никаких усилий заполнить пустое пространство холста ли, стекла или листа бумаги теми вихрящимися призраками, от которых меня, помню, бросало в дрожь, – только тронь кистью – и тебя поведет.
Страх потерять ее все рос во мне. Он возникал почему-то только по вечерам, утром я был за нее спокоен, я чувствовал, что все хорошо, что она поздно легла и теперь спит, и не звонил ей до полудня. В полдень, как мы уславливались, я будил ее, но она всегда спрашивала: «Который час?» Часов у нее не было – часы ей были не нужны, она жила по собственному времени. Ей неоднократно пытались дарить часы. Но она их теряла. Одни, правда, продержались около месяца, но то и дело выпадали из браслета: в автобусе, в метро, в магазине. Когда они выпали на улице, она решила больше не поднимать их и пошла дальше. Теперь она носила игрушечные, где стрелки, закрепленные под прямым углом, крутились зараз.
Я боялся не того, что она в любой момент может от меня уйти, ведь она и так оставалась сама по себе, я боялся, что с ней что-нибудь случится. Мне хотелось защитить ее от всех напастей мира, а она смеялась:
– Ну что ты выдумываешь. Кому я нужна – старая лошадь?
Она говорила «кому» – значит, одушевленные напасти для нее все-таки существовали.
Прямо над тахтой, на которой она спала, висела большая картина, выполненная ею семь лет назад, стало быть в четырнадцатилетнем возрасте. Картина изображала смерть. Смертью была старуха без возраста с нежным телом. Тело она написала свое, глядя в зеркало. Лицо у старухи было бесплотное, одна кожа, натянутая на череп. Череп улыбался. Через глазницы глядела чернота. Сзади был изображен обнаженный мужчина, мертво лежащий на спине. А внизу – голова юноши, напоминающего Антиноя. В волосах юноши, как в гнезде, стояла на цыпочках птица с длинным тонким клювом и безумно-тревожным взглядом. Птица пыталась обнять крыльями огромное, больше ее, яйцо. Еще были не то какие-то стебли, не то кровоточащие вены: капли крови превращались в цветок. Из цветка рождались гладкие фигурки женщин, а под цветком толпились грубые фигурки мужчин с воздетыми руками. Символика была прямолинейной, как и мир в четырнадцать лет. Картина распадалась, но две ее точки болезненно притягивали взгляд – изогнутая щель смертельной улыбки и птица, обнимающая гигантское яйцо. Второй образ она объясняла так: это какая-то идея, какая-то огромная мысль, человек породил ее, но не может ее согреть, она оказалась больше его, она ему не по силам, у него нет на нее крыльев. А первый… она и не знала, что об этом есть строки:
- Ужасный род царицы Коры
- Улыбкой привечает нас,
- И душу обнажают взоры
- Ее слепых загробных глаз.
Она сама писала стихи. И еще сочиняла музыку. Впрочем, и стихи она сочиняла, то есть не записывала, она держала их в голове и над некоторыми неудавшимися строчками «работала» по году. Как-то я принес диктофон, и, прогнав меня с кухни, она целый час начитывала их на пленку. Стихи напоминали ее картины, но были вполне дилетантские, хотя отдельные строчки почему-то сразу запомнились: «Мокнет демон на скамейке, бородач без бороды…» Лучше же всего было само ее чтение. Голос звучал то страстно, то печально, то заклинающе, на каждое стихотворение у нее были свои краски, это был театр одного актера, это была целая труппа.
– Ну а как же иначе? – сказала она. – Ведь стихи, они все разные.
Моя же попытка отнестись к ним объективно была большой моей глупостью. Она жила в своем мире и не нуждалась в объективности. После моих замечаний стихи она забросила.
– Они все плохие, – говорила теперь она.
Ох, не надо учить птицу летать.
Музыкой она занималась в музыкальной школе, еще она занималась фотографией, танцами, аэробикой и, кажется, состояла в секции моржей. Всем этим занимались многие из нас, но, когда в фойе кинотеатра она села за рояль, я снова замер – у нее был дивный звук и какая-то особенная левая рука.
– Да, левая рука у меня все время хочет поспорить с правой, она не хочет ее слушать, ей обидно, что права не она, а правая.
– Тебе нужно играть Скрябина, – сказал я, – пьесы для левой руки. У него левая рука играет за две.
Когда ей не надо было зарабатывать на портретах, она сутками не выходила из дому и писала свое. Натура ей, по ее уверениям, была не нужна, она ее помнила, как стихи, каждую деталь. Она рисовала мужское тело и объясняла мне каждую мышцу, где какая крепится и куда идет, и каждую косточку, к которой эта мышца прилегает. Так же она рисовала и лицо. Стрелкой она указывала источник света и начинала покрывать контур тенями и полутенями. Лицо проступало из белого листа, как из замутненного паром зеркала. Лицо обретало взгляд, то есть выражение, и она объясняла, от каких мышц взгляд зависит.
Но глаза она не рисовала – ее вихрящиеся персонажи смотрели на зрителя черными глазницами.
– Это ты у Модильяни взяла? – спросил я.
– Ты что! – возмутилась она. – Модильяни просто не рисует зрачков. У него все как слепые котята. У меня иначе. Взгляд – он ведь очень конкретен, он приземлен, он смотрит в одну точку. А у меня смотрят изнутри. Это сама душа смотрит из глазниц. Вот приглядись, – и она направляла руками мою голову, чтобы я правильно пригляделся. – Видишь, какой у них широкий взгляд, они обнимают им сразу весь мир.
Вскоре я действительно привык к этим черным или оранжевым, будто внутри бушевало пламя, глазницам, и направленный человеческий взгляд стал мне казаться суетливым.
V
– Я всегда была ужасно упрямая – меня нельзя было переупрямить. Поэтому меня били. Воспитательницы в детском саду и мать. Мать вообще зверела. А мальчишки – они меня охраняли. Я была их предводительницей. По заборам лазила. Волосы распущены, как знамя. Я была их знаменем. Я тоже дралась. Мы всегда побеждали. Но драться я не любила, хотя была сильной и меня боялись. А воспитательницы, они меня не боялись, они меня ненавидели. Знаешь, какие воспитательницы у нас были… Такие толстые тетки, фашистки. Они требовали, чтобы мы все делали по свистку. Когда мы сидели вокруг тетки, руки надо было держать вот так, – и она показывала, как следовало держать руки. – Они требовали, чтобы мы их слушали, но я не могла их слушать, они говорили чушь. Мне было пять лет, и я уже понимала, что они тупые как пробки. Тупые и поэтому жестокие. Я приходила домой и рассказывала отцу. А он у меня такой… он у меня домашний философ. В магазине он стесняется продавца, рта не может раскрыть, зато дома… дома он рассуждает о мировом добре и зле. Он выслушает меня и рассуждает, шагая по комнате: «Да, это известный метод воспитания, в основу его положен принцип кнута и пряника. Если воспитательница будет допекать тебя своей глупостью, ты можешь ей ответить: ваш интеллектуальный уровень лишает меня возможности объясниться с вами. Предлагаю вам отношения нейтралитета». И представляешь, наутро в детском саду – память у меня хорошая – я все это выкладываю воспитательнице. У нее глаза на лоб, и она мне тут же дает такую затрещину, что я кубарем качусь к двери. А дети смеются.
Но я все равно делала по-своему. Я в группе заводилой была, пела, играла на пианино, танцевала. Я лучше всех танцевала и пела, и в праздник без меня не обходилось. Помню, на Новый год меня вырядили Снегурочкой и песню заставили разучить, глупую такую песню, ты, наверное, знаешь, там такие слова: «Елочка, елочка, елочка, зажгись! Огоньки на елочке бойко скачут ввысь». Очень противная песня. А тут как раз я фильм посмотрела про Остапа Бендера. Остап Бендер был мой любимый герой. Помнишь, он там поет: «Где среди пампасов бегают бизоны, где за баобабами закаты, словно кровь…», там еще есть такие слова: «И одною пулей он убил обоих». Я все не понимала, как это – одной пулей. Спрашиваю у папы, а он глаза отводит, краснеет, говорит, что я это сама пойму, когда вырасту. Ну вот, а у меня тогда игрушечный пистолет был, ковбойский, в ствол у него спереди закладывался шарик на нитке. Нажмешь курок – и он хлопает. Я очень любила из него стрелять. Мне очень хотелось быть ковбоем. И вот на новогодний праздник меня вырядили в Снегурочку, с этим дурацким, как его, с серебряным кокошником. Ужасный наряд. И я вышла на сцену. А под нарядом у меня был пистолет спрятан. Тут тетка заиграла на пианино – у нас была одна играющая тетка, она очень плохо играла, только в до мажоре – она заиграла эту ужасную «елочку», а я вытащила из-под юбки свой ковбойский пистолет, выстрелила и запела: «Где среди пампасов бегают бизоны…» Я не помню, что там делала тетка, кажется, она перестала играть – она не умела подбирать на слух. А я, когда надо было спеть «и одною пулей он убил обоих», я снова зарядила пистолет и выстрелила, целясь в тетку. А в зале были родители. Только моих не было. Папа боялся ходить в детский сад, а мать вообще не обращала на меня внимания. Родители в зале ползали по полу от смеха. А я пела и стреляла. А потом гордо ушла со сцены. Я думала, какая я актриса, всех победила. А они там меня уже ждали, эти тетки. Они схватили меня за волосы и стали бить, молча, а я сопротивлялась. Тоже молча. Я кусалась, как волчонок. Но они были сильнее. Чтобы я не кусалась, они свалили меня на пол и били ногами. А зал за дверью аплодировал, там хотели, чтобы я еще раз вышла и спела. Потом я, кажется, болела два месяца и в детский сад не ходила. Я была в больнице, у меня было что-то с нервами. Врачи говорили, что это нервный срыв. А я еще больше ненавидела детский сад. Нет, матери я никогда не жаловалась, – я знала, что, если пожалуюсь, тетки меня еще больше накажут.
Я вообще часто болела, хотя считалась очень сильной. Бабушка мне рассказывала, что, когда я была совсем маленькой, меня отдали вместо яслей одной старухе. Мест в яслях не было, а эта старуха содержала что-то вроде яслей. Там было несколько таких, как я, кого не кормили грудью. Что-то этой старухе платили, и она нами занималась, пока родители на работе. Так вот, бабушка однажды после работы зашла за мной и видит: я лежу голая на кафельном полу, мне тогда месяца четыре было, а старуха меня сверху поливает из чайника холодной водой. А я ору во всю глотку. Наверно, меня надо было помыть после этих дел, а старуха была очень брезгливая. После этого бабушка меня оттуда забрала.
У меня на этом свете только один близкий человек – моя бабушка, если б не она, я бы, наверно, не выжила. Она мать моего отца, но она не такая, как он, он слабый, а она сильная. Она потеряла мужа во время войны, она была тогда еще совсем молодая, красивая, она и сейчас красивая, ты же видел ее фотографию, красивая, правда же? И после войны к ней многие сватались, но она не захотела ни с кем быть. Она так и осталась одна, воспитала моего отца, а потом меня. Отец, наверно, пошел в дедушку, дедушку убили сразу же, как только он оказался на фронте, в первые дни. Отцу тогда было всего два года, и он ничего не помнит. Отец вообще от жизни далек: он пишет стихи про пальмы и тигров и читает только научную фантастику. Он и меня приучил к научной фантастике. Нет, в ней что-то есть. В ней есть интересные мысли. В ней нет серости, обыденности. Я ненавижу обыденность. Фантастика – она вся на воображении. О, если б мне удалось нарисовать все, что у меня в голове! Там такие замыслы! Я каждый день себя ругаю, что занимаюсь не тем, но мне нужны деньги, мне нужно много денег, чтобы быть свободной, купить дом и жить как хочется. Я все равно напишу все свои картины. Я не спешу их писать, я что-нибудь напишу, а завтра вижу – все не то. И мне стыдно, что я это сделала. Знаешь, есть два типа художников, одни не боятся выставлять свои вчерашние вещи, они говорят себе: то, что для меня вчерашний день, для остальных – это сегодня. Так они себя оправдывают. А другие – это как я. Мне стыдно за вчерашнее. Мне хочется поделиться только тем, что я сегодня поняла и открыла. Чтобы это было сразу, один процесс – я открыла, а зритель увидел, чтобы мы общались, чтобы это было живое общение, чтобы нам обоим было интересно: мне и зрителю. А зачем выставлять то, что уже умерло в тебе? Если б можно было устраивать выставку сразу же, как только напишешь. Но это ведь невозможно.
И еще у нас был разговор о моем поколении, о том, что все мы никто. Нас не заметили, в нас не было нужды, время нас не позвало, видно, нашего времени и не было. Лучшие наши годы точно уложились в период, названный теперь «застоем». Но разве мы не жили?
«Где ты работаешь?» – вскоре после нашего знакомства спросила она меня. Я ответил. «Я понимаю, что в музее, – сказала она, – но что ты делаешь?» Она спрашивала не о работе, ее интересовало творчество. И я сказал, что пишу стихи. Ответ ее удовлетворил, а мои стихи ей понравились, и она мечтала, что я выпущу их с ее иллюстрациями. «У тебя хорошие стихи, – сказала она, – почему ты их не печатаешь?» «А ты почему не выставляешься?» – спросил я и сказал, что нынешнее общество прекрасно обходится и без поэзии, а живопись – вообще атавизм, и что возрождение – еще не скоро, и что наш удел – быть невостребованными, но что это все же предпочтительней, чем быть в центре внимания, стуча в большой барабан лжи. И еще я сказал, что поэт, художник – это совесть настоящего и проба будущего, а без художника общество неизменно попадает в тупик. «И что, сейчас у нас нет хороших поэтов?» – спросила она, не имевшая ни малейшего представления о том, что называется современной литературой, и из всех русских поэтов любившая только Лермонтова. «Есть поэты», – сказал я и назвал двух или трех. Но, назвав, почувствовал знакомую тоску – это были просто хорошие поэты, однако поэта истины так и не пришло. Да и я для своих стихов тоже подобрал брошенную дудочку: слова были мои, но мелодия – уже хорошо знакомой.
VI
Однажды, нетерпеливо стягивая с меня рубашку, она вдруг оставила в ней мою покорную голову и, постучав ребром ладони по моей шее, сказала надо мной:
– Теперь я знаю, как Юдифь отрубила голову Олоферну.
И я замер, будто догадавшись, почему она любит эту картину Джорджоне.
– Эй, – подергала она за рубашку. – Я же не Юдифь. Не бойся меня. Я и мухи не обижу. Мне всех жалко. И этого наивного глупого Олоферна. Я бы его и пальцем не тронула. Я ведь улитка.
Так впервые она назвала мне свое имя.
Я перевез к ней почти все свои альбомы, и по вечерам мы рассматривали их. Я учился у нее смотреть заново. Авторитетов для нее не существовало. Сальвадора Дали, восторг моей юности, она называла ремесленником, штукарем.
– Я смотрю на его работы, и мне хочется ему помочь, он ничего не понимает в цвете – все это раскрашенная графика, а не живопись. Разве можно делать такую скучную голубую заливку на полкартины? Каждый кусочек полотна должен сверкать, он должен нести максимум информации, хотя бы цветной. А у него провалы, пустоты. Вот смотри, Ван-Гог – вот Ван-Гог цвет чувствовал. Вот у него желтый, а рядом, смотри, синий или голубой. А где зеленый, там красный. Они поддерживают друг друга, уравновешивают. Это не я выдумала. Это закон. Я сама все предметы вижу в спектре. Но даже если этого не дано, этому можно научиться, надо только очень много смотреть. Нет, у Дали есть, конечно, картины. Он мастер, но не художник. И у него ужасный вкус. Если бы он поменьше писал свою жену… Я уже давно поняла, что публику привлекают не самые талантливые, а самые ловкие. Главное – заставить ее говорить о себе. Убедить, что ты гений. Вот в чем искусство. Самый яркий пример – Пикассо. Что он только ни вытворял, а ему аплодировали. Или кивали с важным видом. Зрители – они ведь не понимают ничего, поэтому боятся прослыть невеждами. А Пикассо понимает, что они невежды, и смеется над ними. Это самый большой фокусник.
– Но у Пикассо много прекрасных работ, – заступался я за Пикассо, которого любил и считал, что понимаю за что.
– Еще больше ужасных. Он просто очень умный человек, он очень умело морочил голову.
– Он не морочил. Он делал, что хотел. Он искал новые формы, новые средства выражения. Он вообще все перевернул. Я думаю, что он очень большой художник. Он художник для художников. Он многолик, как Протей.
– Нет, – спокойно качала она головой, ничуть не тронутая моей апологетикой. – У него нет ничего такого, чему стоило бы учиться. Даже линия его мне не нравится – рваная какая-то.
– Ну ладно, – горячился я. – Бог с ним, с Пикассо. Но почему тебе не нравится Гойя? Для меня это величайший психолог в живописи. Больше таких не было. Даже Леонардо да Винчи не психолог. Он просто дьявол или Бог. А Гойя… «Маха обнаженная» – это черт знает как здорово! Я влюблен в нее уже тридцать лет.
– Она плохо написана, – быстро, виновато сказала Улитка, словно ей было больно меня огорчать. – Ну посмотри, – приглаживала она передо мной разворот репродукции и прикрывала верхнюю часть картины, оставляя ноги, живот и едва намеченный треугольник. – Вот это неплохо, почти хорошо, правда ступни красноваты, будто натерты, но… ничего. А здесь, – и она прикрывала нижнюю часть, – здесь все неправильно, торс вытянут, он должен вот здесь кончиться… И лежать так невозможно – нижняя линия бедра должна идти вот сюда. А груди… Особенно правая – она не может быть такой, даже если ее накачать парафином. И голова большая… Нет, тут все не так, – голос звучал мягко, увещевающе, так говорят с детьми. – И ноги нехорошо лежат. У нее нехорошая поза. Разве так лежит женщина? Вообще по цвету она похожа на молочную сосиску.
Однако «Маху» я ей тем более не собирался уступать и говорил, что в неуравновешенности ее позы, в диспропорции верха и низа проступает правда мира, захваченного как бы врасплох со всеми его неправильностями, погрешностями, со всем тем тайным, подспудным, мятежным, мятущимся, что и есть наша подлинная жизнь, какой бы улыбкой мы ни пытались ее скрыть.
Но она слушала меня вполуха, и я было уже начал думать, что у нее полная путаница в голове и что нам придется со всем этим постепенно разобраться, как вдруг она сказала:
– Веласкес – вот кто гений. Посмотри, как у него…
Действительность она не принимала. Она говорила: «Когда я построю дом, я обнесу его высокими стенами и буду гулять в саду, и мне все равно, что там снаружи». И когда я начинал говорить ей о нашей истории или о нашем горестном настоящем, она пожимала плечами:
– Зачем ты мне это рассказываешь? Я не хочу знать, это не мое.
А я говорил ей, что без знания прошлого и настоящего она не сможет расти, и что мы начинаем вглядываться в прошлое с того момента, как понимаем, что мы гости, а не хозяева за сегодняшним столом, и что скоро нас сменят другие. Что действительность относится к таланту, как ракушка-жемчужница к застрявшему в ней камушку. Она его терпеть не может, но превращает в перл.
– Нет, – говорила она. – Смысл настоящего искусства только в красоте и гармонии, больше ни в чем. А красота и гармония выше прошлого, настоящего и будущего. Они вечны.
Мне нравилось все, что она говорит, даже если я не был с ней согласен. Но тревога моя не унималась.
Иногда я звонил ей по телефону и молчал.
– Ну что с тобой? – спрашивала она. – Говори немедленно, что с тобой. А то я не буду спать всю ночь.
И я бормотал в ответ что-то нечленораздельное, но бодрое.
– Ты вот что, – говорила она, – ты сначала сформулируй, что ты хочешь мне сказать, а потом звони. Договорились? А то я так не могу, я не знаю, что делать, как тебе помочь. Я и так думаю о тебе все время. Это даже мешает мне работать.
– Спасибо, – говорил я и вешал трубку. И сидел, обхватив голову руками, и не хотел жить.
А потом я снова набирал ее номер и на ее радостное «Алло!», будто у нее там шло невесть какое празднество, говорил:
– Я сформулировал.
– Ну? – радостно вопрошала она.
– Я тебя люблю.
– Я тебя тоже очень люблю.
– Только не говори «очень».
– Я тебя ужасно люблю.
– Я тебе поверю, когда ты просто скажешь, что любишь, – говорил я, кажется, начиная понимать, что со мной, – она меня не любила. Она дружила со мной.
Она сама сказала, что не может любить. Что боится любви. Что если она полюбит, то потеряет все сразу – свою живопись, свою свободу, свою голову, потому что иначе она любить не умеет.
– Если я полюблю, я погибну, – говорила она.
Я не хотел ее гибели, но я хотел ее любви.
VII
Песочные часы… На многих ее картинах были песочные часы. Она их любила. Они показывали не время, они показывали, как радость перетекает в печаль. Печаль была обратима – надо было только перевернуть колбочки. Иногда радость стекала в верхнюю прозрачную сферу прямо с неба, материализуясь в образе голубой хризантемы или белого мака, а в нижнюю капали слезы.
– Это все слишком красиво, – говорил я. – Правда не может быть слишком красивой. Она скорее уродлива.
– Не хочу такой правды, – говорила она.
Песочные часы держала на ладони на уровне плеча ее постоянная героиня – она сама. Иногда она задумчиво стояла на коленях среди высокой травы, в другой руке у нее был лысый одуванчик с двумя-тремя неоторвавшимися парашютиками. Листья одуванчиков были ее любимой едой. К этому ее приучила бабушка. Одуванчики со сметаной. Черепаха тоже предпочитает одуванчики, заметил я. Вот видишь, сказала она, посчитав, что я сделал ей комплимент.
В саду у бабушки росли самые красивые цветы, ни у кого из соседей таких не было. На них ходили любоваться со всей округи. Она любила ночевать в садовом сарайчике. Из всех углов торчали пучки засушенных трав и цветов. Из сена шло вкрадчивое неумолчное шуршание, будто кто пробирался к ней и никак не мог пробраться, сквозь рваную щель в кровле были продеты пять лунных спиц – это сама луна пыталась ее нащупать во тьме ночи. Превозмогая страх, она отворяла дверь, выходила в сад, и ее обступали цветы, холодные, остывшие, влажные, полные лунного света и ночной лунной тяжести, а точнее, печали, которая только днем походила на радость.
Бабушка любила делать подарки. За подарками ездила в Москву, деньги же выручала за цветы на базаре. Улитка этого не знала. Однажды они столкнулись в цветочном ряду. Улитка сделала вид, что ни о чем не догадалась, а бабушка – что здесь случайно. Вместе с цветами они пошли домой. Больше цветы не продавались.
Подарки были дорогие.
– Ты бы видел мое пальто, от самого Зайцева!
Но при мне она надевала его раза два. Месяцами она ходила в чем-нибудь одном. Одежда или отдавалась подругам, или выбрасывалась. Меховую, по последней моде, шапку она оставила у меня. Я приносил обратно, но она опять запихивала ее в мою сумку:
– Я все равно не буду ее носить!
– Но почему?
– Она мне мешает думать.
Однако красивые вещи она любила. Они ее возбуждали. Она натягивала колготки в крупную ажурную сетку, вставала на высоченные каблуки и так весь день гарцевала перед начатым полотном.
– Когда я пишу, я должна быть хорошо одета, я должна хорошо выглядеть – это меня мобилизует.
Это не было правилом – но на данный момент это могло быть так. Один Бог знает, из чего она черпала вдохновение. Но вряд ли из одного и того же. Каждый раз источник был другим. Вид собственных стройных ног в черной сетке ее возбуждал. Лежа рядом со мной, она воздевала ногу, сгибала в колене и прищуривалась:
– Смотри, сетка – она организует объем плоти. Ногу ведь очень трудно нарисовать. Кожа отсвечивает, переходы неуловимы, форма ускользает. А так, смотри, ее облегают клеточки, они лепят ногу – так, так и так. Вот тут, – указывала она на лодыжку, – сгущение, а тут наоборот… клетка большая и свет рассеивается. Объем – это ведь количество света. Сетка пропускает его как раз столько, сколько нужно, чтобы уловить форму. Можешь попробовать нарисовать мои ноги. Ты увидишь, как это легко.
Возбуждала ее и музыка. Даже не музыка, а звуки, звуковой поток. Она работала под музыку, неважно какую, лишь бы не было тишины. Тишина ее угнетала. Она могла крутить одну кассету с утра до вечера. Мой магнитофон она забраковала только потому, что в нем не было автореверса.