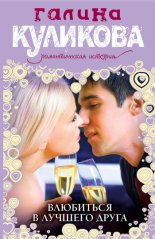Зеленый шатер Улицкая Людмила
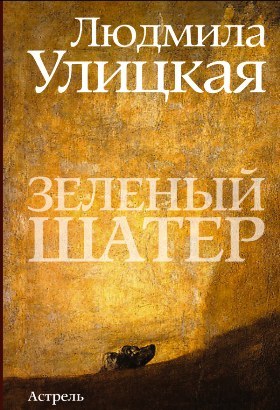
Дочитав до конца, начинал сначала. Он находил в нем всё новые драгоценности мысли, чувства и слова, но одновременно отмечал слабости, и слабости ему были тоже симпатичны. Они толкали к размышлениям. Схематичная Лара, постоянно совершающая поступки, свидетельствующие о ее глупости и себялюбии, не нравилась Виктору Юльевичу. Зато как она нравилась автору!
Виктор Юльевич сомневался, нужны ли такие нагромождения случайностей, совпадений и неожиданных встреч, пока не понял, что все они изумительно завязываются в сцене смерти Юрия Андреевича, в параллельном движении трамвая с умирающим Живаго и мадемуазель Флери, неторопливо шествующей в том же направлении, к освобождению – один покидал землю живых, вторая покидала землю своего рабства.
«Великий постскриптум к русской классической литературе», – вывел Виктор Юльевич свое заключение.
Десятого января, в последний день каникул, Виктор Юльевич позвонил Кате. Они встретились около магазина «Ткани» на Солянке. Он поблагодарил девушку за огромное счастье, которое она ему доставила.
– Я сразу, как только прочитала роман, поняла, что есть человек, которому надо его дать.
После чего она выложила ему то, о чем бы он ни в коем случае ее не спросил: откуда взялась рукопись.
– Моя бабушка дружит с Борисом Леонидовичем чуть не всю жизнь. Она его роман перепечатывала. Это бабушкин экземпляр.
Виктор Юльевич накрыл горячей рукой болтливый рот:
– Никогда и никому этого не говорите. И мне вы этого не говорили.
Он держал ладонь на ее губах, и они чуть-чуть двигались, как будто что-то шептали беззвучно.
Ей только что исполнилось семнадцать лет. Она едва вышла из детства, в ней еще проглядывали ухватки ребенка. Длинная голая шея торчала из пальто. Шарфа не было. Шапка была детская, капором, с завязками под подбородком. В светло-карих глазах – обида, слезная влага.
– Я же никому – только вам. Я знала, что вам понравится. Ведь правда?
– Не то слово, Катя. Не то слово. Такие книги меняют жизнь. Я вам благодарен по гроб жизни.
– Правда? – ресницы взметнулись, глаза вспыхнули.
Господи, да это же Наташа Ростова! Вылитая Наташа Ростова!
Перехватило дыхание.
После окончания Катей школы они поженились. Первыми об этом узнали, конечно, «люрсы». Они были в восторге. Катин живот к сентябрю был заметен внимательному глазу, и он вызывал у «люрсов» дополнительное восхищение.
Это событие сблизило их с учителем настолько, что после заседаний кружка они, случалось, совместно распивали бутылку хорошего грузинского вина, которое не переводилось в доме Виктора Юльевича. Даже стали звать его Викой – уже не за глаза. И он не возражал, сохраняя в общении старомодное и уважительное «вы».
Заседания кружка любителей русской словесности по-прежнему проходили в комнате Ксении Николаевны, но жил Виктор Юльевич теперь в квартире Катиного родственника, уехавшего на север и оставившего им в пользование квартиру у метро «Белорусская», в доме железнодорожников, окнами на пути и с круглосуточным аккомпанементом: поезд отправляется, поезд прибывает…
Последний бал
Это были лучшие годы Виктора Юльевича: увлекательная работа, поклонение учеников, временно счастливый брак. Образовался даже известный достаток – теперь два вечера в неделю он частным образом репетиторствовал.
Работал он очень много, но «люрсы» по-прежнему собирались у него по средам. Выпуск пятьдесят седьмого года был у Виктора Юльевича любимым, у них он с шестого класса был классным руководителем, знал пап-мам, бабушек-дедушек и братьев-сестер. Разница в возрасте в пятнадцать лет уже начала сокращаться: мальчики становились молодыми мужчинами, да и женитьба учителя на их сверстнице уменьшала расстояние.
Конец пятьдесят шестого года ознаменовался рождением дочки – первого декабря Катя родила восьмимесячную девочку, двухкилограммовую крошку, очень складненькую. Назвали ее Ксенией, в честь бабушки. Но даже этот дипломатичный ход не смог залатать сердечной раны Ксении Николаевны, полученной от женитьбы сына. Она не допускала мысли, что другая женщина будет готовить Вике завтрак, разговаривать с ним по вечерам, ждать его из школы, будить по утрам. К тому же она испытывала к Кате особую неприязнь – химическая реакция крови, взаимоотношения свекрови и невестки! – считала, что малолетка его обольстила, совратила, обманула, словом, вынудила к женитьбе.
Педагогический коллектив придерживался на этот счет другого мнения. Учительская чуть не взорвалась от слухов, пересудов и сплетен, которые в среде учителей, вернее учительниц, были особенно злыми и грязными. А уж когда родилась дочка, педагогический состав зашелся от подлого счастья. Преподавательница математики, Вера Львовна, загибая пальцы, наглядно продемонстрировала в учительской, в каком именно месяце третьей четверти должна была Зуева забеременеть, чтобы родить в декабре.
Парторг Рыбкина, она же завуч, советовалась с вышестоящим руководством и по линии роно, и по райкомовской линии, что делать с учителем-преступником, потому что налицо был факт растления несовершеннолетней. С другой стороны, малолетка за истекшие месяцы стала совершеннолетней, и одновременно нарушитель уголовного законодательства оформил брак. Но не оставлять же без наказания?
Учителя дружно и напряженно замолкали, когда Виктор Юльевич входил в учительскую. Руководство школы, ее святая троица – директор, парторг и профорг, – сначала было хотели собрать педсовет по этому поводу. Но Лариса Степановна предпочла провести предварительный зондаж начальства. Докладные были написаны в роно и в райком партии.
Именно в эту последнюю школьную зиму Виктор Юльевич начал писать книгу, к которой несколько лет готовился. Уже и название родилось – «Русское детство». Его не особенно заботил жанр книги: сборник эссе или монография.
Он не претендовал на открытие, но отчетливо понимал, что интересы его лежат между разными дисциплинами: возрастной психологией, педагогикой, антропологией в самом широком смысле слова. При этом логика его мысли выстраивалась скорее по тем законам, которыми пользовались медики и биологи. Здесь сказывалось влияние друга Колесника.
Он описывал, как ему представлялось, зону нравственного пробуждения подростка, которая в норме является таким же обязательным этапом, как прорезывание зубов, гульканье, как первые шаги, совершающиеся в исходе первого года. То есть вся та волнующая и рутинная последовательность развития человека, которую он наблюдал теперь у себя дома.
- Так начинают. Года в два
- От мамки рвутся в тьму мелодий,
- Щебечут, свищут – а слова
- Являются о третьем годе…
Эта поэтическая модель Пастернака была для него убедительней всех выкладок возрастной психологии. Нравственное созревание представлялось ему столь же закономерной особенностью человека, как и биологическое, идущее параллельно. Но пробуждение происходит по-разному, и зона эта сильно варьирует в зависимости от индивидуального склада и некоторых других причин. Нравственное пробуждение, или «нравственная инициация», как он полагал, происходит у мальчиков в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет, обычно при наличии специальных неблагоприятных обстоятельств – несчастье или неблагополучная семейная жизнь, унижение достоинства личного или достоинства близких людей, потеря родного человека. Словом, переворачивающее душу, пробуждающее ее событие. У каждого человека имеется своя собственная «болевая точка», и именно с нее и начинается эта персональная революция личности. Почти обязательным в этом процессе, по мысли Виктора Юльевича, оказывается присутствие «инициатора» – учителя, наставника, старшего друга, а если родственника, то достаточно дальнего. Как и в случае с крещением, в обычных условиях, вне опасности для жизни, кровные родители редко бывают восприемниками. В исключительных случаях таким «инициатором» может послужить даже вовремя пришедшая в руки книга.
Далее, после всестороннего анализа этого явления, автор описывал несколько случаев инициации такого рода, почерпнутых из русской классической литературы, рассматривал созревание современных подростков и анализировал причины столь позднего созревания, и, что самое существенное, отмечал катастрофическую тенденцию «избегания инициации».
Виктору Юльевичу приходило также в голову, что именно в этом возрасте у лютеран и англикан происходит процесс конфирмации, то есть «подтверждения», осознанного принятия веры, еврейские мальчики проходят «бар-мицву», принятие в сообщество взрослых, а мусульмане совершают обрезание. Таким образом, оказывалось, что сообщества людей религиозных придают особое значение этому переходу от детства во взрослое состояние, в то время как мир атеистический полностью утратил этот важнейший механизм. Нельзя же всерьез считать его заменой вступление в пионерскую или комсомольскую организации.
Общество опускается ниже нравственного минимума, когда число не прошедших в ранней юности процесс нравственной инициации превышает половину популяции, – такая точка зрения сложилась у Виктора Юльевича в ту пору.
У него возникли серьезные разногласия с покойным Выготским по части формирования и смены культурных интересов, но это не имело большого значения: возрастная психология была «закрыта» вместе с генетикой и кибернетикой. Собственно, никаких надежд на публикацию своей будущей книги Виктор Юльевич не питал. Но какое значение могли иметь эти прагматические соображения, когда жизнь летела на огромной скорости, и в ней было все, о чем можно мечтать: творчество, чудесная юная жена с той самой пеленкой с желтым пятном, крохотный ребенок с удивительными пальчиками, губками, глазенками, маленькое животное, с каждым днем все более очеловечивающееся, ученики, своим восхищением поднимающие его на невиданную высоту. Улыбался во сне, улыбался, просыпаясь.
Страна тем временем жила своей безумной жизнью – после невидимой свары у гроба Джугашвили, тайной борьбы за власть, после возвращения первых тысяч лагерников и ссыльных, после необъяснимого, нежданного XX съезда партии, – начались и окончились венгерские события.
Виктор Юльевич, погруженный в свое новое состояние, следил за происходящим вполглаза. «Внутренняя часть» жизни в этот период оказывалась важнее «внешней».
В сентябре, в первые дни занятий, старшая пионервожатая Тася Воробьева, симпатичная студентка-вечерница пединститута, с которой у Виктора Юльевича были хорошие отношения, сунула ему пачку «слепых» листочков с перепечаткой доклада Хрущева на XX съезде партии. Хотя прошло уже полгода с момента выступления, до сих пор он не был нигде опубликован. Этот полуправдивый и опасливый доклад распространялся только по высшим партийным каналам, рядовые партийцы получали сведения на закрытых собраниях, со слуха. Текст шел под грифом «Для служебного пользования», не для рядовых. Это была все та же советская фантасмагория. Секретный доклад для одной части народа, который он должен хранить в тайне от другой. Государство с поврежденным рассудком.
Виктор Юльевич внимательно прочитал этот текст, о котором так много говорили. Интересно, очень интересно. История вершится на глазах. Тиран пал, и через три года свора осмелела поднять против него голос. Где вы раньше были, такие умные? Документ, в сущности, великий по своим последствиям, был одновременно страшным и разоблачительным для партийного руководства страны. Этот перепечатанный доклад, ходивший по рукам, стал первым подпольным изделием самиздата, который в те годы еще не обрел своего названия.
Перепечатка доклада Хрущева уже ходила по Москве, а для рукописи «Доктора Живаго» час еще не пришел. Зато хождение начали стихи из романа.
«Странное дело, – размышлял Виктор Юльевич, – как во времена Пушкина, ходят по рукам стихотворные списки. Какая перемена! Глядишь, и сажать перестанут!»
Окоченевший от страха народ оживал, шептался смелее, ловил «враждебные» голоса, печатал, перепечатывал, перефотографировал. Пополз по стране самиздат. Это подпольное чтение еще не утвердилось как новое общественное явление, каким станет в последующее десятилетие, но перепечатанные смельчаками бумажки уже шуршали по ночам в руках жадных читателей.
Хрущев так все перебаламутил этим разоблачением культа личности Сталина, что вместо прежней ясности возникло нечто непонятное. Все замерли в ожидании. Судьба учителя литературы, который женился на своей ученице и произвел ребенка не совсем по расписанию, все не решалась, несмотря на все усилия школьного руководства.
В конечном итоге дело было рассмотрено. Роно оказалось более требовательным, чем райком. Было принято решение об увольнении, но спохватились, что прежде он должен «довести» выпускников. Чтобы не спугнуть учителя, о планирующемся увольнении решено было ему пока не сообщать – да и в самом деле, если он уйдет посреди года, то кем же его заменить? До Виктора Юльевича постоянно доходили какие-то неопределенно-неприятные слухи, но он к этому времени и сам решил уходить, как только закончит учебный год.
К весне пятьдесят седьмого кружок любителей русской словесности превратился в репетиторскую группу по подготовке к экзаменам – три четверти класса собирались на филфак. Миха регулярно ходил на эти занятия, хотя по литературе был в классе первым. Он знал, что евреев на филфак не берут, но знал также, что ничего другого ему не нужно.
Старший двоюродный брат Михи, Марлен, дразнил его, предлагал помочь с поступлением в рыбный институт, уверял, что рыба для еврея гораздо более пристойная профессия, чем русская литература, и выводил этим Миху из себя.
К весне слух о том, что Виктора Юльевича собираются выгонять из школы, дошел до десятиклассников. Говорили, что учителя написали на него какую-то кляузу, связанную с женитьбой на бывшей ученице. Ребята готовы были куда угодно идти и писать, чтобы защитить любимого учителя. Ему не без труда удалось внушить им, что он и сам собирается уходить из школы, давно хочет заниматься научной работой, писать книги, и уж они-то могли бы понять, как надоели ему школьные тетрадки, тетки, политинформации и все эти хренации, и только из-за них, своих любимых «люрсов», он не ушел из школы сразу же после женитьбы.
– Тем более, – добавлял он, – я свою замену вырастил. Сами знаете, сколько преподавателей литературы даст наша школа через несколько лет.
Это правда. С тех пор как он работал в школе, половина каждого выпуска шла на филфак – кто в университет, кто в педагогический институт. Девочки послабее шли в библиотечный, в архивный, в институт культуры. Небольшая, но славная армия ребят была обучена редкому искусству читать Пушкина и Толстого. Виктор Юльевич был убежден, что его дети тем самым получили достаточную прививку, чтобы противостоять мерзостям нашей жизни, свинцовым и всем прочим. Тут он, возможно, ошибался.
Гораздо более, чем последними экзаменами, «люрсы» были увлечены подготовкой к выпускному вечеру. Затевался грандиозный спектакль. Заранее было объявлено, что никакого алкоголя не разрешается. С одной стороны, запрет этот можно было легко обойти, с другой – никого это особенно не волновало. Главное, всем было ясно, что прощание со школой было расставанием с Виктором Юльевичем, и прощание это было удвоено тем, что сам Виктор Юльевич покидает школу вместе со своим выпускным классом, о чем он им успел сказать.
Ребята держали в секрете свои приготовления, но Виктор Юльевич догадывался о широкомасштабности предстоящего события, поскольку до него дошло, что несколько мальчишек вместо усиленной подготовки к экзаменам проводят дни и ночи в мастерской скульптора Лозовского, отца Володи Лозовского, и строят там нечто грандиозное.
Илья увеличивал фотографии и делал теневые картинки, которые проецировались на стенку. Это была оригинальная сценография, никем до него не придуманная.
Миха, отодвинув в сторону учебники, писал пьесу в стихах. Там был миллион действующих лиц, от Аристофана до Иванушки-дурачка, от Гомера до Эренбурга.
Когда выпускные экзамены были успешно сданы, настал день выпускного бала. Это ежегодное торжество имело свои устоявшиеся каноны. Девочкам шили платья, даже белые. Они сооружали на головах парикмахерские прически, красили ресницы, и капроновые чулки в этот день тоже были разрешены.
Это была генеральная репетиция будущего первого бала, который у большинства никогда не состоится, ложное обещание грядущего сплошного праздника жизни, которого тоже не будет, расставание со школой, которое для всех без исключения было событием радостным, но в этот день окрашивалось фальшиво-печальными красками.
На выставленных сплошными рядами стульях сидели родители, главным образом мамы, тоже принаряженные и не менее взволнованные, чем их дети.
Когда сложная рассадка почти закончилась, случился неприятный инцидент. Два девятиклассника, Максимов и Тарасов, затесались в толпу выпускников и намерены были совершенно контрабандно ухватить кусок не причитающегося им праздника. Их вывели с позором, и они оскорбленно удалились. Предполагалось, что они покинули здание школы.
Началась торжественная часть. Вручали аттестаты зрелости и произносили речи. Начали вручение с медалистов – их было в тот год четверо – три серебра и одно золото. Золотую медаль выслужила Наташа Мирзоян, восточная красавица и подлиза. Серебряные – Полуянова, Горшкова и Штейнфельд по прозвищу «Благдаряк», который получил его еще в младших классах за особенности речи: вместо общепринятого, но малоупотребляемого «спасибо» он говорил «благодарю».
«Трианон» до медальных высот не поднялся. Учились все прилично, но отличниками сроду не бывали.
После торжественной части произошла заминка. По плану должен был идти спектакль, но по десяти разным причинам дело не ладилось, нужно было как минимум сорок минут, чтобы собрать по кускам разваливающееся действие. Пустили музыку. Но для танцев вдохновение еще не пришло, и все немузыкально слонялись. В соседнем классе спешно пришивали последние цветы к венкам, накладывали грим и доучивали тексты.
Виктор Юльевич беседовал около окна с одной из родительниц. Заметил, что от двери машет рукой Андрей Иванович и делает знак – выйти!
Оказалось, что изгнанные из зала Максимов и Тарасов отнюдь не покинули помещение школы, а, напротив, забрались на чердак и распили там бутылку портвейна. На выходе с чердака они были взяты с поличным и доставлены в кабинет директора. Оба были пьяны, и это видно было невооруженным глазом.
Виктор Юльевич вошел, и директриса театрально обратилась к нему:
– Вот, полюбуйтесь, наши ученички!
Вид у тех был такой жалкий, что, ясное дело, они больше нуждались в утешении, чем в наказании.
Виктор Юльевич взял со стола директрисы пустую бутылку, повернул ее, рассматривая этикетку:
– Да, достойно порицания. Страшная гадость.
Директриса вела свою партию:
– Значит, так, родители ваши сейчас за вами придут, и это будет отдельный разговор. А вот если вы не скажете, кто там еще вместе с вами на чердаке безобразничал, будете из школы исключены!
Не было с ними никого, но Ларисе Степановне помстилось, что там была целая компания.
– Что ты смотришь на меня, Тарасов, наглыми глазами? К тебе, Максимов, это тоже относится. Называйте, называйте фамилии ваших сообщников. И не думайте, что вы их выгородите и им сойдет. Все равно найдем. Только себе хуже сделаете.
– Да, нехорошо, – кисло произнес Виктор Юльевич. – А где брали-то?
– В сотом гастрономе, – охотно ответил Максимов.
– И что же, дома у вас тоже этот портвейн пьют?
– Да мать вообще не пьет, – солгал Максимов.
Это мутное разбирательство длилось до тех пор, пока не приехал на служебной машине отец Тарасова, подполковник МВД. Лариса Степановна изложила ему сюжет. Тот стоял, наливаясь злобой.
– Разберемся, – хмуро сказал подполковник, и ясно было, что парню не поздоровится.
– А твоя мать когда придет? – Ларисе Степановне, видимо, тоже наскучило затянувшееся и бесплодное объяснение, тем более что ее место сейчас было в зале.
– Мать к тетке в Калугу поехала.
Работа мысли отражалась на лице Ларисы Степановны.
– Я возьму его под свою ответственность, а концерт кончится, отведу его домой. От греха подальше, а то ненароком в милицию заберут. – Виктор Юльевич положил левую руку на плечо Максимова.
– Идите, – махнула рукой. – И без матери, Максимов, в школу не приходи.
Замечание это не имело ровно никакого смысла, поскольку занятия уже закончились, а до следующего учебного года было три месяца каникул.
Виктор Юльевич привел бедолагу Максимова в зал, указал на стул:
– Сидите, Максимов, тихо и не привлекайте внимания.
Максимов благодарно кивнул. Мать ни в какую Калугу не поехала, к ней хахаль из Александрова притащился, и они дома выпивали.
Миха, готовя спектакль, пытался зарифмовать все свои обширные знания в области литературы. Будущие актеры тоже творчески отнеслись к Михиному сочинению, им тоже было что добавить к шедевру, и сценарий достиг двухсот страниц.
Недели за две до вечера, в самый разгар экзаменов, когда все зубрили алгебру и химию, Илья взял Михину либретку, постриг все в мелкую лапшу, как-то перетасовал, и образовался сюжет, который первоначально даже не прощупывался, а теперь получилось смешное путешествие группы идиотов с их подлинными именами, готовых вот-вот влететь в неприятность, из которой они выпутываются исключительно благодаря вмешательству высших сил, которые представляет Виктор Юльевич в разных обличьях, от Зевса до постового милиционера.
Виктора Юльевича изображал Сеня Свиньин, лучший в классе актер. Он, между прочим, и собирался в театральное училище. Ему сварганили довольно удачную маску из папье-маше, изображающую учителя, правую руку он не вдел в рукав, а рукав завернули до половины и пришпилили.
Глупо все это было до изумления, но и безумно смешно. Статуя Зевса падала, разбиваясь на куски, из обломков вылезал, отряхиваясь, Свиньин-Шенгели, Александр Сергеевич Пушкин искал какой-то потерянный предмет, и в конце концов оказывалось, что он ищет стройную ножку, и штук пятьдесят манекенных ножек с вытянутыми вверх носками проплывали по сцене, чеховское ружье в виде деревянной винтовочки для дошкольников попадало в руки тургеневских охотников и стреляло, и тряпочная чайка с отвратительным криком падала на середину школьной сцены…
И вся эта фантасмагория крутилась, конечно же, вокруг дорогого Юлича.
Санечка Стеклов в кудрявом парике и бархатном халате сидел за пианино и доводил своим сопровождением до блеска те места, где не совсем блистал текст.
Потом хором спели гимн, сочиненный, разумеется, все тем же Михой, и было бы непростительным упущением его не привести:
- Он многорук и многоглаз,
- От смерти каждого из нас
- Он хоть единожды, да спас,
- И потому идет рассказ
- Начистоту и без прикрас,
- Да, Виктор Юльевич, про вас!
- Вы показали высший класс,
- Что в жилах кровь течет, не квас,
- Зовите, и в единый час
- К вам соберется весь наш класс,
- И от болот и до пампас
- Сопровождать мы будем вас,
- Куда б вы нас ни повели,
- Хотя б на край земли.
Когда пение закончилось, в зале не было ни одного преподавателя. Все удалились в учительскую и тихо возмущались: нанесено оскорбление! По этой причине они не увидели заключительной сценки представления – ребята сбились в кружок и стали обсуждать, что бы им подарить на расставание любимому учителю. Были заслушаны разные более или менее комические предложения. Решено было, что дарить надо лучшее из возможного, что подарок должен быть безусловно ценным и «нерасходным», то есть ни съесть, ни выпить. А также полезным. И доставлять удовольствие! Наконец втащили на сцену огромную, в человеческий рост, коробку, сняли переднюю крышку, обнаружилась гипсовая скульптура – стройная девушка в тунике. Она довольно натурально стояла в положенной античной позе, пока ей не скомандовали:
– Вперед!
Статуя ожила. Это была покрытая побелкой Катя Зуева-Шенгели. Надо сказать, что они долго уговаривали ее сыграть эту роль.
Она прошла через зал и под аплодисменты села у ног Виктора Юльевича.
Из зала выносили лишние стулья, накрывали столы. Учителей видно не было. Виктор Юльевич отправился в учительскую, чтобы попытаться «сломать» забастовку педагогического состава.
Его ждали. Лариса Степановна вышла вперед:
– От имени учительского коллектива, Виктор Юльевич, мы вынуждены вам сообщить… – начала торжественно директриса.
Но Виктор Юльевич быстро сообразил, что именно ему сейчас скажут. И он сделал первое, что пришло ему в голову. Он вытащил из кармана пиджака очешник, вынул старомодные очки в металлической оправе, надел на свой длинноватый, правильно нарисованный нос, приблизился к Ларисе Степановне, склонился к ее знаменитой брошке-бабочке, прицепленной к белому воротничку, и сказал умильным голосом:
– Ой, какая прелесть! Какой миленький поросеночек!
– Вон отсюда! – хрипло и тихо произнесла Лариса Степановна.
«Побагровевшим от ярости голосом», – подумал литератор.
Из зала послышалась музыка.
– Да что вы так нервничаете? Пойдемте, выпьем лимонада и потанцуем! Ребята вас ждут!
Он улыбался своей обаятельной улыбкой, а про себя думал: «Сукин же я кот! Напрасно я их так унизил. А Лариса Степановна, бедняжка, у нее губки углами вниз, как у обиженной девочки. Того и гляди зарыдает… Какие же они плохие дети… но что теперь делать – не прощения же просить!»
На столе Ларисы Степановны лежал приказ об увольнении.
Она собиралась предъявить его в конце вечера. Было самое время. Дрожащей рукой она нашарила на столе судьбоносную бумагу:
– Вы уволены!
В дверь учительской стучали. «Люрсы» искали своего учителя. Если говорить с полной откровенностью, у них тоже было кое-что заготовлено. Не плохой портвейн, а хорошее грузинское вино.
Дружба народов
Шел пятьдесят седьмой год. Москва трепетала перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который должен был вот-вот открыться. Выпускники готовились к поступлению в институт. Перейдя из простой молодежи в категорию студентов, кроме благ образования, они получали освобождение от службы в армии. Все вкалывали с утра до ночи, каждый день Виктор Юльевич занимался с абитуриентами. К своим частным ученикам он присоединил несколько «своих», бесплатных.
«Трианону» армия не грозила. Илья обладал исключительным даром плоскостопия, Миха был близорук, Саня, со своими скрюченными пальчиками, тоже в автоматчики не годился. Словом, все они имели небольшие дефекты, освобождающие от воинской повинности. Илья занимался лениво, Саня, подавший документы по совету бабушки в иняз, не занимался вообще, валялся на диване, слушал музыку и читал книжки, даже иностранные. Хуже всего дело обстояло у Михи: евреев на филфак не брали, а он определился окончательно и бесповоротно – только туда. Кроме всего прочего, он был единственный, кто всерьез думал о стипендии. Родственная помощь обещана была до окончания школы. Конечно, на крайний случай можно было пойти на вечерний, но так хотелось пожить настоящим студентом.
– Я вообще не понимаю вашей гуманитарной страсти. Одно дело – книги читать, понимать, что там написано, удовольствие от них получать, но почему надо делать из удовольствия профессию? – Илья презрел филологию и принял самостоятельное решение – в Ленинградский институт киноинженеров, ЛИКИ.
У него в Ленинграде объявился дядя, который разыскал его вскоре после смерти отца. Он приглашал пожить до поступления у него. Получив аттестат, Илья сразу же уехал в Ленинград. Денег он скопил неправедным путем огромную сумму в полторы тысячи рублей, три материнские зарплаты. Кроме поступления в институт, было у него еще и намерение гульнуть.
В тот год, в связи с Московским фестивалем, сроки вступительных экзаменов в вузы были перенесены в разные стороны, чтобы абитуриенты не скапливались в столице и не мешали празднику.
Киноинженерный институт Илье очень понравился. Дядька Ефим Семенович сказал, что до войны отец Ильи там работал, и до сих пор сохранились несколько человек, которые его помнят. Он стал звонить по разным телефонам, но, к сожалению, тех, кто помнил Исая Семеновича, там не было, а кто был, тот не помнил.
Илья сбежал из Ленинграда в тот день, когда узнал, что начало экзаменов там как раз совпадает с открытием фестиваля. Этого великого события он не мог пропустить. Он подхватил свой фотоаппарат и вернулся в Москву с зажатым в руке паспортом, который он предъявил – с момента покупки обратного билета в кассе Московского вокзала до родного дома – пять раз: милиционерам, контролерам, дружинникам и просто желающим взглянуть на документ. В Москву пускали только москвичей.
Илья зашел к Михе. Оказалось, что Миха стал-таки студентом. Правда, поступил он не на филфак университета, а в скромный педагогический институт, где – известная шутка – по статистике, на восемь девочек приходилось два мальчика, один косой, другой хромой. Честолюбивые молодые люди без дефектов в пединститут не рвались.
Поступил Миха легко. Его удачный пол и хорошая подготовка перевесили плохую национальность. Но торжество было отравлено: в день, когда он нашел себя в списке принятых, умерла от воспаления легких бедная Минна, которую он ни разу не навестил в больнице. Она по три раза в году болела воспалением легких, и никак нельзя было предположить, что на этот раз болезнь окончательная.
Теперь он остался наедине со страшной тайной и с тяжким ощущением, что этот стыдный груз останется с ним до конца жизни. Слабоумная Минна была в него влюблена, и как-то постепенно он втянулся в странные сексуальные отношения, иначе не назовешь, хотя сексом в полном смысле слова происходящее между ними тоже назвать было нельзя. Минна подстерегала его в слепом отрезке коридора возле уборной, загоняла в угол и прижималась к нему теплыми и мягкими частями тела, пока он с большой легкостью не вырывался, красный, трясущийся и вполне удовлетворенный. Он готов был убить себя каждый раз после этого ужасного тисканья, клялся, что в следующий раз оттолкнет ее и сбежит, но все не мог этого сделать. Она была ласковая, мягкая, местами волнующе волосатая и совершенно косноязычная, и последнее ее качество исключало огласку.
Он просто умирал от чувства вины и отвращения, мысль о самоубийстве постоянно жила на задворках его сознания. О подсознании тогда еще не заикались.
Илья застал Миху в этом плачевном состоянии. Расспрашивать ни о чем не стал, но поволок его на улицу – развеяться.
Москва была необыкновенно чистая и относительно пустынная. Фестиваль открывался завтра. По пустому городу в разных направлениях шли колонны легковых машин, грузовиков с открытыми бортами, с закрытыми бортами, автобусов старомодных – ЗИСов и ПАЗов – и венгерских «Икарусов».
Всюду были флаги и огромные бумажные цветы, а девушки в то лето носили широкие пестрые юбки, натянутые на толстые нижние, как на зонтики, и талии у всех были перетянуты широкими поясами, а волосы взбиты на макушке.
Преодолев два легких заслона, ребята вышли к скверику у Большого театра. Тут сбилось довольно много народу. Илья указал Михе на двух растерянных и не особо красивых девчонок: давай закадрим!
– Да ну тебя, – обиделся Миха и повернулся, чтобы идти прочь.
– Прости, прости, Миха, я грубый человек! Хочешь, пойдем и напьемся, а? Пошли! В «Националь»!
Почему-то их пустили в кафе «Националь». Возможно, швейцар пошел отлить и забыл заложить щеколду, а может, понадеялся на убедительную надпись «Закрыто на спецобслуживание».
– Пьем коньяк, – твердо сказал Илья и немедленно заказал триста граммов сбитому с толку официанту.
Они выпили триста граммов коньяка с двумя пирожными, потом повторили заказ. Как раз между первым и вторым принятием Михе заметно полегчало, и тут к ним подошел молодой парень с камерой “Hasselblad” на ремне, с виду русский, и спросил, можно ли сесть за их столик.
– Конечно, – отозвался Миха и выдвинул парню стул.
И сразу же разговорились. Парня звали Петей, но оказался он не простым Петей, а бельгийским Пьером Зандом, русского происхождения, студентом Брюссельского университета. Вторые триста граммов они выпили уже втроем и пошли гулять по городу. Фотоаппарат по совету Ильи Пьер оставил в гостинице.
Они гуляли по московскому центру, лучшего туриста, чем Пьер, нельзя было и вообразить. Он узнавал места, в которых сроду не был, все это были ожившие воспоминания родителей и бабушки и прекрасное знание русской литературы.
А вчерашние «люрсы» были лучшими из проводников для тоскующего по России Пети.
В Трехпрудном переулке у маленького деревянного домика Илья остановился и сказал:
– Где-то здесь жила Марина Цветаева.
Пьер все мягчел и слабел, а тут чуть не заплакал:
– Мама моя хорошо знала Марину Ивановну по Парижу. У вас ее и не печатают…
– Печатать не печатают, но все же знаем, – сказал Миха:
- Кто создан из камня, кто создан из глины, —
- А я серебрюсь и сверкаю!
- Мне дело – измена, мне имя – Марина,
- Я – бренная пена морская.
Правда, я больше Анну Ахматову люблю. А Илья вообще увлекается футуристами.
Кто бы кого ни предпочитал, поразительно было то, что вот стоит перед ними живой человек, почти их возраста, мать которого знала Марину Цветаеву. Сам Пьер представлял огромную, давно уже не существующую страну, уехавшую в эмиграцию. Пока гуляли, Петя рассказывал о своей семье, о той бывшей России, которая казалась собеседникам таким же призраком, как Брюссель или Париж. Но как же яростно и остро Петя ненавидел большевиков!
Миха с Ильей, немало обсуждавшие недостатки социализма, впервые встретили человека, который говорил вовсе не о недостатках коммунистического режима: он определял его как совершенно сатанинский, мрачный и кровавый, и не видел никакой существенной разницы между коммунизмом и фашизмом. Каким-то неведомым образом Петя разъединял любовь к России и ненависть к ее строю.
Две недели они практически не расставались. Благодаря Пьеру, втиснувшись в бельгийский автобус, они попали на открытие фестиваля в Лужниках, где три с лишним тысячи спортсменов то расцветали единым цветком, то выстраивались в геометрическом порядке, их руки, ноги и головы согласованно вздымались и опускались, и это было потрясающе захватывающее зрелище.
– Такое же было на гитлеровских парадах, – шепнул Пьер. – Фильмы Лени Рифеншталь в свое время обошли весь мир. Великая сила массового гипноза. Но, правда, очень мощно! И здорово! – вздыхал Пьер и щелкал затвором фотоаппарата. Илья от него не отставал.
Потом был джазовый концерт, массовый заплыв с факелами, какие-то фигуристы в воде, не считая бесконечных песен и плясок ансамблей Советской армии, флота, промышленности, торговли, профсоюзов поваров и парикмахеров.
Пьера совершенно не интересовали ни египтяне, скандирующие «Насер! Насер!», ни чернокожие граждане независимой Ганы, ни израильтяне, тоже пользующиеся большим успехом, особенно у советских людей, клейменных пятым пунктом. Пьера интересовала только Россия.
На третий день фестиваля к ним присоединился воскресший после очередной ангины Саня, и целых две недели они провели в беготне, в радости и веселье, так что Миха почти совсем забыл о Минне.
Илья ни разу не вспомнил о своем несостоявшемся поступлении в институт, а Саня временно отложил свои переживания по поводу рухнувшей музыкальной карьеры. Все влюбились в Петю, в Пьера, в Пьерчика, и никто из них и помыслить не мог о том, как иностранный друг повлияет на их судьбы.
Пьер, как выяснилось, был послан на фестиваль как представитель молодежной газеты, с заданием сделать цикл фотографий о жизни Москвы. Фотографии Москвы он сделал замечательные, в большой степени благодаря своим новым друзьям. Он снял булочную, когда туда доставляли свежий хлеб, речной порт с кранами и портовыми рабочими, детские ясли, дворы с бельевыми веревками и сараями, читающих в метро девушек, стоящих в очередях старушек, выпивающих и целующихся мужиков – и море радости.
Забегая вперед, скажем, что фотографии были забракованы редактором газеты. Они показались ему фальшивкой и коммунистической пропагандой. Пьер, которого нельзя было упрекнуть в симпатии к коммунистическому режиму, обвинил редактора в предвзятости, и они разругались.
За день до отъезда всей компанией пошли в Парк культуры пить пиво. Была там волшебная чешская пивная, прикидывающаяся рестораном. Очередь расползалась вокруг пивной, как пена около кружки, но они послушно стали в хвост – торопиться было некуда. К ним должен был присоединиться какой-то отдаленный родственник Пети – двоюродный или троюродный брат матери, работающий в Москве, во французском посольстве. Стоять было не скучно, все время происходило что-то занятное. Сначала группа людей на ходулях проскакала мимо, потом прошествовали шотландские волынщики, мексиканцы с трещотками и ряженые украинцы.
Саня с Михой держали очередь, а Илья с Пьером все отбегали, чтобы словить интересный кадр. И словили восхитительную драку могучего низкорослого негра с шотландцем в клетчатом килте неизвестного бело-зеленого клана. Бойцов окружила толпа зрителей, подбадривала:
– Врежь черномазому!
– Прибей пидараса!
Словом, народ развлекался древнейшим способом, точно как на гладиаторских боях. Бой шел под звуки все покрывающего Соловьева-Седого – вся Москва пела «Подмосковные вечера». Негр нанес сокрушительный удар, и шотландец в юбке рухнул.
Пластинку сменили: «Песню дружбы запевает молодежь, молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь…»
Шотландец зашевелился. «Не убьешь, не убьешь…» – заливался громкоговоритель.
Через два часа, когда ребята уже входили в пивную, их разыскал Пьеров дядька, француз по имени Николай Иванович, с русской фамилией Орлов. Он был пожилой, розовый и толстенький, напоминал веселого поросенка Ниф-Нифа, говорил на петербургском наречии, давно вышедшем из советского словооборота. Одет был смешно – в соломенной шляпе и в украинской рубахе, вышитой по вороту, – точно как Хрущев. Иностранца в нем заподозрить было невозможно. По виду бухгалтер из провинции, с тертым портфельчиком.
Петя, когда его увидел, со смеху покатился:
– Ну и маскарад!
Знакомил их Петя с умыслом: через него держать связь.
Почте не доверяли. Обменялись телефонами. Звонить, ясное дело, можно было только из уличных автоматов, а встречаться договорились всегда на этом самом месте, возле чешского ресторанчика, чтобы по телефону не обсуждать место встречи.
Завязывалась преступная связь с иностранцем.
Знаменитое чешское пиво было светлое, в запотевших кружках, что свидетельствовало о его правильной температуре. Правда, оно стояло на соседних столах, а ко времени, когда компанию впустили в зал, как раз кончилось. Шпикачки тоже кончились, официанты подавали пиво «Жигулевское» и соленые крендельки, невиданную закуску. За соседним столом щипали, как корпию, внесенную контрабандой воблу, а в пиво подливали водку – под столом.
Хотелось сфотографировать, но было, во-первых, боязно, во-вторых – темновато.
Таинственным образом снова появилось чешское пиво, пришлось выпить еще по две кружки. Вышли нагрузившиеся, веселые. Пьер на прощанье подарил Илье свой “Hasselblad”. To есть Пьер сначала предложил обмен, но Илья не смог отдать «Федю»:
– Подарок отца, не вещь, а часть жизни.
И тогда Пьер снял с себя матовый рубчатый ремень и сказал:
– Понимаю. Бери.
Дядя Орлов подарил им свой бухгалтерский портфельчик. Он был тяжеленький, с книгами. Около метро разошлись в три разные стороны: Илья с Пьером решили идти пешком до центра, Орлов тоже пошел пешком, но в другую сторону – он жил на Октябрьской площади.
Портфель Орлова, набитый книгами, нес Миха. Они с Саней спустились в метро. Праздник все еще продолжался, хотя официальное закрытие уже произошло.
Толпы веселых и пьяных людей, слегка приуставшие от двухнедельного праздника, догуливали последний вечер.
Иностранцев, украсивших на время московский пейзаж, было очень мало. Наверное, пошли собирать чемоданы, спать, завершать последние товарообороты, продавать остатки валюты и доцеловываться с советскими девушками, впервые познавшими прелесть романа с австрийцем, шведом и гражданином независимой Ганы.
Дружба народов торжествовала. Иностранцы, вопреки многолетним внушениям, оказались хорошими ребятами – никаких капиталистов, одни коммунисты и сочувствующие. Вроде голубиного Пикассо и прогрессивного Федерико Феллини.
Саня с Михой сидели за полночь во дворе дома-комода на Чернышевского, на скамеечке, говорили об улучшении нравов в России, хвалили Хрущева, который «вскрыл» железный занавес. Потом перешли к более личным темам: Миха поведал Сане то, что не вполне внятно изъяснил насмешливому Илье, – о бедной Минне, об их нечистых отношениях, о тягостном осадке, который теперь, видно, не смоется за всю жизнь.
Саня молча кивал: он всегда представлял себе эту тайну между мужчинами и женщинами нечистой и отталкивающе-притягательной. До самой сути невозможно было добраться – слов не было.
Погоревали, помычали и разошлись.
С улицы еще доносились обрывки – «Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра, если б знали вы, как мне дороги…»
Коричневый бухгалтерский портфельчик с книгами Миха забыл под скамейкой. Саня тоже не вспомнил.
Дворник дядя Федор, воспетый Юлием Кимом, протрезвев на скорую руку, пошел мести участок. Портфельчик нашел – ничего в нем хорошего не было. Какие-то книжки. Отдал при случае участковому.
Толстячка Орлова родители его бывшей жены считали полным балбесом, и назначение его на дипломатическую работу в Россию их взволновало – он был первый, кто пересек границу родины в обратном направлении после восемнадцатого года.
В портфельчике лежал богатый подарок – шесть номеров «Вестника РСХД» и только что переведенная на русский язык книга Оруэлла «1984» издательства «Посев». И в том было полбеды, что мальчишки прочитают эту книгу с пятилетним опозданием, с ксерокопии. Беда была в том, что в боковом отделении портфеля лежало письмо от Маши, ушедшей от него жены. Оно было прислано диппочтой, имя Орлова стояло на конверте, и разыскать его ничего не стоило.
Фестиваль закончился. Забеременевшие от чернокожих студентов девушки еще не успели обнаружить свою беременность, а у Орлова уже начались неприятности. К счастью, не посадили, но из страны немедленно выслали. Дипломатическая карьера закончилась. Его бывшая жена и ее родители получили подтверждение тому, что Николай Иванович полный балбес и не пригоден ни к какому делу.
Зато мальчики совершенно не пострадали.
Зеленый шатер
Оленька, луковка желто-розовая, плотная, в шелковистой тонкой кожице, без гнильцы и помятинки, нравилась и мужчинам, и женщинам, и кошкам, и собакам. И непонятно было, как это она, такая здоровая и веселая, в улыбчатых ямочках, родилась от сумрачных немолодых родителей, карьерных, партийных, с большими секретными заслугами и явными знаками благоволения властей – орденами, персональными автомобилями, дачей в генеральском поселке и продовольственными заказами в коричневых крафтовых пакетах и картонных коробках, прямо на дом доставляемых из закрытого распределителя.
Еще более удивительным и непонятным было то, как доверчиво она усвоила все хорошее, что они говорили, и совершенно не заметила того дурного, что они делали. Она выросла честной и принципиальной, общественные интересы всегда держала на первом месте, личные – на втором, и ненависть к богатым (где они, кстати?) она усвоила, и уважение к трудящемуся человеку, например, к Фаине Ивановне, домработнице, и к водителю черной отцовской «Волги» Николаю Игнатьевичу, и к водителю серой, материнской, Евгению Борисовичу.
Как легко и радостно быть хорошей советской девочкой! Пионерский Артек с синими ночами и красными галстуками прекрасно сочетался с продовольственным распределителем, а персональные машины родителей, возившие ее на дачу по субботам, – с равенством и братством. Она была ни в чем ни перед кем не виновата и любила радостно и безмятежно Ленина – Сталина – Хрущева – Брежнева, Родину и партию. Была она морально устойчива, как написали ей в характеристике, когда вступала в седьмом классе в комсомол, и в высшей степени политически грамотна.
Отец Оли Афанасий Михайлович служил по военно-строительной части, а мать была редактором журнала, не совсем литературного, скорее воспитательного толка.
Антонина Наумовна (она была из православных, имена своим детям дававших по святцам, а вовсе не из евреев) окончила ИФЛИ, так что была практически писателем. И учиться Олю, по родительскому решению, снарядили по филологической части, в университет.
Первый университетский год не предвещал ничего дурного: девица с охоткой взялась за общественную работу, избрана была в бюро комсомола, училась прекрасно и рьяно, завела жениха – доброго молодца. Из военной семьи, толковый паренек, и не филологический, а студент МАИ. Авиационный. Последний курс. Антонине Наумовне Вова очень нравился – плечистый, роста хорошего, волосы светлой волной на лоб, ходил он чистенько, в свитере с самодельными оленями, но по зимам носил кожанку авиационную, мечтанную одежку тридцатых годов, чем особенно Антонине Наумовне импонировал.
Свадьбу сыграли после окончания Олей первого курса, в начале июня, – чтоб всю жизнь не маяться майским браком, как сказала Фаина Ивановна, приходящая помощница по хозяйству, кладезь народной премудрости.
Вова переехал в генеральскую квартиру, в Олину комнату. Всего в доме было вдоволь еще для одного человека, только кровать купили новую, пошире. Покупал, как ни странно, сам генерал. Оля наотрез отказалась идти за такой двусмысленной покупкой, а Антонина Наумовна была страсть как занята по причине очередного съезда не то советских учителей, не то советских врачей. Афанасий же Михайлович вспомнил, что на Смоленской набережной он видел мебельный магазин, и сказал жене, что сам купит. Он туда и заехал после работы. Магазин оказался антикварный. Генерал долго ходил между мебелями всех времен и народов и вспоминал своего деда-краснодеревщика. Лет пятьдесят о нем думать не думал, и вдруг, посреди зыбких бамбуковых этажерочек, монументальных бюро с секретами и ампирного бело-золоченого мелколесья стульев и полукресел, воскрес тощий низенький старик с огромными коричнево-черными кистями и острыми глазами в нежных водянистых мешках подглазий… И запах дедовой мастерской всплыл – скипидарно-спиртовой, лаковый, густой и почти съедобный, и как учил дед его, мальчонку, пошкурить, поциклевать, полировочку навести.
Ходил, ходил Афанасий Михайлович, забывши, с чем пришел, потом вспомнил и купил двуспальную кровать волнистой березы, крепостной работы с фантазией, совершенно не подумавши о двух молодых комсомольцах, любителях палаток и ночевок под голым небом, которым предстояло теперь между витыми колонками, в кругу четырех херувимов потрудиться для будущего.
Кровать действительно произвела большое впечатление своей полной несуразностью и помпезностью, но супружеского дела не затормозила – внук Константин появился на свет ровно через десять лунных месяцев со дня свадьбы.
А генерал повадился с тех пор в антикварный магазин и, к удивлению Антонины Наумовны, начал постепенно менять добрую сталинскую мебель на заковыристые предметы большой давности, да еще и чинил их сам.
Был Афанасий Михайлович старше жены на десять лет, она давно уже чувствовала в нем приближение старости и теперь смотрела на это его новое увлечение как на старческую причуду, впрочем, безобидную. На даче он оборудовал себе мастерскую и ковырялся там с охотою, все более утрачивая военную бравость и политическую дальнозоркость, которую жена в нем высоко ценила.
Антонина Наумовна не в восторге была от появления столь раннего ребеночка – Оленьке и девятнадцати еще не стукнуло, когда привезли из роддома кулек в голубом шелковом одеяле. Кулек оказался образцовым, точь-в-точь как его родители: ел, спал и какал по часам, всем улыбался и давал Оле возможность заниматься словесной наукой, так что ей и академического отпуска не пришлось брать для подращивания ребенка до пешеходного возраста.
Фаина Ивановна, с послевоенных лет работавшая в семье, растившая Олю с младенчества, собралась было с рождением ребенка уходить – в другую семью из двух человек, где работы поменьше и куда давно ее сманивали, – но Костя так пленил ее пожилое сердце, что она до самой своей смерти за ним ходила.