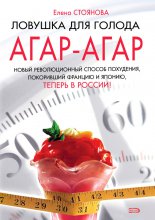Младенец Фрей Булычев Кир
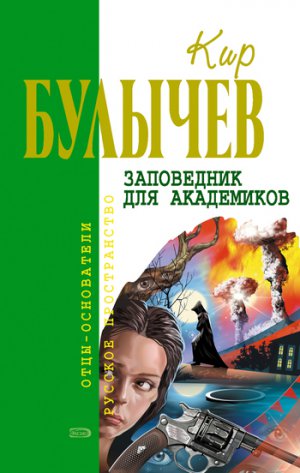
Я не понял, в чем он собирался помочь мне.
– Я не смогу оставить вас здесь для наблюдений за Л., – пояснил М.И. – Лечащий врач Осипов, которого сегодня, к счастью, нет, весьма ревниво относится к конкурентам – куда проще выписать профессора из Берлина, чем московского приват-доцента. Штатные медики накинутся на вас как стая гарпий. И вы кончите молодую жизнь в подвалах ЧК.
М.И. полагал, что шутит или почти шутит. Он не подозревал, насколько скоро я пойду по предсказанному им пути.
– Не знаю, – сказал я, – интересно ли мне оставаться рядом с Л. Я его побаиваюсь. Он ведь гений.
– Опять вы за свое! – М.И. рассердился на меня. – Он просто пациент, который просыпается утром и через минуту сладкого неведения в ужасе вспоминает о том, что он парализован, обречен… Какая буря бушует в его душе, каков конфликт между душой и бессильным телом! Он посылал тысячи людей на смерть, а теперь ждет свою…
К нам подошел невысокий стройный – в родню – взволнованный Дмитрий Ильич и, игнорируя меня, увлек М.И., которому, очевидно, доверял, в сторону, оставив меня на скамейке. Они принялись негромко беседовать.
Вскоре после того, как они закончили беседу, за нами прислали автомобиль, и, провожаемые добрыми напутствиями Ульяновых, мы покинули Горки. Тогда вполголоса, чтобы не услышал шофер, М.И. поведал мне продолжение истории с запланированным самоубийством Л.
Оказывается, Л. удалось привлечь на свою сторону брата, а также переведенного с помощью Дмитрия Ильича из Крыма старого большевика Преображенского. Сделано это было затем, чтобы окружить Л. своими людьми, уменьшив влияние агентов Сталина, который не хотел смерти Л., так как от его имени укреплял свои позиции в партии. В то же время Сталин желал контролировать каждый вздох Л. и его родни, видя во всех врагов и заговорщиков. Ему нужен был еле живой, безгласный и потому послушный Л.
Оказывается, предыдущую ночь Л. провел во флигеле, где жил Преображенский. Там до трех часов утра Л. спорил с Дмитрием и Преображенским. Спорил знаками, хрипом, неверными движениями левой руки, отказывался спать и есть до тех пор, пока те не сдались. Было решено, что в тот день, когда М.И. установит, что наступил последний приступ, Л. подаст условленный знак – сложит указательный и средний пальцы левой руки. И тогда Преображенский принесет спрятанный у него во флигеле яд, а Дмитрий Ильич даст его брату.
Мне было трудно поверить в полную серьезность этого заговора. В нем было что-то от декадентской романтической литературы. Но М.И. был совершенно серьезен, и его лишь беспокоила этическая сторона дела. Признавая право каждого человека прекратить свою жизнь, он не желал быть участником такого убийства.
Я спросил тогда М.И., сколько-де еще протянет его пациент. М.И. ответил, что, по общему убеждению всех врачей, жить Л. осталось две-три недели.
– Несмотря на то, что ему сейчас лучше?
– Это не играет роли. Это коварная шутка болезни, как шутка палача, который придерживает ноги повешенного, чтобы тот подольше мучился. Но палачу скоро надоест, он отступит в сторону, и труп медленно завертится на веревке.
Оставшийся путь мы проделали в молчании. Оба были заняты своими невеселыми мыслями.
Когда мы уже въезжали в Москву, М.И. вдруг сказал:
– Но я бы не стал полностью доверяться диагнозу. Пациент меня не раз удивлял и удивит в будущем.
– Значит, вы все же признаете господство духа над плотью?
– Не в случае с прогрессивным параличом, – грустно улыбнулся М.И. – Просто палач нашего пациента может оказаться великим шутником.
В тот момент я не предполагал, что еще увижу Л. живым и даже буду участником загадочных событий, сопровождавших его кончину.
Мог ли я предположить, что в темнеющем сознании Л. отпечатается мой образ и он как-то свяжет мое присутствие с собственной борьбой. Я в то время слишком буквально понял замысел Л., слишком доверился его решимости покончить с собой, не понимая еще, что даже этот акт был рожден его могучим инстинктом самосохранения.
Прошло около полугода, прежде чем М.И. вновь предложил мне сопровождать его в Горки. За месяцы, прошедшие с последней нашей поездки, положение вождя революции ухудшалось и улучшалось – с общей тенденцией к ухудшению.
Мы приехали под Рождество, стоял сильный мороз, нас везли в санях под полостью.
Мы достигли дома Л. в синих морозных скрипучих сумерках. Сыпал редкий сухой снежок. В гостиной стояла елка, и Дмитрий Ильич с сестрой Марией украшали ее – Дмитрий Ильич прижимал к груди картонную коробку с шариками и другими дореволюционными игрушками, а Мария Ильинична, стоя на высоком стуле, вешала шарики на ветки.
Навстречу нам вышли Н.К. и незнакомая мне дама с длинным скучным лицом.
К столу, на котором стоял большой самовар, подкатили кресло с Л. За полгода он ссохся и еще более потемнел – волосы на висках поредели, а бородка и усы казались светлее и желтее вокруг рта. Голова его покачивалась и дрожала на исхудавшей шее, и порой ему стоило труда удерживать ее вертикально.
Но нас он признал, и из невнятных звуков, которые он издавал и в которых разбирались лишь близкие, складывалось мое имя и имя М.И.
Надежда Константиновна, сидевшая за столом рядом со мной, сказала, что Л. не раз вспоминал обо мне – он верил, что я хороший врач, и даже хотел, чтобы я приехал, но доктор Осипов был против лишних медиков в Горках, и вместо меня из Германии выписали Ферстера и Гетье, которые могли лишь констатировать состояние больного и подтвердить роковой диагноз.
После чая М.И. проверил глазное дно Л., не нашел ничего явно тревожного, затем Л. дал понять, что хочет, чтобы и я его осмотрел. Я обратил внимание на то, что Л. за последние месяцы усох и даже уменьшился в росте, словно и кости тоже обладали способностью ссыхаться. Я указал на этот факт М.И., тот улыбнулся и отмахнулся – в тот момент он выписывал рецепт.
В целом же за пределами основного заболевания я не нашел никаких следов разрушения организма, о чем сказал Л., и тот, напрягшись, понял меня и несколько раз кивнул лысой головой.
В те годы я уже увлекался проблемой компенсаторных функций человеческого организма. Упрощенно моя теория заключалась в том, что если в организме есть сильный раздражитель, угроза жизни в целом, то вторичные беды и напасти отступают, затаиваются, ожидая, чем же закончится основной бой. Л. меня интересовал в первую очередь из-за этого. И я был убежден, как бы ни насмешничал М.И., что виной тому необычайно высокая умственная организация Л., сила его необычайного мозга. Все, что было заключено в Л., подлежало мобилизации на войну против паралича, который тем не менее побеждал. Но, побеждая в главном, отступал по второстепенным направлениям.
Некоторые из моих соображений я высказывал вслух, прежде всего для Дмитрия Ильича, который весьма переживал за брата – все члены этого семейства были очень близки друг другу. М.И. меня не слушал. Он даже ушел из спальни, где я проводил осмотр. Л. как будто внимал моим разглагольствованиям и кивал, но, может быть, причиной тому была слабость шейных мышц.
Затем Дмитрий Ильич удивил меня, выказав полное доверие ко мне, подчеркивая, что я, по его мнению, не являюсь чекистом.
В присутствии Л. Дмитрий Ильич спросил меня, готов ли я выполнить личную и очень важную просьбу брата. Затем он пояснил, что речь идет о цианистом калии – сильном яде, с помощью которого Л. намеревался покончить с собой. Но братья сомневались практически во всех обитателях Горок: одни слишком любили Л. и не допускали мысли о его смерти, другие были на службе у Сталина и потому – ненадежны.
Яд для Л. хранился во флигеле у Преображенского. Но тот был убежден, что в его комнате недавно кто-то провел обыск. Пакетик с ядом не был найден, но это не означало, что его не найдут в следующий раз. Поэтому Дмитрий Ильич попросил меня достать и иметь при себе цианистый калий в смертельной дозе для Л.
Мои попытки отшутиться, отговориться невозможностью даже подобной мысли – ибо она означала убийство одного из самых знаменитых людей на нашей планете – наткнулись на холодную стену отрицания.
– Никто не просит вас сыпать лекарство, – Дмитрий Ильич так и сказал: «лекарство», – в рот моему брату. Об этом мы с ним сами позаботимся. Но вы должны достать лекарство и в нужный момент по моей просьбе доставить его сюда.
Не слушая более моих возражений, Дмитрий Ильич, такой милый и мягкий на вид человек, объяснил напоследок, что вряд ли возникнет нужда в моей помощи, но в таком серьезном деле братья Ульяновы не намерены были рисковать.
Слушая наш разговор, Л. пытался улыбнуться одной стороной лица, и пальцы его левой руки шевелились, стараясь наложиться один на другой, как бы репетируя сигнал о смерти.
В те дни М.И. не скрывал изумления перед жизнестойкостью Л., утверждая, что резервы его организма уже давно и полностью исчерпаны, но у меня уже сложилось свое, отличное от авербаховского, мнение. Я скорее склонялся к точке зрения Дмитрия Ильича, который, приехав ко мне в Москву и желая убедиться, что я раздобыл яд, сказал, что вообще не верит в то, что Владимир умрет. «Он придумает выход, – произнес Дмитрий Ильич, глядя в окно остановившимся взором. – Он всегда придумывал выход даже из более сложных ситуаций».
Я не был уверен, что в жизни Л. бывали более сложные ситуации.
В тот приезд Дмитрий Ильич опасался слежки и вел себя как конспиратор дореволюционных времен.
Развязка наступила 20 января, через несколько дней после приезда Дмитрия Ильича. В середине дня мне позвонил М.И. и сказал, что, по сообщению из Горок, у Л. – резкая боль в глазах. Сам Л. убежден, что это – сигнал пришедшей смерти. Он отказался подниматься с постели, отказался завтракать – он требует немедленного приезда М.И.
М.И. спросил, не составлю ли я ему компанию, благо у меня сложились добрые отношения с семейством Ульяновых. Разумеется, я согласился. Сомнения мои касались лишь пакета с ядом – должен ли я брать его с собой. В конце концов я положил пакетик в карман – проблема жизни и смерти Л. решается им и его семьей. Я же не более чем «почтовый ящик».
Пока я собирался, в ушах беспрерывно звучала фраза Дмитрия Ильича: «Он придумает выход». В ней было нечто колдовское, дьявольское – как и в безусловном преклонении Дмитрия Ильича перед братом, и в том, что я сам все более склонялся к мысли, что фигура такого масштаба, как Л., не даст смерти одолеть себя. При этом я оставался вполне трезвым, вовсе не склонным к мистике ученым и полагал, что все таинственные явления проще всего разгадывать с помощью здравого смысла и самой простой арифметики.
В тот, последний приезд обстановка в Горках резко переменилась. Хотя не исключаю, что ощущение это питалось в значительной степени моими собственными предчувствиями.
Мне показалось, что возле дома и в самом особняке в тот день было куда больше народу, чем обычно, словно хозяин дома уже умер и это событие выбросило из привычных уголков и комнат всех обитателей большого дома и привлекло иных – по грустному делу или из обязательного соседского любопытства.
Н.К. встретила нас внизу, глаза ее распухли и были красными. Анна Ильинична, напротив, была бледна и осунулась. М.И. заговорил с доктором Осиповым, а меня попросил забрать из автомобиля таблицы и его саквояж. Я взял требуемое и присоединился к окулисту в гостиной.
Через несколько минут тревожного ожидания нас пригласили в спальню к Л.
Л., вытянувшись, лежал на кровати, покрытый клетчатым пледом. Видно было, насколько он ссохся; мне показалось даже, что на кровати лежит лысый ребенок, умирающий от голода, – фотографии таких детей еще недавно сопровождали в журналах сообщения из Поволжья.
При звуке наших шагов он медленно повернул голову, и после нескольких секунд пустоты глаза начали наполняться соком разума. Губы Л. шевельнулись, он промычал нечто, и Н.К. сказала:
– Он вас узнал.
И тут я увидел левую руку Л., которая лежала на пледе, – средний палец шевельнулся, стараясь покрыть собой указательный палец. И я понял смысл этого жеста – Л. не намеревался сдаваться, он сам решал, когда ему умирать.
Но тут центром внимания стал М.И. и его таблицы.
Авербах склонился к пациенту и стал спрашивать его – медленно и настойчиво, чтобы пробиться к тускнеющему сознанию:
– Вам больно? Больно глазам? Сильная боль…
Я вскоре перестал следить за вопросами и повел взглядом по небольшой комнате, стараясь запомнить в ней все: и как расположена мебель, и как падает сквозь окно свет, и как одета Н.К… Почему-то я посчитал своим долгом все запомнить, словно мне предстояло написать воспоминания о последних минутах жизни вождя и преступно будет что-то упустить.
Как ни странно сейчас, описывая те события, я должен признать, что начисто забыл, как кто был одет, какая там стояла мебель и даже – сколько народу было в спальне.
Дмитрий Ильич тронул меня за локоть и потянул, увлекая за собой, прочь из комнаты.
В коридоре он спросил:
– Надеюсь, вы не забыли?
Повторяю, что перед отъездом из дома я отчаянно боролся с самим собой, не желая брать этот проклятый пакетик, но все же взял, полагая, что не имею права обманывать людей.
Я хотел было передать пакетик Д.И., но брат вождя отказался его принять и сказал, что сначала надо выслушать диагноз М.И.
Он же сообщил мне, что последний и самый сильный приступ начался ночью и сам Л. убежден в приближении смерти.
Мы вернулись в комнату к Л.
М.И. как раз произносил свой диагноз…
– Со стороны глазного нерва и вообще глаз никакого нарушения нормы нет. Все в порядке…
Слова «все в порядке» звучали в этой комнате как тревожный вопль – значит, дело не в глазах, не в переутомлении, на что так надеялся Л. Значит, это – как он и вычитал в книгах – последний звонок приближающейся смерти.
Л. прикрыл веки, давая понять, что понял М.И.
Последующий час М.И. провел с родными Л., он вынужден был признать, что положение Л. совершенно безнадежно и, как бы ни сопротивлялся его организм, исход один и близок…
М.И. совсем не удивился, узнав от меня и стоявшего рядом Дмитрия Ильича, что я по его просьбе остаюсь в Горках на ночь.
М.И. покинул Горки, когда уже было темно. Я вышел проводить его на крыльцо. Стоял жгучий мороз. Снег отчаянно скрипел, будто взвизгивал под каблуками людей. В спину нам бил теплый свет из окон.
М.И. пожал мне руку, словно Пущин остающемуся в ссылке Пушкину.
Вскоре после отъезда М.И. Анна Ильинична обнаружила меня в гостиной и попросила следовать за ней.
– Сейчас приедут разные люди, – сказала она неодобрительно. – Лучше, чтобы они вас здесь не видели. Как мухи на падаль… – И повторила: – Как мухи на падаль, – не ощущая двусмысленности этих слов.
А впрочем, подумал я, может быть, она уже похоронила брата? И я здесь единственный, кто не верит в смерть Л.?
Анна Ильинична оставила меня в небольшой комнатке второго этажа, окно которой выходило на главный фасад. Она зажгла свет и попросила чувствовать себя как дома.
В комнате были диван, письменный стол и старый шкаф с полуоткрытой дверцей. На письменном столе стояла электрическая лампа, переделанная из керосиновой. Анна Ильинична прошла к окну, задернула занавески, потом зажгла лампу на столе.
– Здесь вы будете ночевать, – сказала она. – Я принесу вам белье. Туалет и умывальник в конце коридора. Простите меня. Мне некогда.
С этими словами, не ожидая моего ответа, она вышла из комнаты, и ее сухие частые шаги застучали, удаляясь, по коридору.
Впервые за вечер я остался один. Звуки снизу сюда не долетали. Я почувствовал тишину, которая царила в Горках.
Я подошел к окну и открыл форточку. По дороге к дому приближались огни автомобилей. Наверное, ехали те, кого Анна Ильинична сравнила с мухами.
Я потушил свет, чтобы меня не было видно снаружи, и стал наблюдать за тем, что происходит у входа в особняк. Лестница была ярко освещена электрическими фонарями.
Мое любопытство объяснимо и понятно – ведь я был куда моложе, чем сейчас, и судьбой мне было уготовано присутствовать при кардинальном моменте истории – смерти великого человека.
Из первой машины выбрался Сталин – его мне приходилось видеть в годы Гражданской войны, когда я, недавний студент, вернувшийся с Южного фронта после ранения и продолживший обучение в университете, повадился посещать разного рода собрания и митинги, влекомый свойственным мне любопытством. Тогда для меня он был представителем нового российского начальства, выползшего из глухих уголков империи и плохо говорящего по-русски. Были те начальники грузинами, венграми, евреями, латышами, поляками – людьми ущербными от долгого угнетения и готовыми наказывать всех, кто не был им подобен. Тот Сталин, которого я увидел три года назад и в котором не угадал вождя великой державы и даже сочувствовал его неумению слагать русские фразы, был невелик, сдержан в жестах и этим запомнился – среди крикунов и лицедеев он был бухгалтером.
На этот раз я узнал Сталина лишь по усам – он был в дохе и ушанке. А следом, из второй машины, выкатился, поспешил к Сталину нарком здравоохранения Семашко. На улице им разговаривать было холодно – пар от дыхания стал плотен и непрозрачен. Они нырнули в подъезд, который им пришлось открывать самим, за Сталиным вбежал еще какой-то человек, видно, из охраны, а шоферы отогнали машины в сторону.
Сталин был тогда Главным секретарем партии. И все считали его другом и надежным союзником Л.
Когда они вошли в дом, я тихо вышел в коридор – меня влекло любопытство.
В коридоре было почти темно – лишь слабенькая лампочка горела у лестницы.
Подойдя к лестнице, я мог лишь наблюдать за теми, кто выходил из покоев Л., но нарушить приказ Анны Ильиничны и спуститься вниз я не посмел.
Пробежала Мария Ильинична с кастрюлей горячей воды, за ней одна из секретарш или служанок несла полный графин. Смысл этого действа был мне непонятен.
Из спальни вышел Сталин. Он отошел к стулу, стоявшему у дверей, сел, достал пачку папирос и закурил. В доме никто не курил, и потому запах табака в одночасье отравил воздух. Даже я, относившийся к табачному дыму вполне лояльно, чуть не закашлялся.
Возле Сталина остановилась Анна Ильинична.
– Иосиф Виссарионович, – предложила она, – может, желаете выпить чашку чаю? Самовар в столовой, горячий.
– Спасибо, – сказал Сталин, наклонив голову, чтобы вытолкнуть из себя это слово, – мне не хочется чаю. Я побуду здесь.
У него были тяжелые слова. Анна Ильинична тоже это почувствовала и отступила от Сталина, словно испугалась.
А тот продолжал курить, задумчиво глядя в пол. Затем, словно почувствовав мой взгляд, он поднял голову, и я еле успел отступить назад. Я понял, что он сейчас пойдет к лестнице, чтобы проверить, кто подслушивает. Но, на мое счастье, дверь в спальню открылась и оттуда вышел нарком Семашко.
– И как там у вас дела? – спросил Сталин. Он очень плохо говорил по-русски.
Семашко понизил голос, словно сообщал государственную тайну.
– Владимиру Ильичу дали касторку, – громко прошептал он.
– Зачем? – спросил Сталин.
– У товарища Л. не работает желудок, – сообщил нарком.
– Правильно, – сказал Сталин.
Они замолчали.
Я стоял вне поля их видимости, значит, и сам их не видел. Только мог по шагам и голосам догадываться, кто участвует в разговоре.
Скрипнула дверь. Явление следующее – те же и супруга вождя.
– Мне надо будет поговорить с Владимиром Ильичом наедине, – сказал Сталин.
– Но вы же знаете, он не владеет речью, – послышался голос Н.К.
М.И. говорил мне, что у Ленина произошел со Сталиным конфликт именно из-за Н.К. И якобы он послужил толчком к обострению болезни. Сталин и Н.К. не выносили друг друга.
– Мне не нужно, чтобы он владел речью. Но в свое время он обратился ко мне с просьбой. И я, надеюсь, смогу ему теперь помочь.
– Не думаю, что Владимир Ильич нуждается сейчас в вашей помощи.
– Это решаем мы с ним, а не вы, – тихо произнес Сталин. И мне показалось, что я заглянул в его рыжие глаза.
– Хорошо. – Голос Н.К. дрогнул.
Она скрылась в спальне Л. Семашко куда-то испарился.
Снова наступила тишина. Сталин откашлялся, будто рядом со мной – так тихо было в доме. Потом приоткрылась дверь в комнату Л., и оттуда донеслись голоса. Я осмелился выглянуть и увидел, как Сталин поднялся и, не вынимая изо рта папиросу, заглядывает в приоткрытую дверь. Мне запомнилось, что у него на ногах были валенки и галоши – с галош натекло возле стула, где он сидел.
– Ну что? Что там? – спросил Сталин.
Я понял, что он говорит с наркомом.
– Прослабило, – сообщил нарком.
– Да идите вы со своими клизмами! – рассердился вдруг Сталин. – Почему эта курица не выгоняет всех из комнаты?
– Сейчас, они меняют белье, – сообщил Семашко. – Вы же понимаете, Иосиф Виссарионович.
– Черт возьми, еще этого не хватало!
Поскрипывал рассохшийся паркет. Сталин быстро ходил по залу.
Потом шаги стихли, и я услышал голос Сталина:
– Тогда пойдите к Ильичу и скажите ему в ухо, чтобы он понял, что я привез то, о чем он просил. Я привез.
– О нет! – почему-то возразил Семашко. – Подождите немного, и вы сами ему скажете.
Послышались шаги, шуршание одежды. Я наклонился – из дверей спальни вышли несколько женщин: одна несла ночную посуду, вторая – свернутые в узел простыни, третья – пустой кувшин и таз.
В дверях стоял Дмитрий Ильич.
– Заходите, Иосиф Виссарионович, – сказал он. – И если вы не возражаете, я буду вам помогать.
Не ответив ему, Сталин вошел в комнату к Л.
Ночью, когда все в доме затихло, Сталин и Семашко умчались в Москву, а Л. заснул, Дмитрий Ильич поднялся ко мне и рассказал, как происходила последняя встреча Л. и Сталина.
Сталин, по словам Дмитрия Ильича, был поражен, увидев, как изменился Л.
Л. с трудом воспринимал связную речь, так что Дмитрию Ильичу пришлось выступить в роли переводчика. Сначала С. убедился, что никто их не подслушивает, затем он спросил Л., не изменил ли тот своего намерения. Того самого намерения, помочь в исполнении которого он просил Сталина еще полтора года назад.
Л. долго не мог понять, но, когда понял, глядя на Дмитрия Ильича, промычал слово «убить». Или «убил».
– Вы говорите о самоубийстве? – спросил Дмитрий Ильич.
– Вот именно.
Л. показал бровями, что удивлен, и Дмитрий Ильич истолковал его вопрос так:
– Почему вы изменили свое мнение? Вы ведь были резко против самоубийства?
– Я думаю, товарищ Л., – сказал тогда Сталин, обращаясь к умирающему, – что этим я выражаю вашу волю. Я ведь человек и должен помогать другим людям.
– Ни я, ни мой брат, – сказал мне тогда Дмитрий Ильич, – не поверили Сталину. Я чувствовал, как брат старается сжать пальцами мою руку, лежавшую на его кисти, и взялся истолковать невысказанные мысли Володи. Я сказал Сталину:
«Брат просит оставить привезенное с собой». – «Почему он думает… почему вы думаете, что я привез это с собой?» – «Это понятно», – сказал я.
Сталину не понравились мои слова, но он вынул из кармана и передал мне пакетик. И сказал, что это – цианистый калий.
– И тогда я увидел, что мой брат улыбается. И я понял почему. Теперь у него есть целых три пакета с ядом. Три смерти ждут его, не говоря об обыкновенной… Сталин ушел, недовольный мной и братом. Ему казалось, что его дурачат. Но он не понимал – истолковываю ли я Володю, понимаю его или придумываю от своего имени, тогда как Володя – не более как бессмысленное растение.
– Но почему вдруг Сталин привез яд? – спросил я. – Значит, ему нужен мертвый Л.?
– Почти правильно, – ответил Дмитрий Ильич, не удивившись моей излишней смелости. Даже в те годы рассуждать так с малознакомыми людьми было не принято.
Но, оказавши раз доверие, Дмитрий Ильич как бы позволил мне задавать такие вопросы.
– Раньше он отказывался даже обсуждать эту проблему, – сказал Дмитрий Ильич. – Я думаю, потому что ему нужен был живой, но беспомощный Ленин. Лучший ученик, верный последователь, замечательный организатор – я наслышался этих слов даже здесь. Да и брат полагал, что Сталин оставлен им в роли цепного пса, пока хозяин отлучился. Но цепной пес стал показывать нрав. Брат обсуждал с ним проблему ухода из этого мира – Сталин избегал этого разговора. Как только Володя умрет… – Дмитрий Ильич остановился, прислушиваясь, но в особняке было очень тихо – тревожной тишиной ночного бодрствования. – Как только Володя умрет, Сталину придется отстаивать свое место против сильных ветеранов. А по уму, способностям, силе воли он им не чета…
Как тогда ошибался Дмитрий Ильич! Впрочем, ошибались все. И даже те самые сильные ветераны.
– Так что же случилось?
– А то, что Володя понял опасность. Опасность, исходящую от Сталина, для партии, для всей страны, для мирового коммунизма. Он понял наконец, что Сталин вовсе не коммунист, а политический интриган, рвущийся к власти. И после инцидента с Надюшей Л. перешел в наступление.
– Союз хозяина и цепного пса распался? – неосторожно спросил я. Дмитрий Ильич поморщился; при свете настольной лампы мне было видно, как неприятно ему было слушать эти мальчишеские слова, причем виной тому был он сам – он произнес их первым.
– Простите, – сказал я.
– Ничего, – ответил Дмитрий Ильич. – Накурил он здесь – за два дня не выветришь… Последние шаги брата были направлены против Сталина. И тот должен понимать, что если Володя пошел в крестовый поход, то остановить его может только смерть. И тут Сталин вспомнил о просьбе Володи – когда станет совсем плохо, дать ему яд. Смотрите, Сергей Борисович, с какой скоростью он действовал: не прошло трех часов, как уехал профессор Авербах…