Коллекция китайской императрицы. Письмо французской королевы Арсеньева Елена
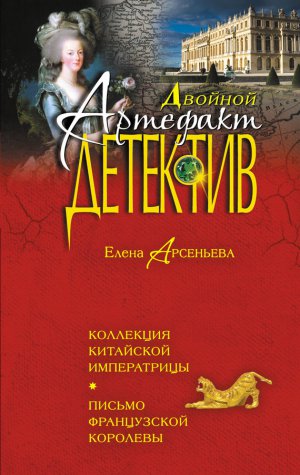
Наши дни, Франция
Гранд Галери Алёне совершенно не понравилась, потому что оказалась, на ее взгляд, какой-то глупейшей имитацией, которая вполне годилась для театральной декорации, но величие шато Талле оскорбляла. Создатели галереи затянули ее стены драпировками, на которых с великим умением изобразили мраморные статуи римских богов со всей атрибутикой. Первое впечатление было очень сильным, но уже через миг становилась ясна подделка.
Однако, поскольку все же было заявлено, что это, мол, одна из основных достопримечательностей шато Талле и здесь разрешено снимать, туристы знай щелкали затворами камер и мерцали мобильниками. Алёна тоже сделала своей «Нокией» одно или два фото, но потом убрала ее в сумку. Ну что тут особенного снимать? К тому же ей почему-то не давал покоя лиловый прямоугольничек – билетик Roissy Bus с загадочной надписью.
Алёну не очень смутило, почему странные слова были написаны на французском автобусном билетике. Что тут особенного? Какой-то турист или командированный (бывают же такие счастливчики, которые в самый прекрасный город мира ездят по служебным надобностям и еще небось ворчат, что это происходит слишком часто или не ко времени!) ехал автобусом из аэропорта Шарль де Голль в Париж и должен был невесть почему эти слова немедленно записать – ну и записал на первой попавшейся бумажонке… Сама писательница Дмитриева не раз записывала поразившие ее мысли, фразы или просто яркие словечки на ресторанных салфетках, на одноразовых платках, на немыслимых каких-то клочках бумаги, если под рукой не оказывалось блокнота.
Она вспомнила также историю про одного знаменитого аргентинского композитора и дирижера Эдгардо Донато, автора многих прелестных танго. А поскольку наша героиня обожала аргентинское танго и очень, очень многие ее приключения так или иначе были с ним связаны[9], то, пожалуй, есть смысл чуточку отвлечься и поведать эту историю здесь и сейчас.
Итак, однажды Эдгардо Донато ехал по Монтевидео (надо сказать, он был родом из Уругвая, а Монтевидео, как известно, столица этой страны) на трамвае. Донато очень любил данный вид транспорта и, несмотря на то что мог бы ездить на авто, всегда предпочитал трамвай. И вот на улице Монтойя, возле дома 348, трамвай вдруг сломался – отключилось электричество.
Сгущались сумерки. Донато решил подождать, пока трамвай починят. Сумерки были любимым временем композитора. Он смотрел на окна дома 348 и думал, как красиво мерцают в стеклах остатки дневного света и вечерние тени – то, что художники называют волшебным словом чиароскуро. Донато в ту пору был влюблен в знаменитую певицу Луси Клори и сейчас вообразил, будто у них тайное свидание в одной из квартир. Он сидел и мечтал, напевая: «Монтойя, трез, кватро, очос…» (то есть Монтойя, три, четыре, восемь)… Постепенно родилась мелодия прелестного танго, которое он немедленно назвал «A Media Luz» – «В сумерках».
Прошло часа два, в трамвае не осталось ни души, кроме дремлющих вожатого, кондуктора и Донато, который придумывал свое танго. Однако композитор боялся забыть мелодию, надо было ее поскорей записать. Но, как назло, в его карманах не оказалось ни клочка бумаги. Тогда он подошел к спящему кондуктору, осторожно снял с него катушку с билетами и написал на них мелодию знаменитого танго. Потом посчитал билеты, которые были исписаны нотами, достал деньги, положил в сумку кондуктора – и наконец-то сошел с трамвая.
Теперь нужны были слова для песни. Их написал приятель Донато Карлос Лензи, а первым, кто услышал новое танго, еще дома у Донато, был знаменитый певец Карлос Гардель, который часто наезжал в Монтевидео, поскольку тоже был уругвайцем по происхождению.
– Я буду петь это танго! – воскликнул он. – Но при одном условии…
Донато насторожился. Конечно, если Гардель споет «A Media Luz», можно считать, что танго обречено на успех. Но какое у певца условие?!
– Ты должен заменить название улицы. Пусть будет не Монтойя, а Коррьентес, – заявил Гардель. – С адресом Коррьентес, 348, для меня очень многое связано.
Друзья Гарделя знали, что по этому адресу в Буэнос-Айресе находилась квартира, куда певец приводил своих тайных возлюбленных. Это тронуло Донато, который вспомнил свою несбывшуюся любовь к Луси Клори.
Слово «Коррьентес» замечательно вписывалось в ритмику, и Донато дал согласие. С тех пор танго «A Media Luz» начинается со слов «Коррьентес, трез, кватро, очос», и оно действительно было одним из самых любимых танго Гарделя.
А ведь чудесной мелодии могло не быть на свете, не окажись под рукой у Эдгардо Донато катушки трамвайных билетов!
Вот такая история. Но вернемся теперь к нашей детективщице.
Повторяем, сам факт того, что некая фраза была написана на автобусном билетике, казался для Алёны вполне объясним. Да все, по сути, можно так или иначе объяснить! Кроме одного или, точнее, двух моментов: при чем тут Дева Фей и почему билетик понадобилось засунуть в музыкальную шкатулку? Ну что ему там делать? То бишь зачем его понадобилось туда положить?
А что, если… если это намек на знаменитую китайскую коллекцию графов Талле? Вдруг задумано ее похищение? И музыкальный ящик служит почтовым ящиком для преступников?
Хм, между прочим, не такая уж бредовая идея…
Надо сказать, что мания преследования, вернее расследования, у писательницы Алёны Дмитриевой была чисто профессиональная. Столько преступлений придумать и, можно сказать, осуществить (правда, на бумаге, но все же!), а потом и раскрыть – конечно, это не может не отразиться на психике.
Но вот интересно: предположим, подойдет она сейчас к гиду… Тот, кстати, произносит фамилию де Талле с такой небрежной элегантностью, что, очень может быть, сам принадлежит к числу ее носителей, а экскурсии водит по шато или из любви к искусству, или просто потому, что вульгарно надо деньги зарабатывать на содержание и ремонт такого огромного имения. Ведь здесь, в шато, все как у людей: и двери надо чинить, и окна разбиваются. Что же касается работающих графов, то это тоже совершенно не нонсенс. К друзьям писательницы Дмитриевой, Морису и Марине Детур (у этой русско-французской пары Алёна всегда останавливалась, приезжая в Париж, супруги брали ее с собой в загородный дом в Муляне, бургундской деревне… собственно, и сейчас Алёна приехала на экскурсию в Талле именно оттуда, ну а друзья ее остались дома, потому что не раз уже бывали в замке, находящемся в каких-то паре десятков километров от Муляна) – ну так вот, к Морису и Марине чинить всякую сантехнику приходили люди из фирмы, которую возглавляет самый настоящий граф. Мужчина, надо сказать, совершенно очаровательный – высокий, стройный, черноглазый, молодой, невероятно светский… Одним словом, граф. И притом сантехник! Он просто обожает сам, своими руками, что-нибудь чинить, его просто хлебом не корми – только дай поменять кран или прочистить трубу. И если бывает граф-сантехник, то почему бы не быть графу-гиду?
Итак, подойдет Алёна к предполагаемому графу и покажет билетик… И что?
Да ничего. Он пошлет ее на беашвэ. В смысле – на три буквы.
Что касаемо «беашвэ»… Аббревиатура заслуживает небольшого лирического отступления с пояснением.
На их с Мариной (и с Морисом, посвященным в данную тайну) языке сказать «пошлют на беашвэ» значило то же, что послать на три буквы, в неприличный пеший путь. Вообще-то, BHV – огромный, очень хороший хозяйственный магазин в Париже на rue Rivoli, неподалеку от Htel de Ville, в котором находится муниципалитет Парижа. В этот магазин Морис одно время – когда в доме делали ремонт – весьма часто ходил. И как ни спросишь, где Морис, Марина непременно отвечала: «Пошел в BHV». А Лизочка никак не могла запомнить аббревиатуру и говорила: «Папа пошел в магазин, где три буквы». Постепенно выражение стало простым и сакраментальным – пошел на три буквы или пошел на беашвэ.
Ну и пошлет ее гид-граф, подумала Алёна. И, собственно, что? Зато она будет совершенно уверена, что выполнила свой долг перед Францией вообще и перед таким бесценным достоянием любимой страны, как шато Талле, в частности. Все-таки семейство Колиньи… и «Анжелика и король»… и вообще красота несусветная… Жаль, если замку будет нанесен хоть малейший ущерб.
Нет, надо все-таки мало-мальски поднять тревогу. Разумеется, в полицию или к охранникам она не пойдет, а вот поговорить с приятным и элегантным гидом, который к тому же не перестает поглядывать на нее с таким интересом, можно.
Решено!
Но, конечно, только после окончания осмотра шато. А то вдруг этот мсье примет Алёнины слова совершенно всерьез, мобилизует охрану, вызовет полицию и окончательно испортит людям и без того сокращенную экскурсию.
С другой стороны, затягивать с разговором нельзя. Если дело и правда нечисто, надо повнимательней присмотреться к туристам. Кто-то же из них положил бумажку, кто-то задумал аферу с Девой Фей, какой бы смысл ни вкладывать в это выражение…
Пока гид занят, присматриваться придется Алёне. Ну что ж, чай, не впервой!
Начало 20-х годов XX века, Россия
Алексей Максимович стоял за дверью и слушал, как Гумилев читает свои новые стихи:
- И совсем не в мир мы, а где-то
- На задворках мира средь теней,
- Сонно перелистывает лето
- Синие страницы ясных дней.
- Маятник старательный и грубый,
- Времени непризнанный жених,
- Заговорщицам секундам рубит
- Головы хорошенькие их.
- Так пыльна здесь каждая дорога,
- Каждый куст так хочет быть сухим,
- Что не приведет единорога
- Под уздцы к нам белый серафим…
Стихи назывались «Канцона», и слово это раздражало Горького так же, как раздражало все, что исходило от Гумилева. Читал тот медленно, торжественно, явно упиваясь своим голосом, и Алексей Максимович чувствовал, что поэт гордится каждой строкой, созданной им, каждым исторгнутым звуком, что он испытывает огромное уважение к себе, создателю таких восхитительных ценностей.
Это было понятно Горькому потому, что и он сам, читая свои произведения на публике, испытывал совершенно такие же чувства. Более того! Если Гумилев читал свои стихи несколько отстраненно, не без высокомерия жреца, который презирает непосвященных, то Горький ужасно переживал о том впечатлении, которое произведет. Причем и волновался, и стыдился своего волнения. Оно как бы унижало его, как бы ставило под сомнение мастерство, силу его творчества…
Однажды, давно, когда он был уже признанным писателем и даже разжалованным почетным академиком (покойный государь император, не дав насладиться званием и новыми правами, исключил его, поскольку Горький находился под надзором полиции за антиправительственную деятельность, в связи с чем Чехов и Короленко отказались от членства в академии, ну а Горькому сие событие только надбавило популярности), он читал труппе театра Станиславского свою новую пьесу «На дне» – и аж расплакался, когда Анна умирала. Помнится, просморкавшись трубно, выговорил умиленно: «Ах, хорошо написал!» И все умилились вместе с ним: и Константин Сергеевич, и Коля Телешов, друг-приятель, и актеры, и, конечно, она, Машенька, Марья Федоровна Андреева, тогдашняя прима, будущая любовь Горького… такая горькая любовь… А какая любовь была у него не горькая? Разве с той, для кого звенит фанфарами и кимвалами голос Гумилева, не горькая?
Зачем, ну зачем Варваре этот пустозвон? И вообще, что за стихи?
- И в твоей лишь сокровенной грусти,
- Милая, есть огненный дурман,
- Что в проклятом этом захолустьи
- Точно ветер из далеких стран.
- Там, где всё сверканье, всё движенье,
- Пенье всё, – мы там с тобой живем.
- Здесь же только наше отраженье
- Полонил гниющий водоем.
Вот именно – гниющий водоем, а не поэзия!
Что? Гниющий водоем?
Тем временем Гумилев умолк и внутри комнаты возникла пауза. Потом восторженно затараторил Чуковский:
– Коля, Николай Степанович… Это великолепно, это…
И он аж подавился от восторга, закашлялся. Послышались хлопки тонкой, с длинными пальцами – белая кость, голубая кровь! – гумилевской ладони по костлявой, чахоточной – разночинец, интеллигенция гнилая! – чуковской спине. И легкий, словно бы затаенный смешок.
Наконец-то и она подала голос…
Ни слова одобрения, ни ахов, ни охов. Горькому в его укрытии стало чуточку легче. Гумилев таскается сюда не только ради прекрасных очей Варвары Васильевны – вбил себе в голову, что она необычайно тонко воспринимает поэзию… Вот и получи ее тонкое понимание – смешок. Да-с!
Чуковский вечно являлся вместе с Гумилевым. Корнея, как подозревал Горький, влекло вино, итальянское вино, которого – разумеется, стараниями Алексея Максимовича – у Варвары Васильевны имелся немалый запас. Разумеется, Горький не препятствовал ей принимать друзей и угощать их его вином. Однако задолго перед тем, как Чуковский с Гумилевым должны были прийти – а те повадились ходить каждое воскресенье, часам к четырем-пяти, как на вечернюю службу (не на советскую службу, понятное дело, Чуковский в своем издательстве появлялся годом-родом, а как раньше добрые люди на церковную хаживали), – Горький в предчувствии неизбежности дурно себя чувствовал. Представлял: вот они идут, идут по великолепному мертвому Петрограду… Вышли загодя, потому что дальний конец пешком предстояло одолеть. Воздух чист, как в деревне: ни верениц автомобилей, отравляющих воздух, ни дымов из труб – все теперь жили в лютом холоде, горячей пищи не готовили. Горький знал, что только в его одиннадцатикомнатной квартире на Кронверкском топилась ванная – сказочная роскошь! – другой ванной не было на десять километров в окружности. Ну и ладно, каждый живет так, как он живет. В квартире у Варвары Васильевны ванной не было тоже. Ну да Гумилев ведь не за ванной сюда ходит…
Алексей Максимович глянул в щелку и увидел: Варвара Васильевна, слушая стихи, сидит на диване, зябко кутаясь в кашемировую шаль. Гумилев изредка потягивал вино и попыхивал длинной папироской, а потом продолжал читать.
А Горький думал про гниющий водоем. Опасные строки… Вообще все стихотворение опасно. Опасны слова о том, что мы живем на задворках мира, средь теней, опасна строка про головы заговорщиц, которые отрублены старательным и грубым маятником времени, опасны мечты о каком-то ветре из далеких стран, которого не хватает в «проклятом этом захолустьи». Ну а уж за слова «здесь же только наше отраженье полонил гниющий водоем», услышь их какой-нибудь ретивый чекист (а те умеют все выворачивать наизнанку, даже самые невинные строки, а здесь и выворачивать ничего не нужно, все налицо и набело… вот именно, набело!), можно и к стеночке встать. Зря Гумилев уверяет, что он демонстративно аполитичен, революцию попросту не замечает, – он самый настоящий, типичный, как модно говорить теперь среди молодежи, белогвардеец.
Вдруг приступ зависти, ревности – мужской ревности, писательской зависти – сделался невыносим. Горький не выдержал и вошел в комнату.
Корней вскочил. Гумилев отставил стакан, но не поднялся на ноги. Варвара Васильевна в уголке дивана переводила глаза с любовника на поклонника. Лицо ее, очень красивое, кому-то казавшееся загадочным, кому-то простоватым, ничего не выражало, хотя в душе она так и трепетала от любопытства: что сейчас будет? Сцена? Или обойдется?
Горький ощущал, что в присутствии тонкого, надменного Гумилева сам он движется с какой-то застенчивой неуклюжестью, сутулится более обычного. Отчего разозлился и с трудом выдавил из себя:
– Отлично вы прочитали стихи… особенно последнее. Но о чем они? Да ни о чем! Метафоры ваши насквозь прозрачны. И уж очень вы на аллитерацию упираете, хотя «ж» – звук неблагозвучный. А у вас каждая строка жужжит:
- Там, где всё сверканье, всё движенье,
- Пенье всё, – мы там с тобой живем.
- Здесь же только наше отраженье
- Полонил гниющий водоем.
Гумилев изогнул одну бровь (как у них, у дворян, так получается, Горький понять не мог, сам-то он со своими мохнатыми седеющими бровищами никогда не мог сладить) и заговорил, спокойно стряхивая пепел с папироски:
– Ну да, гораздо сложней метафоры уж и сокол. – Уголок рта его насмешливо, издевательски дрогнул. (Тоже барские штучки!) – И вообще, если бы вы понимали поэзию… – Горькому показалось, что он выговорил это слово как-то особенно высокомерно и надменно, получилось пуэзию. – Если бы вы понимали поэзию, то никогда не написали бы целую строку из односложных слов: «Вполз уж и лег там». Русский стих не терпит такого скопления односложных. Если сказать: «Вполз уж и…» – это будет дактиль. Если сказать: «Вполз уж и…» – будет амфибрахий. А если сказать: «Вполз уж и…» – получится анапест[10].
Горький вздохнул. Он никогда не умел отличить дактиль от амфибрахия, тем паче от анапеста. И не он один. Вон, говорят, и Евгений Онегин меж ямбов и хореев путался, а анапесты с амфибрахиями для него небось и вовсе темным лесом были. Гумилев явно желал его унизить при женщине, и Горький произнес со смирением, которое, как известно, паче гордости:
– Ну какой же я поэт!
Гумилев и Чуковский переглянулись и понялись, стали откланиваться. Горький молча кивнул. Варвара Васильевна встрепенулась было, но тоже не стала их удерживать.
Непрошеные гости ушли.
Алексей Максимович пошатался по гостиной, поглядывая на хозяйку квартиры. Варвара Васильевна смотрела на какой-то листок, лежащий на столике. Листок был кругом исписан мелким, совершенно неразборчивым почерком.
Горький взял и попытался прочесть. Не скоро, но удалось-таки разобрать строки:
- Моя любовь к тебе сейчас – слоненок,
- Родившийся в Берлине иль Париже
- И топающий ватными ступнями
- По комнатам хозяина зверинца.
- Не предлагай ему французских булок,
- Не предлагай ему кочней капустных,
- Он может съесть лишь дольку мандарина,
- Кусочек сахару или конфету.
- Не плачь, о нежная, что в тесной клетке
- Он сделается посмеяньем черни,
- Чтоб в нос ему пускали дым сигары
- Приказчики под хохот мидинеток.
- Не думай, милая, что день настанет,
- Когда, взбесившись, разорвет он цепи
- И побежит по улицам и будет,
- Как автобус, давить людей вопящих.
- Нет, пусть тебе приснится он под утро
- В парче и меди, в страусовых перьях,
- Как тот, Великолепный, что когда-то
- Нес к трепетному Риму Ганнибала.
– А это что такое? – изумился Горький.
Варвара Васильевна пожала плечами:
– Николай Степанович в прошлый раз оставил. Что-то из нового. Я насилу прочла. Ну и почерк у него!
– Опять Николай Степанович?! – вспыхнул Горький. – Опять гумилятина?!
Женщина не удержалась и хихикнула:
– Гумилятина… Ой, вы как скажете, Алёша! Теперь это к нему прилипнет. А стихи смешные, он же знает, как я люблю слонов.
И правда, Варвара Васильевна обожала картинки, фигурки, игрушки, которые изображали слонов. Жила она в квартире своего бывшего мужа, Шайкевича, с которым рассталась уже давно, однако жить-то надо было где-то в нынешнее разоренное время, и здесь еще оставались фарфоровые и костяные статуэтки, изображающие миролюбивых, разъяренных и сонных слонов. Прежняя коллекция! Но имелось и кое-что новенькое, подаренное уже Горьким. И еще сегодня он собирался вручить ей маленький презент.
Поспешил в прихожую, достал из кармана шубы бумажный сверток и шелковистый пыльный мешочек. Она, эта странная фигура, так и лежала в мешочке там, где Горький ее взял. Принес в комнату.
Варвара Васильевна сделала огромные глаза и резко покраснела.
Было от чего…
Фарфоровая фигурка изображала мужчину и женщину в совершенно срамной позе. Он лежит на спине, подогнув ноги к груди, она сидит на его бедрах, совокупившись с ним. Фигурка была сделана с той изумительной тонкостью, которой отличались поистине великие произведения древнего искусства. Явственно было видно выражение огромного наслаждения, которое испытывали эти двое. Складочки на животе женщины, острые соски, напряженные мышцы нежных ног… можно было разглядеть даже крохотный пальчик, которым женщина добирала капельки наслаждения, лаская себя между ног.
– Что это? – спросила Варвара Васильевна низким голосом, который всегда появлялся у нее в особые минуты. – И при чем здесь слон?
Горький кивнул с обещающим видом и развернул бумажный сверток. В нем оказалась книга без переплета, с кое-где выдранными страницами (он сегодня ее попросту спер, украл, стащил из хранилища – не смог удержаться). Перелистал, почитал и сказал, по-волжски окая:
– Поза слона, вот как это называется у них, у китайцев-то.
Варвара Васильевна вскинула на него глаза, ткнула недокуренную папиросу в пепельницу и порывисто вскочила.
Горький улыбнулся в усы.
Он своего добился. «Гумилятина» была забыта. Надо думать, надолго!
Обнимая Варвару Васильевну, он вдруг подумал, что первое стихотворение белогвардейца было, пожалуй, не только про политику, но и отчасти про это. Как у него там…
- Так пыльна здесь каждая дорога,
- Каждый куст так хочет быть сухим,
- Что не приведет единорога
- Под уздцы к нам белый серафим…
Единорог, вот именно! Поза единорога. Совершенно точно, в книжке про такую тоже есть. И про тигров есть, да еще летающих.
Эх, жаль, Гумилев не написал про летающих тигров, очень бы кстати пришлось…
Наши дни, Франция
– О, бедный музыкальный ящик! – засмеялся гид. – Честно говоря, я заметил, как вы открываете его крышку, и решил, что вы тоже не удержались от искушения сунуть туда автобусный билет или обертку от конфеты. Когда вечером, после окончания экскурсий, начинается уборка, из этого ящика достают множество мусора. Причем особенно стараются именно русские.
Показалось Алёне или мужчина посмотрел на нее с этаким намеком? Кстати, откуда бы ему знать, к примеру, что она русская? Да, говорит Алёна по-французски с акцентом, конечно, однако поди знай, с каким именно! Или… или он угадал потому, что…
Не очень скромно, конечно, но невольно вспоминается один случай на милонге в Париже… На любимой Алёниной милонге в «Retro Dancing» подошел к ней один молодой человек и пригласил танцевать – но пригласил по-русски. Оказалось, он некогда был влюблен в русскую девушку и изучал язык.
– А откуда вы узнали, что я русская? Вам кто-нибудь сказал? – спросила у него Алёна.
– Нет, никто не сказал, но вы… – Молодой человек понизил голос: – Вы очень красивая. Сразу видно, что русская!
Здорово, правда?
Кстати, иногда и Алёна узнавала за границей соотечественников по особенной красоте. Может, и гид оценил ее внешность? Не хочется, конечно, быть нескромной, но, видимо, придется…
– Почему я знаю, что забавляются таким образом в основном русские? – проговорил в ту минуту гид. – Вы когда-нибудь видели в наших магазинах конфеты в бумажках? Никогда. Они могут быть в коробках, в особых упаковках, но в бумажках… Разве что в прозрачных обертках. А раскрашенные бумажки с непрочитываемыми надписями, на которых нарисованы почему-то в основном медведи – то белый среди льдов и снегов, то медвежата, которые возятся около упавшего дерева, – русские реалии. Почему русские туристы считают, что нет лучше мусорного ящика, чем музыкальный, я не понимаю, но факт остается фактом. Находим мы и билеты – то парижского метро и RER, то автобусов «Air France» или «Roissy Bus», так что ничего удивительного. Иногда на них что-нибудь написано, например номера телефонов. Шеф охраны шато Талле половину этого мусора коллекционирует. Его дочь, вообще-то, ксерофилка[11], так что русские бумажки для нее настоящий клад. Моя дочь когда-то тоже собирала обертки от маленьких фирменных шоколадок – конечно, давно, когда была совсем ребенком. Хотя, может, и до сих пор собирает, но…
Он умолк.
Почудилось Алёне или в голосе мужчины прозвенела нотка горечи? Возможно, он разошелся с женой и давно не видел семьи?
Ну что ж, у каждого свой скелет в шкафу, в том числе и у гида замка Талле, а может, даже и графа.
Алёна вспомнила свое «босоногое детство». Разумеется, и она прошла через безумное увлечение собиранием фантиков, тем паче что конфеты, хорошие конфеты, были в ту пору в чудовищном дефиците (как и все остальное – духи, мыло, одежда, книги, колбаса), но не знала, что это по-научному называется ксерофилия. Впрочем, наверняка французы знать не знают такого слова, как фантики. Так что один – один.
– Значит, вы считаете, что ничего особенного в этом билете нет? – спросила писательница Дмитриева.
– Считаю, что нет, – кивнул гид. – Надпись довольно невразумительна, мне кажется, это случайное совпадение букв с именем Серебряной Фей.
– Но дева, дева! – воскликнула Алёна.
И осеклась. Балда она, конечно. Это для русского восприятия deva – дева, а во-французском языке и слова-то такого нет.
Конечно, может быть, надпись на латинице сделал кто-то из русских, но… зачем? Почему? Неужто Алёна вляпалась в очередные разборки с очередной русской мафией?
А может, ей и в самом деле мерещится то, чего нет? Так очень часто бывало, между прочим…
– Если вы решили, что кто-то покушается на китайскую коллекцию замка, – продолжал гид, – то спешу вас предупредить: ценность статуэток совершенно условная, они сделаны из фарфора довольно низкого качества, поскольку являются копиями с подлинников, которые по-прежнему хранятся в Пекине, в музее. Наши же фигурки, я имею в виду собственно коллекцию, созданы, за исключением одной, в начале двадцатого века придворным мастером Цыси. Строго говоря, ценность их именно в том и состоит, что мы знаем: статуэтки – подарок императрицы графу Эдуару Талле. Если же этого не знать… В любом случае ни на каком аукционе всерьез к таким безделушкам не отнесутся. Ну а документа об их происхождении мы, конечно, никому не выдаем. Так что, повторяю, нет поводов для беспокойства. – Мужчина успокаивающе кивнул Алёне, словно не сомневаясь: больше вопросов у нее нет. – Кстати, вы как решили: попросите вернуть деньги в кассе или пойдете выпьете вина? Очень рекомендую последнее. Великолепное бургундское.
– Извините, я не пью красного вина, – отрезала Алёна, прекрасно понимая, что падает ниже низшего предела в глазах этого гида (а может, даже и графа), да и вообще в глазах любого француза. Ведь они-то все готовы пить красное с утра до вечера, а Алёна не может, совершенно не может его пить. Бывает же такое: кто-то на дух водку не переносит, а писательница Дмитриева – красное вино.
– Честно говоря, я тоже его недолюбливаю, – усмехнулся тот, очень возможно, граф, но наверняка гид. – Однако меня в родной стране подвергнут остракизму, если я в этом признаюсь. Поэтому в компаниях я говорю, что вовсе не пью – по состоянию здоровья, а вечером, дома, открываю бутылку белого шабли. Белого или розового. Кстати, здесь неподалеку, километрах в двадцати, есть городок, который называется Троншуа, и там некий мсье Гийом Моро продает в базарные дни вино из своих погребов – красное, розовое и белое. Так вот розовое – одно из лучших ординарных шабли, которые я пробовал.
– Я не настолько люблю вино, чтобы ехать за ним в другой город, – заметила Алёна сдержанно. – К тому же у меня нет машины, я здесь в гостях у друзей.
– А где вы гостите, в Тоннере? – спросил гид с вежливым интересом.
– Нет, они в Нуайере живут, – соврала Алёна, черт знает почему.
Нет, а правда, почему? Почему не сказала правду: в Муляне? Почему назвала Нуайер, который всего в шести километрах от Муляна, а не согласилась на Тоннер, который все же в семнадцати? Почему не сослалась на какой-нибудь Оксер или Монбар – те еще дальше?
Впрочем, что за глупости? Какое имеет значение, где живут или отдыхают ее друзья и она вместе с ними?
– А вообще вы откуда приехали? – спросил гид.
– Из Парижа, – не стала скрывать Алёна.
В самом деле, в Мулян писательница приехала именно из Парижа. А ежели гид хотел узнать, из какого она русского города, то ему надо задавать новый вопрос… Задаст или нет? И если да, что она ответит?
Он ничего не спросил, и Алёна нахмурилась.
– Ну что ж, – сказала холодно, – если вы считаете, что записка ничего не значит, тогда я ее выброшу, как только увижу ближайшую мусорную корзинку. А на будущее советую вам побольше этих самых корзинок расставить по шато. Тогда не придется всякую ерунду из музыкального ящика вытаскивать.
– Мой карман вполне может такой корзинкой послужить, – предложил гид, протягивая руку. Но Алёна уже сунула билет в карман, обронив:
– Да ладно, где-нибудь потом выброшу. Большое спасибо за экскурсию. Всего наилучшего.
И быстро пошла прочь.
– И вам всего доброго, мадам, – пробормотал гид несколько озадаченно. С чего вдруг мадам стремглав ринулась от него подальше? Чем он ее обидел?
На самом деле – ничем. Просто у нее внезапно расстегнулись брюки.
Ну да, вообразите, сидели-сидели себе на бедрах очень плотно, в обтяг, – и вдруг начали сползать. Шансов на то, что по причине внезапного похудения нашей героини на пару-тройку килограммов, не было никаких. А жаль! Значит, отвалилась пуговица. То-то Алёне утром показалось, что она как-то хлипко держится… В таких случаях надо сразу хвататься за нитку с иголкой, но ведь лень раньше некоторых родилась. К тому же Алёна торопилась – Морис спешил отвезти семью в Тоннер в бассейн. Из Тоннера в Талле шел автобус. Вся Алёнина поездка должна была занять два часа. Когда Алёна вернется, семейство ее друзей уже вволю накупается, и они все вместе где-нибудь в Тоннере пообедают, а затем поедут домой, в Мулян. Отличная программа.
Вообще даже хорошо, что гид так наплевательски отнесся к истории с билетиком, подумала Алёна. Если бы началось какое-то разбирательство, она бы точно опоздала на автобус – и чудесная программа могла бы сорваться. Правда, получается, она зря присматривалась и прислушивалась ко всем экскурсантам так внимательно, что теперь вполне могла бы составить словесный портрет каждого, вместо того чтобы любоваться замком. Кстати, очень возможно, билетик положил турист вовсе из другой группы, так что Алёна вдвойне зря старалась.
Так, хватит размышлять о всякой бессмыслице, нужно срочно застегнуть штаны булавкой. Как женщина опытная и довольно часто оказывающаяся в подобном положении из-за лени и рассеянности, Алёна всегда носила с собой булавочку, а то и две, постоянно подумывая и о том, чтобы завести привычку носить еще и так называемый набор туриста, с нитками и иголками (а что, можно прямо сегодня и купить в Тоннере). Но как ни была раскованна и рискова наша героиня, все же вот так взять, задрать длинную майку и начать демонстрировать всем свою неряшливость она не могла. Требовалось найти укромный уголок.
Алёна окинула взглядом двор шато, заодно проверяя, не следит ли за ней гид, а может, и граф. С облегчением вздохнула: тот как раз входил в дом. И продолжила осматриваться. Здесь, перед главными воротами, никаких таких закоулков нет, кругом народ, а вон там, если перейти подъездную дорогу, видны какие-то низкие строения вроде конюшен или сараев. Самое то!
Она ринулась вперед, посвистев на прощание графским собакам, лениво дремавшим перед крыльцом. Выглядели те, прямо скажем, довольно непрезентабельно – дворняжки какие-то, а не их сиятельства. Однако небольшие каменные львы у террасы смотрели грозно, как и подобает графским львам.
Часы над входом как остановились на без четверти пять какого-то там века, так и стояли.
Красота, какая красота… Каждый камень прекрасен, каждый платановый лист, чьи тени дрожат на стенах… Хорошо бы еще вернуться сюда, ну хоть еще разик приехать бы! Не бросить ли через парапет монетку в пруд?
«Ага, пока ты будешь шарить в кармане, штаны точно свалятся!» – одернула себя Алёна.
Придерживая их рукой через майку, отчего имела вид человека, которого внезапно схватила колика, она засеменила к конюшне. По пути сообразила, что из-за такой походки напоминает также человека, которому срочно, архисрочно понадобилось сделать небольшое и деликатное пи-пи. А может, и не небольшое и не деликатное…
Ой, а вдруг кто-нибудь обратит внимание на то, как она идет и куда идет? И подумает, что экскурсантка решила превратить графскую конюшню в туалет? Не плюнуть ли на приличия и не начать ли застегиваться прямо на улице?
А, ладно! Каждый понимает вещи согласно своей испорченности, Алёна-то знает, что совесть ее чиста.
Она влетела в низенькую дверь, мельком глянула вокруг и убедилась, что и в самом деле попала в конюшню. Да какую чистенькую, уютную! Только холодно здесь. Бедные лошади, наверное, мерзнут в этих каменных денниках… Или животные не мерзнут так, как люди? Теперь-то точно не мерзнут – хотя бы потому, что их здесь нет, только лежит сено в очень аккуратных тюках (один на другом до потолка) да висят седла и прочая верховая сбруя на крюках. Алёна отстегнула заветную булавку с внутренней стороны кармана и принялась торопливо прилаживать ее на брюках. Бог весть почему, руки так дрожали, словно она, по старинному присловью, кур воровала. И возилась с минутным делом наша героиня как-то очень долго, причем ей все время чудилось, что кто-то сейчас заглянет в дверь и спросит, как в том замечательном детском фильме давно ушедших времен: «А что это вы здесь делаете?» Или, сообразуясь с местоположением: «Et que faites-vous cela ici?» Никто не заглядывал. Но Алёне все равно казалось, что кто-то смотрит, смотрит на нее…
Булавка гнулась – оказалась маловата и тонковата для поддержки штанов. Алёна дважды уколола палец и дважды шепотом употребила инвективную лексику, нарушая одно из своих строжайших табу… Еще и сумка соскользнула с плеча, задела ремешком по руке – вот подлость! – булавка упала на пол, усыпанный сенной трухой, и немедленно сгинула с глаз. Искать булавку в сене – наверное, все равно что искать в нем иголку. На счастье, у нашей запасливой героини лежала еще пара булавочек в сумке. Они оказались побольше и покрепче.
Наконец дело было сделано. Алёна подергалась так и этак, опустилась на корточки, чтобы проверить, не расстегнется ли булавка, когда в автобусе сядешь, – и тут боковым зрением отметила что-то коричневое… что-то, высовывающееся из-за сложенных один на другой тюков с сеном…
Башмак! Нога в мокасине! Больше ничего не было видно, только эта нога в коричневом мокасине. Кажется, какой-то человек, устроившись поудобней на одном из тюков, сейчас наблюдал за писательницей Дмитриевой, проковыряв в сене дырку! Алёне даже почудился в щелке между тюками внимательный глаз! Хотя ерунда, конечно, ничего такого она видеть не могла.
Надо ли говорить, что наша героиня вылетела из конюшни с такой скоростью, будто там вспыхнул пожар и Алёна торопилась набрать номер 01… нет, номер 17, по которому вызывают во Франции пожарных, называемых здесь сапер-помпье?
Во дворе она снова огляделась. Вокруг было пусто, гида не видно, никто за ней не наблюдал. Ну, кроме того типа в коричневом ботинке, который остался в конюшне.
Извращенец несчастный! Он, наверное, нарочно там устроился, чтобы подглядывать за дамами, которые могут забежать в конюшню, чтобы украдкой сделать маленькое и деликатное пи-пи или кое-что иное. И решил, что Алёна зашла туда именно за этим! Но какой смысл пакостить в благородной конюшне, если вон, за воротами шато, стоит сакраментальное здание с сакраментальными же фигурками?
Хотя, видимо, всякое случается. Возможно, были прецеденты, потому извращенец и устроился в укромном уголке. Интересно, он из персонала замка или турист? Да ладно, какая разница! Ничего компрометирующего Алёна все равно не делала, так что можно спокойно ехать домой.
Так она и поступила. Только спокойно не получилось – неприятный эпизод почему-то заслонил все эмоции, испытанные в Талле: и восторги, и волнения, и… Просто все!
Бывают же такие чувствительные натуры…
Ну и дуры!
Вторая половина XIX века, Китай
Император забыл о Лан Эр. Однако та не забыла своей неудачи, своего позора. Другая зачахла бы от тоски – а вот цепкая, упрямая, как маньчжурская сосенка, Лан Эр решила… расцвести.
Каждой императорской наложнице в год полагалось 150 лянов в год[12] – на украшения и маленькие – совсем маленькие! – удовольствия. Но маленькие удовольствия были Лан Эр совершенно ни к чему. Ей требовалось кое-что побольше! На всякую ерунду Лан Эр драгоценные ляны тратить не стала, подкупила младшего евнуха Ши Цина, который был пристрастен к опиуму и которому, конечно, никогда не хватало денег на тайные посещения опиекурильни (за это можно живо распроститься с головой, однако Ши Цин готов был на все ради нескольких затяжек «волшебной трубкой»!), и тот несколько раз украдкой выводил Лан Эр из дворца. Путь ее лежал в квартал «чанцзя», квартал «домов певичек» – к тому дому, где обитала самая знаменитая городская проститутка Сун по прозвищу Слива Мэйхуа. Ходили слухи, что нет в столице никого искушенней, чем она, в искусстве любви. Многие аристократы просаживали целые состояния, только бы добиться ее благосклонности и изведать в ее объятиях неземное блаженство. Ведь она исчисляла свой род прямиком от немногих потомков Серебряной Фей! Госпожа Мэйхуа могла бы стать очень богатой, однако на севере, на берегах реки Мангун[13], у нее было множество родственников, совершеннейших бедняков, которым Мэйхуа и отсылала почти все деньги.
Узнав про это, Лан Эр только губы презрительно скривила. Какая глупость! Она так даже и не вспоминала ни отца, никого иного из родных, а чтобы деньги на них тратить… Нет, право, доброта – самое невыгодное свойство характера!
А между тем именно из доброты – не такие уж большие деньги платила Лан Эр – госпожа Мэйхуа взяла ее в ученицы. Она просто пожалела свою землячку – ведь они обе были маньчжурками, затерявшимися в далеком и таком огромном городе. Из сочувствия госпожа Мэйхуа начала учить Лан Эр самым изощренным тонкостям своего ремесла, читая при этом старинные любовные стихи, которых знала великое множество:
- Янь —
- Мужчина,
- Белый Тигр.
- Он свинец,
- Он огонь,
- Это запад.
- Инь —
- Женщина,
- Желтый Дракон,
- Она киноварь,
- Она вода,
- Это восток.
- Когда они сливаются,
- Ртуть рождается —
- Вечное начало всему.
Слива Мэйхуа была заботливой учительницей. Кроме того, ей все-таки льстило, что императорская наложница приходит к ней брать уроки… Сливе Мэйхуа казалось, что так император становится ближе к ней. Она думала: «Я вложу в Лан Эр свою душу и свою способность усладить мужчину. Сын Неба возьмет ее, но на самом деле он возьмет меня! Я, Сун, по прозвищу Слива Мэйхуа, приму семя драконов!»
Ну что ж, бедняжка Сун была слегка не в себе. Она слишком много думала о том, что ведет свой род от самой Серебряной Фей. Однако ее фантазии были вполне безобидны, а ремесло свое она знала очень хорошо.
Иногда Сун открывала заветный шкафчик и, приложив палец к губам, доставала оттуда шкатулку, обитую изумрудным шелком. В шкатулке, каждая в отдельном мешочке – они были разных цветов, и Мэйхуа знала наизусть, что в котором лежит, – хранились драгоценные статуэтки. Сун, которая, как известно, была не совсем в своем уме, говорила, что они достались ей через много поколений, но в незапамятные времена их вылепили с самой Серебряной Фей. Конечно, Лан Эр была не так глупа, чтобы в это верить. Тысяча лет статуэткам, что ли? Фигурки выглядели как новенькие!
Смотреть на них было очень интересно. Все они изображали мужчину и женщину в позах сладострастия, и Слива Мэйхуа подробно рассказывала Лан Эр, что в такой-то позе чувствует мужчина, а что – женщина, как соприкасаются «яшмовая пещера» и «нефритовый жезл», что может сделать женщина, дабы усилить страсть, продлить или ускорить соитие.
Сун обожала статуэтки и уверяла, что обязана им удачей своей жизни. Это были ее талисманы, божества, верные друзья… Доставая их из мешочков, она целовала сначала мужчину, а потом и женщину в голову и ласково здоровалась с ними, прижимая к груди. Женщину звали Фей, мужчину – Чжу, и Слива Мэйхуа часто рассказывала их историю Лан Эр, хотя та и без того знала ее наизусть: ведь в Маньчжурии все знают сказку о Серебряной Фей. И только одну статуэтку госпожа Сун никогда не целовала. Ту, что хранилась в белом мешочке и называлась «Летящий белый тигр».
Как-то раз Лан Эр спросила свою наставницу, почему эта статуэтка не пользуется ее любовью.
– О нет, – покачала головой Слива Мэйхуа, – я люблю ее. Просто… просто я прижму ее к груди в тот миг, когда задумаю проститься с миром живых. Я не собираюсь дожить до того времени, когда превращусь в сморщенную уродину или меня окончательно истерзают болезни. Пока-то я превозмогаю их, но лишь только мне надоест терпеть боль, сама поднимусь в небеса. И две эти фигурки будут моими провожатыми.
Госпожа Мэйхуа таинственно замолкла, убрала статуэтку в белый мешочек и больше, сколько ни допытывалась Лан Эр, не отвечала на вопросы.
Сун не оставляла без внимания ни одной мелочи в обучении своей землячки – начиная с того, как правильно одеться, а потом раздеться, чтобы возбудить мужчину:
- Красавица на ложе
- Раскинулась игриво.
- Вокруг нее цветы, цветы стоят кругом.
- Постель благоухает благовониями,
- Курильница бронзовая источает ароматы,
- От которых кружится и туманится голова.
- Красавица снимает верхнее платье,
- Потом настает черед тонкой рубашки.
- И вот ее тело обнажено, ее дивное белое тело!
- Оно прекрасно, ах, как оно нежно и прекрасно!
- И кожа ароматней всех цветов, и губы приоткрыты.
- И яшмовая пещера ее увлажнена желанием
- Дарить наслаждение и наслаждаться,
- А значит,
- Готова принять нефритовый жезл…
Конечно, часто бегать на уроки Лан Эр не могла, но Слива Мэйхуа считала ее весьма способной и прилежной ученицей. И вскоре сказала, что Лан Эр вполне готова взять свое от жизни. Ведь, кроме искусства любви, Лан Эр стала сведуща в пении и танцах, выучила наизусть множество стихов, постигла секреты ухода за лицом и телом. Как-то невзначай выяснилось, что она прекрасно рисует. Лан Эр взяла да изрисовала стены своего домика орхидеями. А еще на клумбах близ своего домика, «Тени платанов», она посадила четыре сорта орхидей, чтобы цвели в любое время года.
И вот она пошла проститься со своей наставницей. В подарок ей Лан Эр взяла ветку прекрасной белой орхидеи.
В доме госпожи Мэйхуа было полутемно. С трудом Лан Эр разглядела хозяйку, которая лежала на постели. Она была облачена в свой любимый наряд, в котором сочетались четыре цвета: белый – цветущей сливы, желтый – мелкой ароматной сливы, которая растет в Маньчжурии, темно-красный – как слива в период созревания, и почти черный – цвет переспелой сливы. Лан Эр восхитилась вкусом госпожи Мэйхуа. Но только собралась выразить свой восторг, как увидела, что ее учительница мертва.
Да-да, она лежала бездыханна, и смерть уже коснулась рукой ее лица, оставив на нем темные тени.
Левая рука Сун лежала на груди, в вырезе платья, и что-то крепко сжимала. Лан Эр посмотрела – и узнала статуэтку под названием «Летящий белый тигр»! Она уютно устроилась на мертвой груди, которая еще недавно была такой горячей, а потом похолодела.
Пальцы другой руки госпожи Мэйхуа держали белый мешочек. Лан Эр сразу узнала его – в нем еще недавно лежала эта статуэтка.
Дрожа от страха, Лан Эр вынула мешочек из мертвой руки, а затем, взяв двумя пальчиками статуэтку, спрятала ее туда. Потом еще постояла, глядя в застывшее лицо госпожи Мэйхуа, молча спрашивая – и словно бы читая ответ в неподвижных, слегка искаженных мучительной судорогой чертах…
Потом она вознесла молитвы своим предкам, моля их о покровительстве, поручила себя также и заботам Серебряной Фей – и подошла к шкафчику, где хранилась заветная шкатулка.
Та была на месте. Недолго думая, Лан Эр вложила туда белый мешочек, снова заперла шкатулку, спрятала ее под полой и поспешно вышла из домика.
Опустив голову, возвращалась она во дворец, но ошибся бы тот, кто решил бы, что Лан Эр плачет. Лицо ее было нахмуренным и сосредоточенным. Она пыталась осмыслить случившееся… и молила всех богов, чтобы догадка, которая открылась ей, была верна… еще думала, что после смерти госпожа Мэйхуа принесла ей ничуть не меньше пользы, чем при жизни…
Наши дни, Франция
Вот так всегда – стоит зациклиться на какой-то неприятной мысли, как все начинает идти вразнос. Как будто приоткрывается некая щель в мироздании – и все гадости, которые там скопились, но до поры до времени как-то стеснялись усложнять твою и без того сложную жизнь, кидаются в нее толпой…. Конечно, всем неприятностям проскользнуть не удается, но зато успевает пара-тройка самых ретивых – и самых омерзительных.
Такой пакости да еще дважды подряд Алёна от судьбы и от любимого Муляна никак не ожидала!
Все началось утром, когда наша героиня отправилась на обычную пробежку по окрестностям. День был пасмурный, небо нависало низко, в тучах копился дождь. В подобную погоду Алёна любила бегать не по увалам и лощинам – там становилось жутковато. А уж когда ветер вдруг начинал перебирать желуди на дубовых ветвях или со свистом вырываться из-за поворота, оживали воспоминания о призраке велосипедиста, и, несмотря на то что эта история кончилась относительно благополучно[14], по спине Алёны начинали бегать мурашки, так что все удовольствие от прогулки было смазано.
Слишком часто попадала писательница в Муляне во всякие немыслимые переделки, отчего тот вполне заслужил от нее прозвище «криминальной деревни». И все же она любила, отчаянно любила эту бургундскую деревушку и всегда была рада случаю снова оказаться там.
Все окрестные дороги были ею избеганы и хорошо знакомы, и сегодня Алёна из-за нервозности, связанной с пасмурной погодой, отправилась вдоль железнодорожного полотна, которое проходило километрах в трех от Муляна. Цивилизация рядом, никаких страхов-ужасов, ни один призрак не выдержит такого соседства! Вдоль узкой асфальтовой полосы с интервалом в четверть часа проносились скоростные поезда, похожие на серых двуглавых, обоюдоострых змей, издававших при движении пронзительный шип. Плети ежевики там и сям выползали на дорогу, словно змеи. У Алёны каждый раз невольно падало сердце при виде их. А еще ей попалась на дороге змея – длинная и серая, как веревка. И прыжок нашей героини через нее вполне мог быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя не исключено, что там в самом деле валялась именно веревка, но так Алёна решила по здравом размышлении и довольно далеко от того места. Разумеется, она не стала возвращаться, чтобы проверить.
Странно, с чего вдруг сплошные змеиные ассоциации ей в голову лезут? Буйное воображение заставило Алёну более пристально всматриваться в обочины.
Роща, мимо которой она бежала, закончилась. Чуть поодаль лежал заброшенный карьер, отделенный от дороги какими-то просто глобальными зарослями ежевики. Ягода сейчас, в середине августа, в самой поре, отчего кусты казались более черными, чем зелеными.
Переспелая ежевика – это вкусно. Сейчас ею все уже порядком наелись, однако Алёна вместе с Лизочкой и Танечкой, дочками ее друзей, Мориса и Марины Детур, все равно каждый день надевали длинные толстые перчатки – а как иначе с ежевикой-то обходиться? – и обшаривали небольшие заросли в огромном саду возле мулянского дома. Как правило, ягоду съедали сразу (с сахаром и молоком или без сахара, но с мороженым – чудесный десерт!), ну а если удавалось набрать и в окрестностях, она шла на пироги из овсяной муки, которые виртуозно пекла Алёна. Не сказать что наша героиня так уж любила готовить, но в Муляне на нее снисходило некое кулинарное вдохновение, как говорил Морис..
Здесь можно было бы набрать ежевики ведро, причем даже не углубляясь в заросли – с крайних, удобных веток. Останавливало Алёну лишь то, что перчаток и ведра у нее при себе не имелось. Хотя ведь тут всего в полусотне метров железнодорожное полотно… Вряд ли ягоды экологически чистые. А вот сзади, метрах в двадцати, в лесу со стороны карьера, наверняка почище. Может, уговорить Мориса приехать сюда на машине, прихватив ведерко? Без проблем удалось бы набрать на немалое количество джема…
Алёна решила посмотреть, есть ли там вообще ягода-то. Может, не одна она такая умная и шустрые бургундцы-мулянцы уже освоили эту плантацию? А то приедут с Морисом к разбитому корыту…
Наша героиня ступила на обочину и начала обходить кусты. Запах стоял сладкий-сладкий, вкусный-вкусный! Шмели носились над кустами, потому что на верхних, выше человеческого роста, ветках еще белели мелкие ароматные цветы. Ежевика разом и цвела, и переспевала – чудеса! Не удержавшись, Алёна шагнула ближе, сорвала ягодку, но неосторожно переступила – и зацепилась краем шортов за выступающую плеть. Та мигом вцепилась в джинсу, как голодный зверек. Алёна начала ее отцеплять, укололась, выпустила из руки ветку – и плеть с размаху хлестнула ее по голым ногам. Любительница вкусненького отпрянула, взвизгнув. Сзади откуда ни возьмись вывалилась еще одна ветвь и тоже хлестко прошлась по ногам. Алёна пошатнулась – и навалилась на куст плечом. Несколько колючих лап мигом вцепились в майку, в голые руки…
Держидерево, ну самое настоящее держидерево! Ветви цепляются с такой жадностью, как будто изголодались по человечине!
Воображением писательница Дмитриева отличалась крайне буйным, иначе и не была бы писательницей. И панике склонна была поддаваться. Вот и сейчас, едва родился жуткий образ, она рванулась из объятий плотоядной ежевики – и одним прыжком выскочила на дорогу, даже не почувствовав боли, зато как ожгло болью через минуту! А при взгляде на собственные руки и ноги, покрытые извилистыми кровоточащими царапинами, ей стало просто худо.
Ну и ну… Жаркое лето на дворе, а тут такая картина… И даже не маслом, а кровью!
Ничего, крем «Спасатель», привезенный из России – с любовью, само собой, а как иначе?! – поможет. В два, максимум в три дня все заживет. На ней все с детства заживало как на собаке, по расхожему выражению. И вообще, дело могло быть хуже, если бы ветка вцепилась в лицо, философски рассудила Алёна.
Интересно, какой бес нарисовался в то мгновение за ее левым плечом и подслушал эту мысль?! Причем ведь, мелкий пакостник, подслушал – и не сразу начертобесил, а затаился. И сидел где-то в своем чертовом пекле, или где они там, бесы, сидят в свободное от работы время, и вынашивал планы, и строил козни, и предвкушал наслаждение, которое приберег на вечер…
День прошел более или менее нормально, причем было не так чтобы смертельно жарко, полупрозрачная блуза из марлевки с длинными рукавами и легкие льняные брюки очень хорошо скрывали повреждения, нанесенные лилейному Алёниному телу, обмазанному спасительным русским кремом.
– Слушай, а мы хотели тебя попросить завтра поехать с нами в Тоннер, в бассейн, – грустно сказала за ужином Марина, узнав о ранах приятельницы. – У Мориса урок поло, у нас с Лизочкой – плавание с тренерами, а Таня одна остается, за ней нужно присмотреть. Вот прямо, как назло, все наши уроки в одно время сошлись…
– Ничего, я поеду. Подумаешь, царапины! – героически сказала Алёна. – Залезем с Таником в лягушатник, никто их под водой и не разглядит.
На сей оптимистической ноте закончили ужин и пошли наверх – ванная помещалась на втором этаже, – купать девчонок перед сном. Этот веселый и шумный процесс уже почти закончился, когда Марина спохватилась, что забыла взять пижамы дочерей.
– Я схожу, – предложила Алёна.
– Они в спальне на Лизкиной кровати, – пояснила Марина.
Алёна вышла из ванной и включила свет на лестнице. На дворе еще было светло – всего девять вечера, – но ставни уже затворили на ночь, так что вокруг царила почти полная тьма. Ну некого, совершенно некого, кроме нашей героини, спрашивать, почему она не включила свет и в спальне, а пошла к Лизочкиной кровати наугад. И врезалась – другого слова не подберешь! – лицом в распахнутую дверцу шкафа.
Ее никогда и никто не оставлял открытой, наверняка тут не обошлось без происков нечистой силы, и именно ее помянула Алёна полным набором всех инвективных и неформальных выражений, которые ей были известны. А поскольку она была все же писательницей, мастером слова, не побоимся этого слова, то знала их немало, так что перечисление заняло изрядное количество времени, Марина даже крикнула нетерпеливо:
– Алёна, ну где там пижамы?!
– Иду, – проскрипела Алёна и вошла в ванную.
Марина и обернутая в полотенце Лизочка остолбенели и онемели.
– А ты не видела принцессу? – кричала Танечка, все еще сидевшая в ванне спиной к Алёне.
Никто из взрослых не знал, что там была за принцесса и почему Лиза должна была ее видеть, но девчонки беспрестанно про нее болтали, неистово хохоча, и по условиям игры отвечать почему-то следовало: «Какой ужас!»
– Какой ужас, – сказала Лизочка тихо, но сейчас ее слова, кажется, не имели отношения к игре.
Танечка обернулась и испуганно вскрикнула.
– Боже… – протянула Марина.
– Ну, это вряд ли, – усмехнулась Алёна. – Скорее черт.
– Ты говоришь иногда – «черт подери», – плаксиво проговорила жалостливая Танечка. – Тебя черт подрал, да?
Алёна с Мариной переглянулись – и начали хохотать. Ну и востры же нынче пошли дети!
Ну да, им бы только над чем-нибудь посмеяться. Нет чтобы сразу бежать к холодильнику, хватать лед, прикладывать к разбитой физиономии… Куда там! Они хохотали!
Сказки дальних стран и далеких времен






