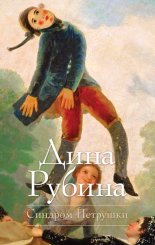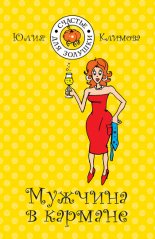Автопортрет: Роман моей жизни Войнович Владимир
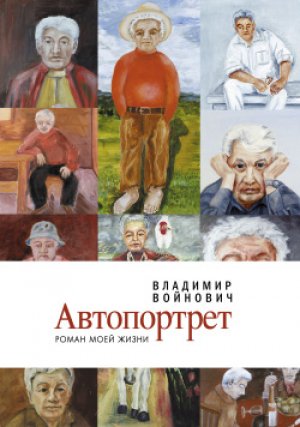
Я никак не мог ей поверить. То есть я уже знал, что время от времени где-то каких-то покойников везут в деревянных ящиках куда-то за город или за деревню и там закапывают в землю, такое случилось, например, с моим дедушкой, но я никогда не думал, что это обязательно должно случиться со всеми, и уж вовсе не думал, что может случиться со мной.
Теперь бабушка сказала, что может, и даже непременно случится.
Конечно, моя бабушка была фантазерка и часто рассказывала такое, во что поверить было попросту невозможно. Она даже утверждала, что в свое время была маленькой девочкой.
Я в девочку не верил и в то, что умру, не поверил тоже. Но потом стал думать и попробовал вообразить. Ну, с самой бабушкой все получилось более или менее легко. Она была маленькая, худая, желтая, с острым носиком. Если положить ее в гроб, закрыть глаза, украсить цветами, она там будет как раз на месте. В конце концов, напрягши все свое воображение, я представил себе, что могут умереть мои тетя, дядя, двоюродные братья, даже мама и папа.
Но я?
Было лето, был ясный и жаркий день. Я отошел от хутора подальше в степь и стал смотреть вдаль. В степи, от края до края, серебрился сухой ковыль и перетекал в дымное марево на горизонте. Черный коршун неподвижно висел под солнцем. Я закрыл один глаз и закрыл второй. Открыл глаза поочередно и увидел то же самое: ковыль серебрился, марево дымилось, коршун висел. Я закрыл и открыл глаза одновременно. Все оставалось там, где было, даже коршун не сдвинулся с места.
Я попытался представить, как это все может существовать без меня, но чем больше думал, чем сильнее напрягался, тем яснее понимал, что без меня это не может существовать никак.
Змея с кружочками
После эксперимента с перепряжкой волов колхозное начальство их у нас отняло, решив, что мы не большие баре, можем в школу ходить и пешком. Семь километров туда, семь обратно – для городского мальчика расстояние серьезное.
Вышел я как-то из школы после обеда. Солнце еще высоко, погода теплая, путь далекий. Но зато по дороге колхозный баштан, или по-русски бахча. А там арбузы, или, по-тамошнему, кавуны. Не очень большие, величиной с человечью голову. Некоторые уже созрели, а иные еще нет. А как отличить спелые от неспелых, не знаю. Вот те же Тарас или Дмитро отличают. Приложат к арбузу ухо, постучат пальцем и только после этого сорвут или оставят. Я попробовал поступить так же. Выбрал арбуз покрупнее, постучал пальцем, вроде как раз то, что нужно. Вытащил арбуз на край баштана и о дорогу – она твердая – расколол. Арбуз внутри оказался белый. Вытащил второй. То же самое. Я их уже пару дюжин наколотил, когда раздался голос свыше: «Эй, малой! Ты шо тут робишь?»
Я поднял голову и увидел: на дороге рядом со мной стоит бидарка (двуколка), а в ней толстый, как бочка, бригадир Пупик с кнутом в руках. Его серая в яблоках лошадь, названная за резвость Пулькой, косит огненным глазом то на меня, то на бригадира, как бы спрашивая: «Ну что мы с ним будем делать?»
Я перепугался до смерти. Один извозчик еще в Ленинабаде меня однажды за то, что я сзади за его фаэтон цеплялся, протянул кнутом, и я запомнил, что это больно. Я смотрел снизу вверх на бригадира и молчал, не зная, что сказать, как оправдаться. Если бы я один арбуз разбил или два, а то наколотил их тут целую кучу. Бригадир, не дождавшись ответа на первый вопрос, задал второй: «Дэ идешь?» Не зная местного языка, я догадался, что «дэ» это значит «где», и сказал, что здесь иду, по дороге. Он подумал и спросил: «А ты чей?» Я понял вопрос буквально и буквально ответил: «Мамин и папин». Он снова задумался, но, видимо, понял, что тут без переводчика не обойтись, закричал лошади: «Но-о!» – и свистнул, не касаясь ее, кнутом. Пулька с места в карьер рванула и понесла бидарку вдаль, подняв за собой тучу пыли.
Оставшись один, я мог бы продолжить уничтожение баштанного урожая, но не решился и место преступления торопливо покинул.
Дорога была скучная, длинная и вилась, как река, поворачивая то туда, то сюда, сначала вдоль баштана, а потом втекла в поле, на котором только что скосили пшеницу. Мне не нравилось, что дорога виляет, это делало ее длиннее, чем она должна была быть. Если бы я был здесь начальником, я бы всем приказал ездить только прямо по линеечке. Но поскольку до начальника я еще не дорос, а вилять вместе с дорогой мне не хотелось, я покинул ее и пошел прямо через поле по колючей стерне между копнами пшеничной соломы, оставшимися после недавней жатвы. В других местах (это я видел потом) жали хлеб серпами, стебли связывали в снопы, снопы складывали стоймя в суслоны, а здесь протащенная через молотилку комбайна мятая солома была сбита в копны, разложенные ровными рядами по полю, словно большие, круглые, лохматые шапки. Я проголодался и в предвкушении ожидающего меня обеда шел чем дальше, тем быстрее. Сначала между копнами, а потом прямо через них, пиная их ногами и разбрасывая.
Раз! Махнул ногой, и копна разлетелась. Раз! – разлетелась вторая. Ра-аз! Я копну развалил, а она вдруг зашипела, как масло на сковороде, из нее вывернулась черная змея, которая, повернув ко мне маленькую головку с очень злобными глазками, высунула длинный язык и зашипела еще сильнее.
Приходилось мне до этого и потом испытывать страх в разных страшных случаях, но такого ужаса я не знавал никогда.
Я сначала оцепенел, потом заорал на всю степь «мама!» и кинулся бежать. Я бежал, стерня шелестела под ногами, мне казалось, что все змеи собрались, шипят, гонятся за мной и вот-вот догонят. Я кричал, у меня иссякали силы, кричать я не мог и не кричать не мог. Я бежал неизвестно куда и очень долго, до тех пор пока не свалился без сил. А когда свалился, то подумал, что вот они, змеи, все сейчас ко мне подползут и все будут меня, маленького, несчастного, жалить и жалить, и я умру, как мне обещала бабушка. Но у меня уже не было сил бояться, и я решил, пусть ползут, пусть жалят, только скорее.
Пока я ждал смерти, солнце опустилось к горизонту, большое, красное, предвещавшее, по бабушкиным приметам, ветреную погоду. Я понял, что, раз я не умер, надо вставать и идти. Но я не знал, куда именно. Степь да степь кругом, дороги не видно и ничего, кроме бесконечного ряда копен, такого, чтоб выделялось: ни дерева, ни дома, ни дыма. Я пошел за солнцем, а оно от меня уходило быстро и равнодушно. Оно опустилось за горизонт, и степь потемнела, лишив меня всякого представления о том, куда я должен идти. Опять вернулся страх. Теперь я боялся змей, волков, шакалов, чертей и чего угодно.
Я шел и ревел монотонно, как дождь.
И было отчего. Городскому мальчику остаться одному ночью в степи, разве может быть что страшнее?
Я шел, ревел и вдруг заметил, что там, где-то впереди, очень далеко, что-то как будто светится. Я прибавил шагу, потом побежал и в конце концов с диким ревом вбежал на колхозный ток, где возле горы намолоченного зерна несколько комбайнов стояли почему-то на месте и светили всеми своими фарами. Там же я увидел бригадирскую бидарку и самого бригадира Пупика.
– Эй, малой! – закричал он, потрясенный моим появлением. – Звидкиля ж ты узявся?
Теперь я его понимал. И догадался, что «звидкиля» – это значит «откуда». Я ему сказал, что на меня напала змея. Он слушал меня с удивлением. А потом посадил рядом с собой в бидарку, и Пулька резво понесла нас в сторону хутора.
Там уже был, конечно, переполох. Были опрошены все вернувшиеся из школы ученики, но они ничего путного сказать не могли. Тетя Аня пыталась найти бригадира, чтобы организовать поиски, но не нашла, потому что бригадир уехал на ток.
Дома я рассказал, как шел, как змея выскочила, как завертелась, как зашипела. Я расписал ее самыми страшными словами, какие были в запасе. Пасть у змеи большая, язык длинный, глаза злые, сама она черная, а над глазами такие вот такие страшные оранжевые кружочки.
– Кружочки? – переспросил Сева. – Оранжевые?
И они с Витей оба покатились со смеху. И долго еще смеялись, прежде чем объяснили, что таким страшным показался мне обыкновенный и безобидный уж.
Что меня очень смутило и разочаровало. Когда все прошло, хотелось, чтобы змея была настоящая. Но какая б она ни была, тетя Аня решила в школу меня не пускать, и на этом образование мое прервалось.
Суровая зима
Не знаю, как прошла в Ставрополье коллективизация. Я слышал, что как везде. Что в тридцать третьем году люди и здесь вымирали целыми селами. Но в сорок первом году, когда мы здесь оказались, колхозники жили хорошо, и казалось, даже не представляли, что можно жить хуже. Такого изобилия у крестьян я потом, побывав во многих деревнях, не видел нигде. У всех были свиньи, куры, гуси, утки. Некоторые держали – что для колхозников было вообще необычно – до четырех коров. Обезжиренное после снятия сливок молоко, «обрат», давали нам, а до нас выливали на землю. Когда тетя Аня пыталась местным людям за обрат заплатить, они обижались: за такую дрянь деньги брать, все равно что за воду, стыдно. Хлеб ели только белый.
И мы поначалу жили неплохо. Нам сразу выдали аванс – несколько чувалов (мешков) пшеницы. Дядя Костя с Севой съездили за двадцать километров в районное село Тахта. Оттуда привезли муку, из которой бабушка (она оказалась большой умелицей) пекла вкуснейшие круглые паляницы (буханки) с пенистой корочкой по окружности и еще всякие коржи, булочки, иногда слепленные в виде разных животных и птиц.
Но осенью в районном селе Тахта сломалась мельница, и те, у кого не было больших запасов, скоро остались без муки. Кончилась мука и у нас. Не было больше хлеба и всего того, что умела выпекать и варить бабушка. Но была пшеница, из которой мы готовили некое варево. Бабушка называла его кутьей. Зерно, освобождая его от шелухи, толкли пестиком в ступе, потом варили. Местные жители, может быть, тоже ели кутью. Но у них было еще мясо, сало, молоко, сметана, масло и яйца. А у нас только кутья и банка топленого сливочного масла, которое от долгого хранения испортилось и стало «ёлким», то есть сильно горчило. Впрочем, скоро кончилось и оно. Мы ели кутью всухомятку, и она уже не лезла в горло, когда я (о чем с гордостью потом вспоминал) догадался сыпать в ступу зерно мелкими горстями и толочь его до тех пор, пока оно не превращалось в очень грубую, но все же муку, из которой можно было выпекать что-то хлебоподобное. Конечно, такой способ производства был сродни добыванию огня путем трения, но делать было нечего, и мы все по очереди толкли зерно.
Зима оказалась на редкость для тех южных мест суровой и снежной. Пурга, длившаяся несколько дней, намела сугробы выше крыш. Но природа была к людям милостива, сугробы прилегали к хатам не вплотную, а оставляли некоторое пространство, которое позволяло открыть дверь. Впрочем, иногда соседям приходилось друг друга откапывать.
Дядю Костю угнали на оборонные работы в самом начале зимы. Сколько он там пробыл, не помню, и что делал, не знаю, – кажется, копал противотанковые рвы. Вернулся с обмороженными ушами и руками. А наша соседка Маруся, девушка лет семнадцати, обморозила ноги, да так, что целыми днями рыдала и причитала:
– Ой-ё-ёй! Ой, ноженьки мои, ноженьки!
Говорили, что ей надо отрезать ноги, иначе умрет. Но кто мог провести ампутацию, если на хуторе не было даже фельдшера? Маруся выла, ее мать натирала ей ноги топленым гусиным салом и тем, кажется, в конце концов дочь спасла. Маруся осталась жить и с ногами.
Ворошилов и Пулька
Первой лошадью, на которой я учился ездить верхом, был пожилой мерин по имени Ворошилов. Колхозный конюх разрешил мне на нем прокатиться, потому что мерин был самый смирный из всего табуна. Рыжий, со звездочкой во лбу, был он очень похож на своего однофамильца, прославленного красного маршала. Будучи существом солидным, ходил только шагом, на мои понукания никак не отзывался. Сказать, что я на нем чему-то научился, было бы неверно. Он так аккуратно меня носил, что ездить на нем было не сложнее, чем на картонной лошадке, которая была у меня в раннем детстве. Поэтому я спросил конюха, не даст ли он мне лошадку побыстрее, например Сагайдака.
– Да ты шо! Ты шо! – замахал на меня конюх. – Ты знаешь, хто такой Сагайдак?
И объяснил, что Сагайдака, красавца и чемпиона Европы, держат специально для скачек. На нем разрешается ездить только специальному наезднику. А больше никому, включая даже его, конюха, и председателя колхоза. Я огорчился и продолжал ездить на Ворошилове, хотя занятие это мне казалось чем дальше, тем скучнее.
Но однажды мне повезло. Я только слез с Ворошилова, когда на бидарке-двуколке подъехал бригадир Пупик и стал выпрягать кобылу Пульку.
– Эй, малой! – закричал он мне. – Шо твоя бабка гири узяла и нэ нэсэ?
– Какие гири? – не понял я.
– Ну таки, шо на весы кладуть, шоб важиты.
Я вспомнил, что в самом деле, когда нам выдавали в чувалах зерно на заработанные взрослыми трудодни, для этого дела привозили весы и гири. В тот раз весы увезли, а гири забыли.
– Дадите мне Пульку, – сказал я, – съезжу за гирями.
– А ты верхом издыть умиешь? – спросил он.
– Умею, – заявил я самонадеянно. – Вот только что на Ворошилове ездил.
– Ха, на Ворошилове! – сказал Пупик. – На Ворошилове и мертвяк поедет!.. Ну, ладно. Погоняй, тильки шагом.
Пупик надел на Пульку уздечку, сделанную из цепи, и подсадил меня. Я тронул повод, лошадь пошла шагом. Но как только мы свернули за ближайшую хату, я показал Пульке конец уздечки, и она сразу рванула галопом. Было страшно, но я держался. Тут выскочила из чьего-то двора черная собачонка и с лаем кинулась в ноги лошади. Лошадь от собаки шарахнулась и стала на дыбы. Я со страху совершил почти цирковой кульбит. Как-то ухитрился стать лошади на спину, прыгнул вниз и упал в пыль, на ногах не удержался. Кажется, я ушибся. Ушибся не очень сильно, но на всякий случай заплакал. Пулька подошла ко мне и, уже не обращая внимания на бесновавшуюся собачонку, склонилась надо мной и дышала мне в лицо, очевидно пытаясь понять, не слишком ли мне больно.
Я поднялся, вытер слезы, подвел Пульку к какому-то сарайчику и в два приема взобрался сначала на крышу сарая, а потом на лошадь. И поехал дальше, теперь уже только шагом. Гири я бригадиру привез, все кончилось благополучно. После этого я ездил на многих лошадях и всегда без седла.
Гала
Осенью тетя Аня, дядя Костя, Сева и Витя работали на уборке клещевины (растения, из плодов которого добывают касторовое масло), бабушка возилась по хозяйству, а я слонялся по дому и вокруг, не зная, чем заняться.
Иногда в гости к нам приходила соседская девочка лет десяти по имени Гала. Пока было тепло, Гала являлась совершенно голая, оставалась у двери, смотрела на меня исподлобья и бессмысленно улыбалась, ковыряя себя пальцем в районе пупа и ниже. Мне она ничего не говорила, я ей тоже.
Бабушка спрашивала:
– Ты зачем пришла? Хочешь поиграть с Вовой?
Гала молча кивала, но как и во что играть, не знала, и я не знал.
Бабушка спрашивала:
– А тебе не стыдно ходить голой?
Гала отрицательно трясла головой.
Борьба с природой
Мы все были люди городские. Все, кроме бабушки, к борьбе с природой не привыкшие. Поэтому зима нас застала врасплох. Мало того, что не оказалось никаких припасов, кроме пшеницы. Вода в колодцах замерзла, да и с топливом получилось неладно. Местные жители топили печи кизяком – лепешками из коровьего навоза с соломой. А у нас не было ни коровы, ни навоза. Поэтому топили соломой. А это – дело нелегкое. Солома горит быстро, огня дает много, а жару мало. Сева и Витя иногда со мной, а чаще без, отправлялись куда-то подальше в поле к одиноко стоявшей скирде. Солома там была уложена очень плотно. Ее приходилось с большим трудом выщипывать, или, как говорили, высмыкивать из середины. Братья со временем наловчились накручивать довольно большие вязанки, тащили их домой и тут же отправлялись обратно. Кизяк или уголь утром заложил, вечером добавил. А солому только успевай подкладывай. Воду вытапливали из снега. Пить противно, она приторно-сладковатая. Но для варки и стирки годится.
Со стиркой, впрочем, были тоже неприятности. Нормальное мыло из нашего обихода вышло, его заменила какая-то черная жижа, которая не столько мылила, сколько воняла. Скоро появились у нас на теле и в голове вши, безуспешную борьбу с которыми вся страна вела дольше, чем с немцами. Так повелось, что во время всех войн в России катастрофически не хватало мыла. В его отсутствие вши возникали немедленно, как будто из ничего. Многие люди искренне верили, что вши рождаются просто от грязи. Вши были разносчиками сыпного тифа, который уносил жизни тысяч людей. Вершителям судеб, стоявшим во главе государств и армий, похоже, никогда не хватало ума догадаться, что, вступая в войну, о запасах мыла следует позаботиться не меньше, чем о производстве пушек. Но мыла производилось мало, зато тратились огромные средства на строительство при вокзалах, казармах, больницах, тюрьмах и лагерях специальных прожарок для белья. Простые люди вшей давили, вычесывали, мыли голову керосином, складки белья проглаживали раскаленным утюгом, отчего скопления гнид трещали, как дрова в печи. В деревнях, где жизнь разнообразием небогата, борьба со вшами превратилась даже в вид развлечения. Бабы вычесывали друг у друга жирных насекомых частым гребешком или искали в голове, перебирая волосы и тут же давя их ноготь об ноготь…
Когда я это видел, меня поначалу тошнило. Потом привык.
Петр Первый и советская власть
В декабре 1941 года моей бабушке Евгении Петровне исполнилось 58 лет, но мне она казалась глубокой старухой. Она была мала ростом, очень худа, весила вряд ли многим больше сорока килограммов, вынослива и как будто самой природой приспособлена к выживанию в крайних условиях. Все съестное она экономила до крайности, крошки со стола собирала по одной, картошку чистила так, что кожура текла с ее ножа лентой сплошной и тонкой, как папиросная бумага. Она целый день хлопотала по хозяйству и все умела: ставить опару, печь хлеб, варить щи из крапивы, суп из лебеды и заваривать чай шалфеем. А длинными вечерами при свете коптилки читала Евангелие, шила, вышивала, гадала на картах, занималась спиритизмом, играла на гитаре, которую привезла с собой в числе самых необходимых вещей. Задумчиво перебирая струны, тонким, но чистым голосом она пела песни своей молодости. Из этих песен я запомнил только первую строчку одной гимназической («Мне надоела ужасно гимназия») и «Когда я на почте служил ямщиком» на другой мотив и с другим началом. Начало было такое: «Мы все веселимся, а ты нелюдим, сидишь, как невольник в затворе. Мы чаркой и трубкой тебя наградим, а ты расскажи свое горе…» Затем уж шли слова: «Когда я на почте служил ямщиком». А конец песни замыкал начальный посыл: «Ах, дайте, ах, дайте скорее вина, рассказывать больше нет мочи».
О жизни до революции Евгения Петровна вспоминала примерно с такой же ностальгией, с какой бабушки моего поколения вздыхали по временам брежневского застоя. По ее рассказам выходило, что жизнь была вполне сносная не только у капиталистов или помещиков. Бабушка до замужества работала народной учительницей и на жалованье в 30 рублей жила сама и держала прислугу. Все было дешево, булка ситного хлеба стоила четверть копейки, а ситец восемь копеек аршин. И когда она вышла замуж, родила троих детей и не работала, семья нужды не знала, хотя дедушка был простой железнодорожный служащий. Про царей я раньше слышал, что они все были ужасные, а по бабушкиным словам выходило, что далеко не все. Среди них были Александр Второй Освободитель и Петр Первый Великий, который побрил бояр. Видимо, бабушка бородатых людей не любила, поэтому с большим удовольствием рассказывала историю про какого-то знатного боярина, за которым Петр лично гонялся с ножницами. Из всех царей Петр, по мнению бабушки, был самый лучший.
– А если он был такой хороший, – спросил я однажды, – почему же не устроил советскую власть?
– Еще чего не хватало, – буркнула тетя Аня, но бабушка вполне по-марксистски объяснила, что Петр был хорошим, но все-таки до современных идей дорасти не успел.
– И, – неожиданно закончила она, – слава богу, что не успел.
Николай II, по ее словам, был человек неплохой, но наделал много глупостей. Зато очень любил свою жену и больного сына. Когда их расстреливали, он будто бы посадил сына на плечи и велел не закрывать глаза, сказав, что царский сын должен смотреть смерти прямо в лицо.
Питались мы однообразно, но пока не голодали. Жизнь была скудна, но именно поэтому даже самое мелкое событие в ней приносило радость и запоминалось. Не знаю, откуда они взялись, но у нас было несколько лимонов, которые тетя Аня хранила на всякий случай. Случай вскоре представился. У Севы и Вити расстроились желудки, и тетя Аня давала им чай с лимоном. Мне тоже хотелось чаю с лимоном, и я имел на него право, потому что у меня тоже был понос. Но я не решался об этом сказать, боялся, что мне не поверят, подумают, что я так говорю, потому что тоже хочу чаю с лимоном. В конце концов я все-таки сказал, что у меня тоже расстроен желудок. И мне, конечно, не поверили. Тетя Аня сказала: «Ты, конечно, выдумываешь, но ладно». И налила мне чай и положила в стакан ломтик лимона. Я сказал: «Но у меня, правда, расстроен желудок». Она сказала: «Правда, правда». Но так сказала, что я понял: она не верит, но делает вид, что поверила. Я расплакался и сказал, что раз она мне не верит, я этот чай пить не буду. Она меня обняла и сказала: «Ну что ты, дурачок, конечно, я тебе верю». Теперь я не сомневался, что она мне поверила, но от этого расплакался еще больше. А чай был вкусный и запомнился, как запоминается все труднодоступное…
Споры о Пилате
Наша библиотека на хуторе состояла из двух книг: Евангелия от Матфея и «Школы» Аркадия Гайдара. Евангелие было бабушкино, дореволюционного издания в твердом переплете с золотым тиснением, но ужасно потрепанное и замусоленное. Тиснение смялось, золото облезло, листы разбухли, растрепались по краям и распадались. В руки мне бабушка Евангелие не давала, но вслух читала охотно. Привязывала очки веревочками к ушам, садилась к окну или к коптилке и читала. Дочитывала до конца и начинала сначала. За зиму некоторые главы я выучил почти наизусть.
Я к тому времени уже прошел большой курс антирелигиозного воспитания в детском саду и в первом классе и знал точно, что Бога нет. Тем не менее Евангелие меня захватило и поразило сочетанием абсолютно реалистических описаний с такими, которые больше похожи на сказку. У меня возникали вопросы, какие возникают у всякого человека, пытающегося представить историю Иисуса въяве. Я требовал объяснений. Сева и Витя, считая бабушку сплошным пережитком прошлого, подсмеивались над ней, а тетя Аня, возвращаясь к вере, держала нейтралитет. В числе обсуждавшихся нами евангельских сюжетов была и история Понтия Пилата, которого бабушка толковала (и мы все с ней соглашались) как хорошего человека. Он предлагал синедриону и просил народ освободить Иисуса, а когда ему было отказано, умыл руки и сказал: нет на мне крови сего человека. Признаться, мне и до сих пор кажется, что Пилат сделал максимум того, что мог себе позволить римский чиновник. Отменив казнь Христа своей властью, он вызвал бы ненависть в Иерусалиме и очень большое, опасное для его карьеры недовольство в Риме. Говорят: но речь же шла о Боге. Но ведь прокуратор не знал, и откуда ему, маленькому человеку, было знать, что Иисус – сын Божий. Этого никто не знал, кроме учеников Иисуса. А те как раз, зная, кто он, повели себя гораздо хуже Пилата. Один предал его за тридцать сребреников – и проклят. Другой трижды отрекся от него – и прощен. Но и другие ученики (это мало кто прочитывает), все до единого, тоже оказались предателями. Когда в Гефсиманском саду брали Иисуса, «тогда, – сказано в Евангелии, – все ученики, оставивши Его, бежали».
Первая книга
Читать я научился лет в шесть, и первой прочитанной фразой, как, может быть, помнит читатель, была благодарность товарищу Сталину за мое счастливое детство. После этого до девяти лет я читал только вывески магазинов, рекламные плакаты, призывы ВКП(б), короткие тексты из детских книжек и в первом классе что-то несложное вроде рассказа «Филиппок» Толстого. В большие книги не заглядывал и даже не предполагал, что их, такие толстые, можно читать от начала до конца. Но однажды, уже наслушавшись в бабушкином чтении Евангелия, раскрыл «Школу» Аркадия Гайдара, прочел первую фразу: «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах», – и не смог оторваться. А закончив, испытал большое огорчение, что повесть закончилась так быстро, и начал читать с начала.
Я без конца перечитывал эту книгу, она для меня стала второй действительностью, в которую я убегал из безликой жизни среди снегов. Если представить себе, что жил бы я в городской квартире теперешнего времени с телевизором, компьютером и доступом к Интернету, стал бы я читать книги, как я их читал? Сомневаюсь. А тогда я «Школу» перечитал несколько раз, и, возможно, мне ее одной хватило бы на все время пребывания нашего на хуторе. Но, зайдя однажды к соседям, тоже эвакуированным, я увидел у них на подоконнике несколько поставленных в ряд томов. Я спросил, можно ли взять что-нибудь почитать. Хозяйка спросила, что именно. Я долго не думал и ткнул пальцем в название, которое показалось мне привлекательнее других, – «Война и мир». «А не рано ли тебе такое читать?» – спросила меня дочь хозяйки, взрослая девушка. «Нет, – сказал я, – не рано».
Конечно, весь роман был мне еще не по силам. Какие-то куски казались скучными, я их пропускал. Когда попадались французские монологи, лень было читать перевод. Мне, между прочим, понравились описания не только войны, но и мира. Например, сцена приема Пьера Безухова в масоны или разговоры Наташи Ростовой и Сони. В общем, что-то пропуская, я прочел роман от начала до конца и с тех пор стал очень жадным читателем.
Вплоть до призыва в армию я читал книги запоем, обычно лежа на животе. Мы много раз переезжали с места на место, жили то в городе, то в деревне. И везде в первую очередь я бежал записываться в местную библиотеку (если она там была), хватал и читал все, что под руку попадалось. К счастью, мне часто попадалась русская классика, а из французов – Бальзак, Флобер, Стендаль. Так получилось, что книги, на которых обычно вырастали многие поколения моих сверстников, Майн Рида или Жюля Верна, мне в моем детстве прочесть не пришлось, а потом было уже скучно. Но даже прочитанные в детстве «Робинзон Крузо», «Остров сокровищ», «Граф Монте-Кристо» произвели на меня меньшее впечатление, чем, скажем, «Война и мир», «Обломов», «Вешние воды», «Господа Головлевы» или «Мадам Бовари».
В библиотеках лучшие книги были всегда затрепаны, захватаны, замусолены, именно такие и сегодня вызывают во мне вожделение, а по роскошным переплетам мой взгляд скользит равнодушно.
«Школу» я с детства и до 1980 года не перечитывал. Но, готовясь к эмиграции, перебирал свою библиотеку в размышлении, что взять с собой, что раздать, что выкинуть. Дойдя до сборника Гайдара, я нашел в нем «Школу» и заглянул в нее на всякий случай, не ожидая, что через сорок лет после первого чтения она сможет меня увлечь.
Прочел первую строку: «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах».
И опять не смог оторваться.
Раненый, но живой
Не знаю, каким путем шли в нашу глушь письма, но все-таки, сложенные треугольниками, от мамы из Ленинабада и от папы неизвестно откуда с адресом «Полевая почта №…» и штампом «Просмотрено военной цензурой», они нас достигали. Потом случился перебой: с конца ноября 1941-го от отца писем не было. Только в середине января принесли треугольник с адресом, написанным незнакомой рукой. Бабушка, еще не развернув треугольник, заплакала, а прочтя письмо, и вовсе ударилась в рев.
Отец сообщал, что лежит в госпитале, тяжело раненный. На Донбассе под городом Дебальцево во время похода он шагал в строю и курил. Шедший сзади солдат попросил докурить, отец повернулся, передавая «бычок», и больше ничего не помнит. Очнулся в полевом госпитале и узнал, что пуля, войдя под левую лопатку, прошла в нескольких миллиметрах от сердца, пробила бок и левую руку насквозь. Один врач руку хотел ампутировать, другой взялся спасти, но вопрос еще окончательно не решен.
– Боже мой! Коленька! Сыночек! – рыдала с причитаньями бабушка.
Тетя Аня на нее рассердилась:
– Радоваться должна, что живой!
– Нюра, что ты говоришь! Ему же могут отрезать руку.
– Пусть руку, пусть ногу, лишь бы живой. Лишь бы живой! Лишь бы живой! – повторяла тетя Аня, как заклинание. – Почему он должен гибнуть ради этих мерзавцев?
Я догадывался, кого тетя имела в виду, и это меня немного смущало…
Богатые калмыки и бедный еврей
Летом мы немного ожили. В Тахте починили мельницу, и у нас снова появилась настоящая мука. Кроме того, меняли тряпки на еду. Сначала в пределах хутора. Потом на колхозных лошадях ездили за полтора километра в Калмыкию, на хутор Тегенур. Калмыки жили богато и за старую блузку или брюки щедро расплачивались маслом, сметаной, мясом и салом.
Однажды в каком-то калмыцком дворе мы встретили старого еврея, просившего милостыню. Было тепло, но он стоял у крыльца в зимнем пальто с каракулевым воротником. На ногах у него были галоши с портянками, которые размотались и торчали в разные стороны, а голова была ничем не покрыта, если не считать седых вьющихся волос, окаймлявших обширную плешь. Воротник пальто был серый, и само пальто, как мне сперва показалось, того же цвета. Приглядевшись, я увидел, что пальто на самом деле синее, а серым кажется оттого, что сплошь покрыто жирными вшами.
Старик запомнился мне на всю жизнь, и именно его я вспоминаю, когда слышу, какие евреи все ловкие и как хорошо умеют устраиваться.
Вторая эвакуация
Не только письма, но и газеты («Правда» и какая-то местная) до нашего хутора доходили. Из них мы узнали весной 42-го, что наши войска не отступили, нет (таких слов сочинители сводок избегали), а, выполняя стратегические замыслы командования, отошли на заранее подготовленные позиции.
Вскоре заранее подготовленной позицией оказалась и наша местность.
Витя предлагал мне приложить ухо к земле и послушать.
Я прикладывал, слушал. И слышал глухие удары. Будто кто-то из-под земли пытается пробиться наружу. Теперь я думаю, это было похоже на первые толчки ребенка в животе матери.
– Немцы бомбят Сальск, – объяснил Витя. – Сальск – это город в сотне километров от нас.
– Значит, – предположил я, – скоро будут бомбить и нас.
– Нет, – сказал Витя. – Нас бомбить не будут, потому что нас бомбить слишком невыгодно.
Поскольку я опять ничего не понял, Витя преподал мне краткий курс экономики:
– Бомбы стоят очень дорого. Поэтому немцы бросают их не куда попало, а целятся в заводы, фабрики, электростанции, вокзалы. А у нас на хуторе нет ничего, кроме молочно-товарной фермы и конюшни.
Теперь я каждый день приникал ухом к земле, и с каждым днем толчки ощущались все явственней. А когда уже и через воздух стали доноситься звуки канонады, мы отправились во вторую эвакуацию опять в обозе из нескольких арб до станции Изобильная, где нас ожидал уже привычный товарный состав.
Местные жители, работавшие в поле, завидев обоз, останавливались и молча провожали нас недобрыми взглядами. Но в одном месте выбежали к дороге с лопатами и граблями и, размахивая ими, стали кричать:
– Шо, жиды, тикаете?
Сева открыл рот, хотел что-то сказать.
– Молчи! Молчи! – шепнула тетя Аня.
– Тикайте, тикайте! – кричал самый горластый. – Далеко не вбежите. Немец вас догонит.
Все молчали. Было ясно, что люди эти могут расправиться с нами, не дожидаясь немцев.
На Изобильной погрузились в эшелон. Где-то под Сталинградом переезжали по мосту через Волгу. Внизу плыли по течению горящие баржи, стелился над водой черный дым…
Это путешествие отличалось большей организованностью, чем первое. Пассажирам выдали так называемые рейсовые карточки, по которым в привокзальных магазинах можно было купить хлеб. На некоторых станциях нас высаживали и вели в баню. Сначала мылись женщины, потому что их было больше, потом мужчины. Однажды какая-то женщина, не успев помыться с остальными, оказалась голая среди голых мужчин. Меня удивило, что она никакого стеснения не выказывала, пыталась даже разговаривать. Мужчины же ее присутствием были весьма шокированы и отвечали ей, стыдливо отводя глаза. Когда она попросила дядю Костю потереть ей спину, тот отказать ей не посмел, но исполнял ее желание в большом смущении, усиленном присутствием сыновей и племянника…
Прибыли мы сначала в Куйбышев, потом в место с тремя названиями – Управленческий городок, станция Красная Глинка, пристань Коптев Овраг. Нас поселили на краю городка, врезавшегося в опушку леса, в длинных, наскоро сляпанных бараках, никак не разгороженных, с двухъярусными нарами во всю длину. Живя в одном из этих бараков, я едва не совершил подвиг, который мог быть воспет советской литературой.
Несостоявшийся подвиг
Сначала у меня произошло интересное в своем роде знакомство. Посланный за водой, я пошел с ведром к водоразборной колонке, что была невдалеке от барака. Поставил ведро, открутил кран, вода текла медленно. Подошли две женщины в городских платьях. Одна отдалилась на шаг, расставила широко ноги и, даже не подобрав подола, стала мочиться, гораздо эффективней, чем кран, под которым стояло ведро. Другая женщина сказала:
– Галина Сергеевна, как вам не стыдно! Здесь же молодой человек!
– Это не молодой человек, а мальчик, – возразила Галина Сергеевна, не прекращая процесса. – И ему, наверное, интересно посмотреть, как писают тети. Правда, мальчик?
Я покраснел, кивнул и потупил глаза. Я и раньше видел, как тети писают, приседая и широко разводя колени, но вот чтобы так, стоя, как коровы… Эпизод, сам по себе малоинтересный, давно бы забылся, но знакомство мое с Галиной Сергеевной продолжилось. Наш барак был оборудован сплошными, во всю длину нарами, где все жильцы спали вповалку, ничем не отгороженные друг от друга. Контингент часто менялся. Какие-то люди его покидали, уступая место новоселам. На нарах шли непрерывные перемещения, в результате одного из них Галина Сергеевна стала моей соседкой.
Свету в бараке не было, поэтому люди ложились рано, как куры. Забирались на нары и пускались в долгие разговоры о войне, о прошлой жизни, о том о сем. Однажды кто-то почему-то упомянул Сталина, и тотчас раздался громкий голос Галины Сергеевны:
– Чтоб он сдох, проклятый!
Я до сих пор не забыл то растерянное молчание, которое наступило за этими словами.
Потом кто-то сдавленно произнес:
– Как вы смеете так говорить?
– А что? – лихо отозвалась Галина Сергеевна. – У нас в Ленинграде все так говорят.
Тут и подавно все замолчали, а дядя Костя сказал тихо, но директивно:
– Ладно, пора спать.
Больше в тот вечер ничего сказано не было. Люди еще поворочались и стали постепенно засыпать, каждый на свой манер: кто засопел, кто захрапел, кто застонал во сне, и только я один долго не мог заснуть, ворочался и думал: почему взрослые так спокойно отреагировали на кощунственные слова? Почему никто из них не сволок преступницу с нар и не отвел куда следует? Неужели и наутро этого не случится? Но, если никто из взрослых не знает, что надо делать, придется мне постараться за них. Хотя я и слышал странные речи моей тети об «этих мерзавцах» и «этом рябом», но имя «Сталин» при этом не произносилось. И в моем сознании, с одной стороны, существовал сам по себе мерзкий рябой, а с другой стороны – Сталин, великий вождь, которому я навеки благодарен за свое счастливое детство.
О подвиге Павлика Морозова я тогда слышал лишь краем уха, но «Судьбу барабанщика» Гайдара уже прочел и более или менее знал, как распознавать врагов и что с ними делать. Я смотрел в потолок и представлял, как утром пораньше пойду в милицию и попрошу, чтоб меня принял лично начальник, а не кто-нибудь другой. Меня, возможно, спросят, в чем дело. Я скажу, что дело очень важное, государственное и довериться я могу только самому начальнику. Я вообразил себе начальника, мудрого и усталого человека с седыми висками. Он меня выслушает внимательно, выйдет из-за стола, крепко пожмет мою руку и скажет:
– Спасибо, Вова! Ты оказался настоящим пионером!..
К слову сказать, пионером я не был и потом им так и не стал.
С мыслью о начальнике милиции я уснул. А утром, проснувшись, понял, что идти в милицию не хочется. Я посмотрел на то место, где спала Галина Сергеевна, но ее там не было. Я понадеялся, что кто-то из взрослых успел добежать до милиции и, пока я спал, преступницу арестовали. Но, выйдя на улицу, я тут же увидел Галину Сергеевну. Она на табуретке в тазу стирала какую-то тряпку. На лице ее не было заметно ни малейшего угрызения совести. Я смотрел на нее и думал, что ничего не поделаешь, в милицию идти надо. И опять подумал, что не хочется. Хотя надо. Но не хочется. Хотя надо.
Она подняла голову, и мы встретились взглядами.
– Ты что так смотришь на меня? – спросила она удивленно и улыбнулась. Улыбнулась, как женщины улыбаются мужчинам. – Нет, правда, что ты так смотришь? Ты, может быть, в меня влюбился?
– Нет! – закричал я. – Нет! – И убежал.
И, убежав, подумал, что, может, и правда влюбился.
И именно потому, что влюбился, не пошел в милицию. А может, не пошел, потому что был слишком ленив. Или идейно недостаточно тверд. Или недостаточно тверд, потому что слишком ленив. Да к тому же и влюбчив. Влюбчив, нетверд и ленив, почему и не удостоился крепкого рукопожатия начальника милиции. О чем впоследствии ни разу не пожалел.
Мама приехала
Летом 42-го до Управленческого городка добрались наконец мама – из Ленинабада, а вскоре за ней и папа – из госпиталя.
Мама везла мне большую ананасную дыню (невиданную роскошь), длиной, наверное, с полметра. Но с половиной этой дыни пришлось по дороге расстаться. Управленческий городок был городок режимный. Там находился авиационный завод и что-то еще военное. Поэтому попасть туда нельзя было без особого разрешения или взятки. Взятки охотно брал и разрешения с большой неохотой выдавал какой-то важный начальник. Мама пробилась к нему вместе с дыней. Не представляю себе, как она таскала такую тяжесть, а выпустить из рук не могла.
– Эту дыню, – сказала мама начальнику, – я через всю страну везла своему сыну. Возьмите ее себе.
Начальник, как она рассказывала, ужасно смутился:
– Что ж я, зверь, что ли, отнимать последнее у вашего сына?.. Но, подумав, продолжил: – У меня тоже есть сын, так что давайте поделим: половину вашему, половину моему…
И папа вернулся
После восьми месяцев лечения в госпитале папа приехал почти в том же виде, в каком вернулся из лагеря: солдатское х/б, телогрейка, стоптанные бутсы с обмотками. Но теперь над правым карманом гимнастерки у него была маленькая желтая полоска – знак тяжелого ранения. У него не было ни одного ордена, ни одной медали, потому что тогда ни того, ни другого солдатам отступающей армии не давали. Единственным свидетельством достойного участия в войне была эта желтая нашивка и большая пачка маминых писем, слипшихся от крови.
Теперь отец стал инвалидом. Левая рука была как бы пришита к боку, согнута в локте и не разгибалась, пальцы скрючены и тоже не разгибались.
Возвращение отца было для меня огромной радостью. Я радовался тому, что он вернулся, тому, что был на фронте, и тому, что был ранен. Причем ранен тяжело, с правом на ношение желтой нашивки, а не красной, которая была свидетельством ранения легкого.
Еще до приезда отца был у меня разговор с Галиной Сергеевной. Она позвала меня пойти вместе с ней в лес за хворостом и по дороге спросила, откуда у меня такая фамилия. Я сказал, как слышал от тети Ани, что фамилия наша сербская.
– Ну вот, – удовлетворенно сказала Галина Сергеевна, – а я думала, что белорусская. Некоторые говорят, что еврейская, а я говорю, что этого не может быть. Твой отец – на фронте, а был бы еврей, сидел бы дома.
– Почему?
– Потому что евреи не дураки. Это наши вани там головы кладут за родину, за Сталина, а евреи, люди пронырливые, куют победу в тылу.
Подобные разговоры я часто слышал, и они были мне неприятны. Они напоминали мне, что я тоже имею отношение к этой нехорошей нации, но какие у меня были основания не верить в нехорошесть евреев? Раз люди так говорят, значит, наверное, так и есть. Возразить я не мог, потому что не знал никаких евреев, кроме мамы, бабушки и дедушки. Дедушка на фронте и правда не был, но имел на то уважительную причину: он умер за пять лет до войны. Поверив, что евреи не воюют, я пошел в рассуждениях дальше и решил, что все мужчины нестарого возраста, которых встречал я в нашем Управленческом городке, – евреи. Поэтому я радовался, что отец у меня не еврей, а настоящий фронтовик, пролил кровь и имеет право с гордостью носить свою желтую ленточку.
Отец почти ничего не рассказывал о войне. Лишь сначала я его пытался расспрашивать, но каждый раз попадал впросак.
Однажды спросил:
– Папа, а почему евреи не воюют?
Отец посмотрел на меня удивленно:
– А кто тебе это сказал?
Я пожал плечами:
– Все так говорят.
– Так, – сказал он, – говорят негодяи или глупые люди. Евреи воюют, как все. Не лучше и не хуже других.
В другой раз я задал папе вопрос, который меня волновал не меньше:
– Папа, а сколько ты убил немцев?
Этот вопрос многие дети задавали своим отцам. И многие отцы с удовольствием на него отвечали. Мой дальний родственник, дядя Вова Стигореско, вернувшись домой в конце войны, весь увешанный орденами, весело рассказывал, как крошил немцев из пулемета и как забрасывал гранатами какие-то блиндажи. Но и до возвращения дяди Вовы подобных рассказов я слышал великое множество. И от отца желал услышать что-нибудь вроде этого. Но папа вдруг ужасно рассердился. Еще хуже, чем на вопрос о евреях. А когда он сердился, у него появлялся такой сверлящий взгляд, который будто пронизывал меня до самого позвоночника.
Он просверлил меня этим взглядом и сказал:
– Я не убил ни одного немца и очень этим доволен.
«А что же ты тогда там делал, на войне?» – хотел спросить я. Но постеснялся и не спросил.
Знаки судьбы
Судьба мне подавала столько знаков предначертанности моих действий, что я не могу не чувствовать себя ведомым неведомой рукой.
Я некрещеный, необрезанный, неверующий, но не атеист.
Я никогда не был в обычном смысле слова верующим человеком, но и никогда (или почти никогда) не был неверующим. Точнее всего будет сказать, что я – незнающий. Или, как говорят, агностик. Я не верю ни в какое конкретное представление о Боге, которое может быть выражено средствами литературы, живописи или скульптуры. Я не верю никаким доказательствам существования Бога и никаким доводам в пользу того, что его нет. Мир устроен слишком рационально. Трудно представить, что он устроился так сам по себе, и невозможно вообразить противное.
Но в судьбу я не могу не верить.
Я совершил в жизни несколько безрассудных поступков, которые мне судьба прощала, но при этом посылала предупреждения.
Одно из них я получил, когда мне было лет восемнадцать. Я работал в Запорожье на стройке плотником и в один из дней с наружной стороны только что построенного дома укреплял оконные рамы на втором этаже. С деревянной стремянкой на плече я переходил от окна к окну, вбивая между рамой и оконным проемом железные костыли. В одном месте на моем пути оказалось подъемное устройство, называемое лебедкой. Как раз в тот момент лебедка поднимала две тачки с раствором, стоявшие на квадратной деревянной платформе. Я хорошо знал, что под грузом находиться нельзя, но решил испытать судьбу. Со стремянкой на плече я прошел под лебедкой, сделал следующий шаг – и тут же глыба раствора залепила мне плечи и шею. Трос лебедки все-таки оборвался. Случись это на секунду раньше, я был бы расплющен, как муха, прибитая мухобойкой…
Коверкотовый костюм
История с папиным коверкотовым костюмом напоминает мне рассказ Петруши Гринева о заячьем тулупчике, подаренном Пугачеву.
Костюм этот был куплен еще до ареста по настоянию матери. Отец надел его несколько раз до ареста и пару раз в коротком промежутке между лагерем и фронтом. Когда ушел воевать, костюм остался у тети Ани и кочевал с нами из одной эвакуации в другую. Живя на хуторе, мы меняли вещи на еду, возникал вопрос и о костюме. Отец, считая себя ответственным за то, что навязал тети-Аниной семье лишнего иждивенца – меня, в письмах с фронта настаивал на том, что костюм при нужде надо продать. Бабушка склонялась к тому же и показывала вещь заезжавшим на хутор калмыкам. Один, весьма упитанный, долго тряс в обеих руках и поднимал по очереди пиджак и брюки, как будто определяя их вес. Потом начал костюм примерять и непременно распорол бы по всем швам, но вовремя был остановлен тетей Аней.
– Нет, нет! – сказала она. – Это не продается.
– Зачем не продается? – спорил калмык. – Всякий вещь продается. Мой рубашка продается. Мой шапка продается. Мой корова продается, да, а твой тряпка не продается, да?
– Да, да, – сказала тетя. – Это не тряпка, это хороший костюм, он не продается. Тем более что он вам и не подходит.
– Подходит, – уверенно сказал калмык. – Моя хозяйка будет делать так, что подходит. Послушай, женщина, я тебе дам вот такого кабана. – Он развел руки, изображая толщину кабана. Подумал, махнул рукой: – И гуся дам. – И другой рукой махнул: – Два гуся дам.
Но тетя не поддалась, а на воздыхания бабушки реагировала сердито:
– Коля вернется, в чем будет ходить?
Поскольку тетя Аня была в нашей семье главнее бабушки, последнее слово осталось за ней, и костюм вместе с нами поехал во вторую эвакуацию. И теперь хранился под нижними нарами.
На какой-то день после приезда отца тетя Аня объявила ему, что его ждет сюрприз. Полезла под нары за чемоданом и сразу обратила внимание на сломанный замок. Открыла чемодан, но костюма там не увидела. Перебрала все тряпки, надеясь на чудо: костюма не было.
– Как же так, – бормотала она, – как же так! Я только вчера смотрела, он был на месте, а теперь…
Тетя Аня была очень сдержанным человеком и редко плакала. В этот раз она зарыдала в голос.
По странному стечению обстоятельств дядя Костя как раз в тот день ездил в Куйбышев и там на толкучке увидел Галину Сергеевну, торговавшую коверкотовым пиджаком. Дядя Костя сначала ничего плохого не подумал, только заметил, что пиджак очень похож на пиджак брата жены. Но едва он подумал так, Галина Сергеевна странно засуетилась, свернула пиджак и попыталась скрыться. Тогда дядя Костя догадался, что дело нечисто, схватил ее за руку и потребовал объяснений. И заставил ее признаться, что костюм она украла, брюки обменяла на буханку хлеба, а на пиджак покупателей пока не нашла. Дядя Костя отнял у нее и пиджак, и буханку.
Что было потом, я не помню. Наверное, случившееся стало для меня таким шоком, который вызывает провал в памяти. Поэтому я запомнил Галину Сергеевну такой, какой встретил ее у водоразборной колонки, и такой, какая смотрела на меня странным женским взглядом, когда стирала. Запомнил я ее слова о Сталине и евреях, а что с ней потом случилось (скорее всего, ничего), после того как ее поймали с поличным, совсем не помню.
И дальнейшую судьбу пиджака в памяти не удержал. Знаю только, что отец его не носил и носить не мог, потому что у него рука была как бы пришита к боку. Гимнастерку он как-то специально перекраивал, а с пиджаком вряд ли справился бы.
Городская вошь, куда ползешь?
Не знаю, откуда в отце моем взялась страсть к постоянной перемене мест. Может, от предков-моряков передался ему, сухопутному человеку, беспокойный нрав, заставлявший его срываться с насиженного места (чаще всего недостаточно насиженного) и тащить с собой семью неизвестно куда и необъяснимо зачем.
Впрочем, соображения, побудившие нас покинуть Управленческий городок, были объяснимы. Отец считал, что войну легче пережить в деревне. Он нашел работу счетоводом в совхозе имени какого-то Масленникова в Хворостянском районе Куйбышевской области. Счетовод (не знаю, есть ли сейчас такие должности) – что-то вроде маленького бухгалтера. Эту профессию отец освоил, по-моему, в лагере, и она, как мне казалось, ему нравилась. И мне тоже. Иногда отец, не успев сделать что-то в конторе, приносил домой счеты – устройство, о котором теперешние молодые люди в большинстве своем вряд ли слышали. Это деревянные кружки, нанизанные на проволоку и вставленные в деревянную же рамку. Еще, кажется, совсем недавно все бухгалтеры, счетоводы, кассиры были вооружены этими устройствами, как будто бы примитивными, но очень помогавшими совершать все четыре действия арифметики. Мне кажется, эти счеты, как, например, колесо, следовало бы включить в число великих изобретений доэлектронной эпохи. Мне нравилось смотреть, как отец ловко управляется с этими костяшками, ловко отщелкивая их то вправо, то влево.
Совхоз Масленникова был огромный – десятки километров из конца в конец – и состоял из семи отделений. Мы жили на Седьмом отделении. Оно раньше считалось деревней и имело свое название, которое было практически утрачено. Я его знал, но забыл, мне помогла его вспомнить местная жительница, когда я там оказался почти через шестьдесят лет.
Местные к нам и другим городским относились с насмешливым презрением, как к неприглашенным нахлебникам. В те времена деревенским людям вообще было свойственно относиться к горожанам как к паразитам, которые не умеют ни пахать, ни сеять, не знают, где у коровы вымя, и, ничем полезным не занимаясь, способны только поглощать то, что выращивают крестьяне. В мирное время скупают все в своих магазинах, а как прижмет, бегут в деревню. Такое отношение к приезжим взрослые выказывали не всегда, зато дети с удовольствием выкрикивали: «Городская вошь! Куда ползешь? – В деревню кормиться!»
Еще один пропущенный класс
Моя мама гордилась тем, что где бы и чему ни училась, всегда и везде была круглой отличницей. Институт, работая и содержа семью, окончила с красным дипломом. Должна была преподавать математику и физику в средней школе, но за отсутствием таковой радовалась, что нашла работу в местной начальной школе, где вела первый и третий классы. Вторым и четвертым классами руководила Марья Ивановна Шарахова, жена офицера, воевавшего под Ленинградом или в самом Ленинграде. Мне по возрасту полагалось учиться в третьем классе, куда я пошел, но учился недолго. Оказалось, быть маминым учеником удел не из лучших. Мать и отец считали, что должны быть по отношению ко мне объективны. В случае моих уличных конфликтов, когда дело доходило до вмешательства в детские разборки старших, папы и мамы обычно защищали своих детей, независимо от того, кто был виноват. Мои же родители настолько стремились к объективности, что виноватым неизменно оказывался именно я.
В школе мама тоже очень боялась, как бы ее чувства не стали причиной слишком снисходительного ко мне отношения. Если я задачу решал правильно, но не самым кратким путем, она мне уже за одно это снижала оценку, говоря, что, будучи сыном учительницы, я должен соображать лучше других. Она совершенно не считалась с тем, что я, пропустив второй класс, имел право в третьем чего-то не понимать. Дома, после уроков, она готова была сколько угодно времени возиться со всеми учениками, но на меня у нее не хватало терпения. Когда я не понимал ее с первого слова, она начинала топать ногами и обзывать меня тупицей. В конце концов я отказался у нее учиться. Как ни странно, ни она, ни отец на моем учении настаивать не стали, и я пропустил третий класс без сколько-нибудь уважительной причины. Во второй класс я не ходил, потому что было слишком далеко. В третий мне надо было перейти в соседнюю комнату, потому что мы жили прямо в школе.