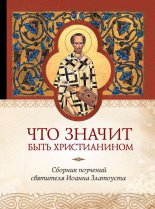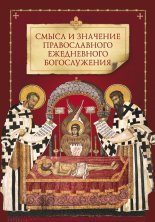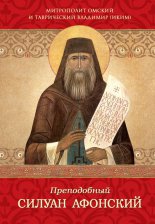Простодушное чтение Костырко Сергей

От автора
Я, наверно, не только простодушный читатель, но и критик простодушный. В том смысле, что нет у меня (признаюсь сразу) собственной – цельной и стройной – концепции художественной литературы, с помощью которой я мог бы выступать в критике как эксперт, точно знающий, что хорошо в литературе, а что плохо. С тем, что такое художественная литература, я каждый раз – то есть с каждым новым по-настоящему талантливым текстом – разбираюсь заново. И не испытываю от этого какого-либо внутреннего дискомфорта – мне кажется, что такова природа искусства: все живое в нем потому живо, что не похоже на старое, повтор, даже самый безупречный, даже самого замечательного – омертвление искусства.
Это, пожалуй, единственное, в чем я уверен. Во всем остальном полагаюсь на свое читательское чутье; другого, как мне кажется, инструмента у пишущего о литературе нет.
И еще, о том, в чем не каждый мой коллега готов признаться, – критик должен помнить, что он пишет для читателя. В его тексте на первом плане должен быть не сам критик, а его объект. Функция критики информировать, помогать читателям найти и прочитать свою книгу. Я это знаю, я считаю, что это правильно, но, честно говоря, вспоминаю об этом редко. Мне гораздо важнее разобраться в том, что думаю о прочитанном я сам. Я не только пытаюсь понять, что же это такое – художественная литература, в чем заключается всесилие эстетического чувства в познании жизни, но и разобраться в самом себе, разобраться с некоторыми, мучающими меня вопросами, ну, скажем, с вопросом, в чем природа непомерной тяжести понятия «гармония жизни», как минимум, включающего в себя страдание и смерть. Или – какая степень открытости общества позволяет человеку стать человеком и при этом не раствориться в обществе, какой должна быть мера свободы человека от общества. Или – в чем состоит наша зависимость от таких явлений, как любовь, обида, страх смерти. Или – что делает человека крепче, полноценнее – опыт страдания или опыт счастья, что такое вообще – полноценность человека? Или – все те же вечные русские вопросы о взаимоотношениях наших в обществе и с обществом, с историей, с понятиями национальность, патриотизм, гуманизм, прогресс и так далее. (Перечень вопросов этих я мог бы продолжать еще долго, но не хочу здесь повторять то, что уже содержится в текстах, составивших эту книгу.)
И я счастлив от того, что есть тексты, позволяющие мне думать обо всем этом. То есть мои занятия литературной критикой вполне можно назвать еще и эгоистичными. Нет, разумеется, я забочусь об интересах читателя, но, простите, во вторую очередь, а в первую, как говаривал нелюбимый мною классик, – мне бы мысль свою разрешить.
И получается, что я не только критик простодушный, но и критик счастливый, поскольку ремесло мое как раз и позволяет всем этим заниматься – читать и думать.
1. Новые архаисты и старые новаторы
Шорт-лист как текст
(«Большая книга» в 2005–2006 годах)
1
Вот тексты, которые каждый год становятся событием, – шорт-листы наших главных литературных премий; предельно лаконичные, но всегда со своим – сверхплотным – содержанием, своей драматургией, своим драматизмом. Это тексты колючие. Я не видел еще коллегу, который не поморщился бы, прочитав очередной шорт-лист. Чем колются? Сомнительностью литературных вкусов номинаторов и экспертов? Их интеллектуальной беспомощностью? И кто постепенно становится главным персонажем этих текстов? Писатель? Литература? Или…
Казалось бы, все просто: задача любой премии – поиск лучших литературных текстов. Так? Да. Но не только. Рядом, а точнее, над – другая задача, более общая и в последние годы все более и более насущная, – выяснение той функции, которую реально выполняет сегодняшняя литература в нашем обществе.
Обескураживающее (сужу не только по себе) впечатление, которое оставляют шорт-листы этого года, – свидетельство стоящей перед нами проблемы, гораздо более серьезной, чем уровень экспертного сообщества. Проблемы самой, пожалуй, болезненной для современной литературы – проблемы читателя.
Писатели у нас, слава богу, есть, и такие, которыми могла бы гордиться литература любой страны. А читатель? Литература держится еще и на сотворчестве писателя и читателя. Это ее природа. Каков читатель, таков и писатель. Писание текста всегда – сознательно или бессознательно – включает в себя еще и поиск своего потенциального читателя; того, чей взгляд развязывает язык, а не примораживает его.
Когда-то, в 70-е, и Трифонов, и Абрамов знали, к кому обращаются и, соответственно, тексты их расходились стотысячными тиражами. Сегодня же их последователи могут рассчитывать на 3–5 тысяч экземпляров, на узкий кружок единомышленников и единочувственников, который уже почти и неразличим. Как пишется с таким вот ощущением?
Ну, например, так. Вот роман Алексея Иванова «Золото бунта», вошедший в шорт-лист «Большой книги». Иванов – автор замечательного романа «Географ глобус пропил», как бы бытописательной, социально-психологической прозы, повествующей об учителях и учениках обычной пермской школы.
Честная, умная, мужественная и при этом бесконечно далекая от эстетики того, что сегодня потребляется массово, проза. И, как ни странно, роман этот имел успех: был многомесячным лидером продаж в крупных книжных магазинах Москвы, успех – вопреки тематике романа, его тональности, персонажам, вопреки отсутствию «раскрутки» в печати, вопреки художественной глубине и авторской горечи.
Художник пошел против публики. Но это был успех тихий. Громко раскручивалась другая – также успешная – книга Иванова, роман «Сердце Пармы», написанный в жанре историко-этнографического фэнтези.
«Золото бунта» как бы продолжает у Иванова линию «Пармы», но тут уже не фэнтези, а как бы роман исторический, точнее, снабженный всеми атрибутами такового: есть привязка к историческому времени (XVIII век), реальной географии (река Чусовая) и как бы историческим типам.
Роман с тугим детективным сюжетом, заплетенным вокруг пропавшего золота Пугачева, с таежной и этнографической экзотикой, с благородными героями и коварными злодеями – короче, «исторический триллер». Иванов демонстрирует умение создавать романное пространство, делать своих героев выразительными, создавать и ослаблять, где надо, повествовательное напряжение, работать с языком и т. д. Видно, что писал талантливый человек. Работа профессиональная. Даже сверх того. И наличие вот этого «сверх» здесь принципиально.
Вспомните типовой рекламный ролик по ТВ, анонсирующий премьеру фильма, – отвратные на лицо подонки, позитивный и мускулистый герой, грозный звон мечей, горящие избы, много крови и отрубленных конечностей, ну и, разумеется, кричащие женщины в разорванных одеждах. И не надо думать, что подобные анонсы на ТВ делают извращенцы. Нет – нормальные профессионалы, опытным путем установившие, на какие точки надо нажать, чтобы собрать максимальное количество зрителей.
Так вот, автор «Золота бунта» отрабатывает все эти точки. И я, например, роман этот дочитывал уже только по профессиональной добросовестности – желание закрыть эту книгу я испытал, не дочитав и до середины, где-то после описания третьего зверского изнасилования.
Что это? Внутренняя эволюция писателя или, как говорили в недавнюю старину, движение «навстречу пожеланиям трудящихся»? Поневоле вспомнишь пророчество Криса Маркера из его 80-х годов фильма «Без солнца»: единственной нишей для художника-интеллектуала будущее оставит электронные игры.
Вот это все – тоже проблематика наших премиальных сюжетов. Правда, должен здесь уточнить: речь о премиях, ориентированных на статус Главной Литературной Премии Страны. У премий специализированных сверхзадачи нет (почти), скажем, у «Заветной мечты» (лучшая книга для детей), или у премии имени М. Шолохова (за самое-самое идеологическое произведение определенной направленности), или у журнальных премий (годовые премии «Знамени», «Нового мира», «Октября» и т. д.), с помощью которых редакции обозначают свои эстетические ориентиры.
Ну а вот «Национальный бестселлер», «Букер», «Поэт» или «Большая книга» изначально в положении исключительно трудном – эти премии затевались для поиска произведений, которые являлись бы событием и высокой литературы, и общественной жизни. Говоря современным языком, «национальных бестселлеров». Ни больше ни меньше.
Ну а кто сегодня, кроме устроителей премии «Национальный бестселлер», назовет бестселлером книгу сколь угодно замечательную, но вышедшую тиражом в пять или десять тысяч экземпляров, не говоря уж о рукописях?
Понятно, что ситуация с «Нацбестом» гротескная откровенно – ясно же, что для определения национального бестселлера литературная экспертиза, каковой является работа любой премии, здесь не нужна – достаточно товароведа. Получается, что устроители премии решили опровергнуть смысл самого понятия «бестселлер», ориентируясь не на книги Донцовой, Лукьяненко, Перумова или Акунина и Пелевина, а на малоизвестную или вообще неизвестную широкому (а часто и узкому) читателю литературу.
То есть «Нацбест», по сути, не выбирает, а назначает бестселлер. Но я бы здесь не стал иронизировать. Есть в этой акции что-то донкихотовское (если, разумеется, закрыть глаза на то, как в этой премии «национальное» иногда кренится в сторону «нацистского», то есть в сторону узкой специализации премии). Дело в том, что сказанное здесь по поводу «Нацбеста» можно отнести практически ко всем «главным» литературными премиям – все они пытаются назначить главную книгу.
И пусть премия «Большая книга», в отличие от «Нацбеста», не фиксирует точно, что именно ищет, и каждый волен понимать ее название по-своему. Но и в ней просматривается та же потребность найти книгу-событие во всех смыслах – и литературном, и общественном.
То есть премия эта – очередная попытка «договориться всем миром» о том, что есть сегодня настоящая литература. И потому логичным выглядит экстравагантный жест устроителей премии, учредивших жюри почти в сто человек и пригласивших в него вместе с литераторами представителей политической, общественной, деловой и прочей жизни.
Об этом же свидетельствует и текст под названием «шорт-лист» «Большой книги». Текст, в котором речь – сознавали это или нет эксперты, составители его, – о попытках некоего консенсуса:
Дмитрий Быков «Пастернак»
Юрий Волков «Эдип царь»
Андрей Волос «Аниматор»
Алексей Иванов «Золото бунта»
Александр Иличевский «Ай-Петри»
Александр Кабаков «Все поправимо»
Александр Кабаков «Московские сказки»
Максим Кантор «Учебник рисования»
Наум Коржавин «В соблазнах кровавой эпохи»
Анатолий Королев «Быть Босхом»
Марина Палей «Клеменс»
Ольга Славникова «2017»
Далия Трускиновская «Шайтан-звезда»
Людмила Улицкая «Люди нашего царя»
Михаил Шишкин «Венерин волос»
2
Что же в сегодняшней литературе лучшее? На вопрос этот экспертный совет дал ответ своим шорт-листом (завершив содержательную часть работы премии – дальнейшее будет относиться уже больше к литературно-истеблишментным сюжетам).
И вопрос номер два, не формулируемый положениями о премиях, но всегда присутствующий в работе ее участников: кто он, сегодняшний читатель, чей вкус и интеллектуальный уровень может определять ориентации современной литературы?
Скажу сразу, трудно представить читателя, испытывающего одинаковую потребность в чтении всех составивших шорт-лист пятнадцати книг. И дело здесь не в разнице их художественных уровней. Просто это тексты изначально разных «жанров», адресованные читателям с почти не пересекающимися интересами.
В чьем сознании и по каким признакам встанут в один ряд, скажем, воспоминания Наума Коржавина «В соблазнах кровавой эпохи» и «эстетский» «Клеменс» Марины Палей – размышления о прожитой жизни русского интеллигента XX века и сложная философская метафора этой жизни?
Или «Шайтан-звезда» – восточная сказка Трускиновской, использовавшей этот жанр как нишу для художественного диалога европейского и восточного менталитетов?
Или «Уроки рисования» Кантора – роман-разборка, роман-донос продвинутого художника 90-х на свою элитную тусовку? Текст автора, взявшегося защищать порушенную его коллегами-художниками христианскую нравственность в России и в качестве своего главного «христианского деяния» сочинившего роман-пасквиль?
Или «текст текстов», претендующий чуть ли ни на место Джойса в современной русской литературе, «Венерин волос» Михаила Шишкина?
Который в этом списке – не писатель – читатель главный? На чьи запросы ориентироваться современным писателям? Не думаю, что этот список может ответить на такой вопрос. Но одна тенденция, на мой взгляд, здесь определилась достаточно отчетливо.
В 90-е, после недолгого царствования «чернухи» – самой-самой последней, шокирующей правды о жизни, гиперболизированного «критического реализма», выставленного в противовес соцреалистическому лубку, – победила (на время) литература, от читателя, по сути, отказавшаяся.
Признаком продвинутости в литературе стала ориентация на постмодернизм. Это была естественная реакция на господствовавшую в русской и советской литературе установку «литература должна отражать действительность». То есть быть частью общественной жизни. Вскрывать, освещать, вразумлять, учить, призывать, вдохновлять и проч.
До того, чем, собственно, жива литература, дело как будто и не доходило. Ну разве только позволялось великим – Толстому, скажем, Пушкину или Достоевскому, которые по ходу создания своих «энциклопедий русской жизни» смогли «дотянуться» до философии.
Да нет, разумеется, «должна отражать», точнее, может ее отражать по ходу решения своих собственных задач, несоизмеримых по важности с пропагандой здорового образа жизни и правильного социального поведения.
Но, увы, не дав ничего по-настоящему значительного (хотя бы на худой конец какого-нибудь «отечественного Павича»), кроме художественных деклараций (иногда очень даже симпатичных – тексты того же Пригова или Курицына), наши «дегуманизаторы» не смогли закрепить за собой публику.
И новое литературное поколение (вслед за читателем) качнуло в противоположную сторону – к «новым реалистам». Симптоматично появление в списках двух премий («Национальный бестселлер» и «Букер»), причем на первых позициях, романа Захара Прилепина «Санькя» – развернутого портрета сегодняшнего молодого радикала, написанного практически с натуры.
Соответственно, наиболее чуткие к духу времени начали искать варианты сочетания изощренной эстетичности с приемами массовой литературы. И наоборот, природные реалисты, талантливые бытописатели (дар, кстати, не такой уж частый) начали осваивать приемы «интеллектуального письма».
В сегодняшней литературе обозначилась ориентация на сочетание как бы несочетаемого, скажем, фэнтези и жесткого реализма, «продвинутой эстетики» и острой социальности, античных мотивов с проблематикой современной жизни и т. д.
Андрей Волос, «реалист», замечательный рассказчик и даровитый романист (вспомним роман «Недвижимость»), в романе «Аниматор» делает попытку совместить традиционную социально-психологическую прозу с поэтикой фэнтези.
Аниматор – это человек, способный считывать сознание недавно умершего человека и тем самым «зажигать огонь его души» в специальной колбе. Выбор этого изначально ориентирующего на философские метафоры фантастического сюжета позволяет автору дать необыкновенно широкий набор разнообразных социальных типов, сюжетных линий, стилистик – от «физиологического очерка» до «криминально-политического экшен» и «лирико-исповедальной» прозы. И только.
Претензии же самого сюжета на «экзистенциальное», на мой взгляд, остались декларацией. И, скажем, когда Волос отказывается от «интеллектуальных подпорок», а пишет «просто» поток коротких странных рассказов («Алфавита» // Новый мир, №№ 7–8), ни на что особо как бы не претендующих (о «подробностях жизни»), вот тут изнутри и пробивает экзистенциальное.
Ход противоположный: Анатолий Королев, поиграв немного в постмодернистские игры, в романе «Быть Босхом» вдруг возвращается к уже «отработанному» в нашей литературе жанру чернушно-бытописательного повествования (быт и нравы военной тюрьмы и тюремных надзирателей).
И использует его для художественного (а значит, и философского) исследования вечной проблемы: личность и социум. В частности, автор делает попытку определить место жестокости и насилия в жизни человеческого сообщества и приходит к шокирующему выводу: насилие является неизбежным и почти органичным компонентом жизни – и общественной, и политической, и частной.
Непонятно, кто в романе более жесток и бесчеловечен – надзиратели или надзираемые. Повествователь вынужден констатировать: садистам-надзирателям все-таки далеко до того зверства, до какого доходят в своих стихийно складывающихся сообществах заключенные.
И, соответственно, привычный тезис о причине зла в несовершенстве социального устройства (в данном случае социалистического – описываются годы глубокого, «блаженного» застоя 70-х) снимается. Не надо кивать на гнет властей – загляните лучше в себя. От жестокости не будет спасением даже интеллектуальная или художественная утонченность – на эту мысль в романе работает образ Босха, художника-садиста, и садиста не только в своих полотнах, но и в жизни. Спорить с автором, конечно, можно, но перед этим все-таки следует пройти тот путь мысли, который предлагает Королев.
Ну а наиболее отчетливо, на мой взгляд, стремление совмещать элитарное и массовое продемонстрировано в романе Юрия Волкова «Эдип царь», где знаменитый античный сюжет перекладывается на язык безразмерного советского романа-эпопеи.
Повествование движется двумя потоками, не пересекающимися в романе практически до самого финала, – хроника жизни обыкновенной женщины 50-х годов XX века, молодой матери-одиночки Зои, живущей в южнорусском приморском городе, и история Эдипа.
Автор изо всех сил пытается насытить «бытийным», «потусторонним» повседневную жизнь Зои и, наоборот, «приблизить» к нам фигуру Эдипа, раскрашивая его средствами бытописательной прозы.
И все для того, чтобы в финале романа свести героев в некой точке «вневременного времени» и «внепространственного пространства», где побредут из никуда в никуда несколько персонажей, в которых угадываются черты Зои, Иокасты, Эдипа, Лая и т. д. «Эдипа царя» я бы назвал протоколом о намерениях, но никак не художественно состоявшимся романом-мифом.
Нет, разумеется, набор художественных средств, продемонстрированный в этом романе, не предполагает обязательно претенциозности и искусственности. Отнюдь.
Здесь есть очевидные удачи. Прежде всего «2017» Ольги Славниковой. Трудно дать однозначное определение жанру этого романа. Это остросоциальный роман-антиутопия. И одновременно это роман о любви с очень нетрадиционным для этого жанра финалом. И это роман-миф с использованием – очень органичным и для сюжета, и для сложно выстроенной системы образов романа – уральских преданий о Хозяйке Медной горы (Каменной Девке).
Одна из центральных сюжетных линий строится на противостоянии жизни человека и жизни камня, в котором (противостоянии) камень представляет вечную и равнодушную к сиюминутным потребностям и вожделениям человека природу.
Мотив разрабатывается на теме «хитничества», подпольного промысла современных старателей, живущих как бы вне закона, и не только закона, так сказать, юридического, но и свода некоторых базовых, онтологических установок, по которым люди образуют свои сообщества.
Стилистика Славниковой как бы предполагает читателя искушенного, но при этом роман ее абсолютно «демократичный», так сказать, социально и политически заточенный, делающий уместными некоторые параллели с Дос Пассосом или Горьким.
И еще одна книга из шорт-листа «Большой книги», представление которой потребует разговора о совмещении различных поэтик, – «Московские сказки» Александра Кабакова.
Автор сделал попытку, вполне состоявшуюся, скрестить новорусскую мифологию 90-х годов, экзотичность порожденных этим десятилетием типов с бродячим сюжетом сказок и мифов. Прием обнажается в открывающем книгу рассказе про Летучего Голландца – зловещую машину с мертвыми бандитами, встреча с которой становится для героя чем-то вроде акта Страшного суда. Далее последуют современные варианты сюжетов Дон Жуана, Красной Шапочки, Икара, Вечного Жида, Вавилонской башни и т. д.
Тональность этого изначально игрового повествования лирико-ироническая, с использованием целого спектра интонационных ходов, от гоголевского письма до платоновского и булгаковского («Господи, как грустна Россия!»). Автор играет, но это та игра, которая делает все сказанное им предельно серьезным.
Разумеется, предложенная выше схема процессов в современной литературе условна. В ней по причинам краткости газетного обзора игнорируются особенности творческих индивидуальностей, а выбор разного рода «синкретических жанров» далеко не всегда определяется осознанной ориентацией на читательские интересы. И тем не менее, оживление этих тенденций в сегодняшней литературе несомненно. Так же, как и некоторая плодотворная зацикленность на чистоте традиционных жанров, которую демонстрируют часть авторов из короткого списка.
Самым удивительным среди «традиционалистов» в шорт-листе «Большой книги» оказалась ситуация с уже упомянутым в числе «синкретиков» Александром Кабаковым.
Писатель, со времен своего «Невозвращенца» стремившийся к обновлению литературных форм, одновременно с «Московскими сказками» публикует роман «Все поправимо». Абсолютно современный по реалиям, выбору героев, интонации и одновременно абсолютно классический для русской литературы вариант романа: жизнеописание человека, которое вплетено в изображение жизни русского общества на протяжении более чем полувека. И, соответственно, судьба героя – история страны.
В данном случае – судьба человека, пытавшегося всю жизнь оставаться частным лицом. Внутренний сюжет выстраивает мотив противостояния индивидуального и «государственного» (стадного) начала в жизни советского (и постсоветского) человека.
Три части романа представляют его как мини-трилогию. В первой герой еще подросток, но именно в отроческом возрасте жизнь (история) делает его мужчиной, и не только благодаря ранней и на всю оставшуюся жизнь любви к однокласснице.
Развернувшаяся в стране кампания по борьбе с космополитизмом оборачивается для мальчика потерей отца – морской офицер, еврей, он кончает жизнь самоубийством, чтобы не подставлять семью; ну а дядя героя ювелир отправлен в лагерь. Вот момент, когда в жизнь героя входит понятие «деньги» как эквивалент личной независимости и достоинства.
Во второй части описывается молодость героя, ставшего фарцовщиком 60-х, и попытки КГБ сделать его сексотом. Герой перед выбором: или сдаться, или упереться и подтвердить свой статус частного лица, статус свободного человека в несвободной стране. Герой выбирает второе, резко повернув уже, казалось бы, успешно наметившуюся судьбу – бросает институт и уходит в армию. Финал жизни героя в третьей части романа: став одним из самых богатых и успешных новых русских, он вступает в борьбу с новыми партнерами за свой бизнес и проигрывает. Принципиально важно здесь не то, что герой потерял деньги, а то, что вступил в борьбу и держался до конца. Финальная фраза книги: «Хорошая была жизнь».
Соседствующая с Кабаковым в шорт-листе Людмила Улицкая, популярность которой в последние годы держалась на романах и повестях, вернулась к тому, с чего когда-то начинала, – к рассказу.
Ее новая книга рассказов «Люди нашего царя», пожалуй, лучшая в этом жанре. Здесь нет длиннот и некоторой монотонности, которые иной раз портят ее повести. Напротив, автор как бы даже бравирует умением сжать историю до предела, до полутора, скажем, страниц («Карпаты, Ужгород»), но на этих полутора страницах сочетается «время частное» и время историческое (один из мотивов этого рассказа – оккупация Чехословакии в 1968 году).
Улицкой удается достичь в своих рассказах той степени концентрации эмоции, а вслед за нею и мысли, которая делает естественным переход из плана бытового в план бытийного. При этом писатель редко позволяет себе внешнюю взволнованность, эмоциональный напор в ее прозе возникает как бы сам собой.
Как, например, в рассказе «Короткое замыкание», который представляет собой что-то вроде краткого перечня-изложения того, что происходит с жильцами обычного московского дома после того, как у них на короткое время выключается электричество.
В размеренном и как бы осмысленно-плотном течении жизни внезапно образуется щель, безобразная прореха, которая засасывает в себя психологические подпорки, на которые опираются, а точнее, которыми закрываются от реальности, от самих себя герои, вот тут и выясняется: для того чтобы все сущее встало дыбом, необязательна атомная бомба, достаточно короткого замыкания.
Абсолютно классической и по форме, и по авторскому замыслу я бы назвал книгу Наума Коржавина «В соблазнах кровавой эпохи». Перед нами «Былое и думы», написанные замечательным поэтом и одним из самых оригинальных и независимых осмыслителей современной истории России.
Вот судьба, встающая на этих страницах: киевское детство, война, эвакуация, поступление в Литературный институт, арест, тюрьма, ссылка, возвращение в Москву, вхождение в литературные круги, первые публикации, жизнь интеллектуальной и художественной элиты Москвы 40–50—60-х годов, частью которой Коржавин стал очень быстро. Обо всем написано подробно, с выразительными сценами и хорошо проработанными портретами.
Причем портретами не только и не столько «соседей по Олимпу», сколько по жизни. На равных здесь присутствуют и автор, и известные писатели, и безвестные колхозники, зэки, рабочие. Коржавин пишет не литературные мемуары, а книгу о себе и своей стране. Как художник он абсолютно прав, полагая, что очень многое из «обычного» быта людей 40—50-х годов, будучи незакрепленным в литературе, попросту исчезнет.
Но Коржавин не только вспоминает – он размышляет. Его путь от убежденного коммуниста, почти сталиниста, к открытой оппозиции советской власти, сделавшей его впоследствии эмигрантом, определился не столько обстоятельствами жизни, сколько движением его мысли. Собственно, проживание этой мысли и является сюжетом.
3
Шорт-лист «Большой книги» можно читать и как некую инвентаризацию литературных писательских индивидуальностей, литературных стилей и тенденций, а можно и как перечень читательских аудиторий, активно (или не слишком) направляющих сегодня литературу. Аудиторий разных, часто просто непересекающихся – и, соответственно, разговор о представленных в шорт-листе «Большой премии» книгах мы завершаем книгами, написанными, так сказать, в «своем жанре». Разумеется, какие-то аналогии тому, что пытаются делать их авторы, можно найти, но именно аналогии, и, как правило, довольно отдаленные.
Вот, скажем, книга повестей и рассказов Александра Иличевского «Ай-Петри». Первый и вроде бы очевидный здесь отсыл – к «молодежной» или «исповедальной прозе» 60-х годов: молодой человек в первых столкновениях с реальной жизнью.
Традиция предлагает самоопределение героя в социуме: коллеги по работе, друзья, родители и вообще «старшие». У Иличевского вроде похоже и совершенно непохоже. И дело не в том только, что «исповедальную» прозу в данном случае пишет человек не 60-х, а 90-х годов. Время здесь ни при чем – «молодежную исповедальную» прозу пишут и сегодня, можно вспомнить Сергея Шаргунова с поколенческим пафосом его произведений.
Дело в том, что в сознании сквозного героя Иличевского вот этой оппозиции «отцы и дети» попросту нет. Самоопределение героя происходит по отношению к явлениям, так сказать, онтологическим, среди которых главные – любовь и смерть. Прозу Иличевского я бы назвал «прозой инициаций».
Излюбленный герой писателя мучается ощущением экзистенциального удушья обычной «функциональной» жизни и пытается прорваться к подлинной реальности, ну, скажем, в путешествиях. Именно в путешествиях, а не экскурсиях к морю или за границы своего отечества. Ему нужно не декорирование обыденности экзотическими пейзажами, напитками и наречиями, а резкие повороты в жизни, углубления ее, провалы. Герой почти одержим вот этой погоней за «реальностью жизни».
Что же касается книги Далии Трускиновской «Шайтан-звезда», то за литературными аналогиями нам придется возвращаться аж в XVIII век, к «Рукописи, найденной в Сарагосе» графа Потоцкого.
Перед нами ситуация, когда европейский писатель строит свое повествование по лекалам «Тысячи и одной ночи» – многосюжетный, густонаселенный фантастический роман, героями которого являются восточные цари, царевичи и царевны, маги, ифриты, джинны, звездочеты, колдуны, башмачники и банщики, бедуины и т. д. И сюжетные линии которого строятся на любовных приключениях героев, на поисках утраченных детей, похищениях, превращениях, счастливых совпадениях и проч. и проч.
Внутренний сюжет определяется противостоянием индивидуальной воли и предначертания, то есть европейского индивидуализма и традиции восточного осмысления понятий судьбы, рока, фатума. В отличие от польского предшественника, погрузившего героев в мрачную атмосферу арабской (магрибской) Испании с ее ощущением всесилия рока, тональность нашего автора выглядит более просветленной. Герои Трускиновской проходят не менее тяжкие и сложные испытания, но остаются, скажем так, несломленными. Здесь больше доверия к жизни, больше озорства и лукавства.
Главная героиня, которой суждено стать женой царевича, становится ею, но тут же уходит от мужа и соединяется с любимым. В начале романа такое кажется невозможным, но, в отличие от восточной сказки, где люди только персонификации неких жизненных начал, герои Трускиновской действительно люди. Им свойственно меняться под воздействием пережитого. И самое большое зло, которое они могут себе причинить, – это загонять свою жизнь в «намеченное русло», то есть давать клятвы. В авторской трактовке рок – это не фатум, не полная безнадежность, а некий коридор, дающий каждому свои собственные возможности.
Жанр романа Михаила Шишкина «Венерин волос» можно было бы определить с некоторыми оговорками как роман-миф или как философский роман, историософский и проч. Но все эти определения только уводят, на мой взгляд, от содержания того, что именно пытается сделать автор. Сам Шишкин определил его предельно расплывчатым словосочетанием «текст текстов». Я бы здесь не стал искать определения жанру, просто дав краткое описание.
Проза почти безупречная. В романе есть все. Есть современность: русский интеллигент, переехавший жить в Европу в конце 90-х и работающий переводчиком с русскими беженцами; в исповедях клиентов повествователя – сегодняшняя русская история в самых ее драматичных поворотах. Есть мотив личный – несложившаяся личная жизнь переводчика. Есть история России первой половины XX века – в дневниках известной русской певицы (быт и атмосфера русской жизни в годы Первой мировой войны, революции, Гражданской войны и т. д.). Есть полуфантастические провалы и в более дальнюю историю от античности до Средневековья.
Повествование строится как свободный, почти прихотливый поток речи, некий поток сознания (и речи) не только главного героя (переводчика), а множества персонажей. Словом наделяются и античный Дафнис в нынешней его инкарнации, и армейское мурло, старослужащий «дед» Серый, измывающийся над духами, салажатами, и Иисус, и Ксеркс, и чеченские старики, сожженные в сарае, и мелькнувший в повествовании похотливый фотограф с золотым зубом, не сумевший дотянуться в своем ремесле до своей мечты и т. д.
Количество персонажей зашкаливает, и все они должны соединиться в некий метаобраз человечества. Замысел более чем масштабный, работа сделана, как сказано выше, почти безупречно. Именно почти. Мешает некоторая душевная отстраненность повествователя от материала, на котором (материале) автор демонстрирует свою действительно великолепную писательскую мускулатуру.
Роман Шишкина был замечен. Критики восхищались («оглушающая полифоническая мощь», «мастер уровня Михаила Булгакова и Владимира Набокова»), критики иронизировали и морщились («мастеровито, манерно и глубоко вторично»), роман получил «Букера», короче, стал событием литературного сезона.
А вот роман Марины Палей «Клеменс[1]» прошел почти незамеченным и читателем, и критикой. У немногих профессионалов он вызвал в лучшем случае недоумение, у других – раздражение. К тому ж малодоступен – опубликована только журнальная версия в питерской «Неве». Книгой «Клеменс» пока не выходил.
И тем не менее он попал в список, и попал по праву.
Перед нами редчайший в современной литературе текст, автор которого не подражает Набокову, а действительно продолжает его поэтику, причем делает это по-своему, на своей теме, своем материале.
Роман строится на сложной системе метафор аутизма и предаутизма. Упрощая ее, можно попробовать развернуть эту метафору кратким пересказом сюжета или, что будет точнее, композиции.
Роман состоит из нескольких эпизодов. Автор-повествователь, питерский интеллигент (переводчик, литератор), сдает комнату приезжему немцу Клеменсу. Жилец поражает героя своей «инаковостью», патологической почти для нашей действительности уравновешенностью, отзывчивостью ко всем и вся, граничащей с равнодушием, но в природе этого равнодушия и есть что-то завораживающее.
Герой пытается понять притягательность самой ауры Клеменса. Он даже пытается сфотографировать Клеменса, но пленка не берет изображения, как если бы в реальном предметном мире Клеменса не существовало вообще. Параллельно разворачивается рассказ героя о собственных взаимоотношениях с миром вокруг. Герой мучается и одновременно почти смакует свое нарастающее отчуждение от окружающего – жены, ее гостей, да и самого стиля собственной жизни.
Мотив развивается и оформляется окончательно в трех вставных новеллах, рукописях некой эмигрантки, попавших в руки повествователю, – исповеди женщины, выброшенной из своей страны отвращением и невозможностью слиться с «отеческим миром».
Тема эмиграции возникает здесь не только как явление политическое (это в малой степени) или социально-психологическое, но и как проблема нарастания в человеке как бы самой материи отчуждения. Эмиграция дается в романе как высшая точка этого отчуждения. Почти неизбежная для каждого, имеющего мужество смотреть вокруг открытыми глазами. В финальных главах, в которых герой снова встречается с Клеменсом, произносится слово «аутизм» как обозначение абсолютной автономности существования.
…Разумеется, этот краткий пробег по произведениям последних двух лет не может претендовать на представление всего лучшего в нашей сегодняшней литературе.
Но в этом обозрении я спокоен как минимум за репрезентативность выбора представленных здесь книг. Выбор этот – не мой произвол. Над составлением списка работали двадцать квалифицированнейших литературных оценщиков, в течение полугода методично просеивавших все более или менее заметное в современной литературе.
Потаённый Нагибин
Юрий Нагибин. Дневник. М.: Книжный сад, 1995.
Деликатнейший предмет для критики – писательский дневник. Что разбирается и оценивается – текст или человек? Неудачный оборот речи или органический изъян личности писавшего? Границу установить трудно. А «Дневник» Юрия Нагибина – действительно дневник. Писался с 1942 по 1986 год исключительно для себя, на публикацию его писатель решился в 1994 году незадолго до смерти. Отсюда свобода и откровенность описаний – и себя, и родных, близких, коллег по литературе и кино. Откровенность порой шокирующая, способная вызвать у кого-то злорадство (подставился!) и желание задним числом свести счеты с уже безгласным оппонентом. Но нужно осознать, что решение Нагибина опубликовать дневники свидетельствует, прежде всего, о мере доверия к нашему уму и душевному такту. Попытаемся же соответствовать.
Для дневников, ведущихся десятилетиями, естественна хаотичность; здесь нет и не может быть единого авторского замысла, направленного отбора материала; здесь разом – десятки сюжетов и разнозаряженных, разномасштабных мыслей. Потребность в дневнике возникала у Нагибина по разным поводам. И когда было плохо, когда нужно разобраться в своей «душевной помойке». И когда – хорошо, чтобы дать выход полноценной пейзажной, любовной, философской лирике. И как реакция на давление извне:
«Я хватался за свою тетрадь, когда чувствовал, что мне не хватает воздуха, и, чтобы не задохнуться, выплескивал переживание на страницы».
И, тем не менее, при всей хаотичности «повествования», есть в «Дневнике» единый и вполне осознанный сюжет: внешняя и внутренняя судьба писателя Нагибина. Вот только развитие этого сюжета было не во власти автора – им распоряжалась жизнь: и личная жизнь Нагибина, и наша общая в прошедшие десятилетия.
До прочтения «Дневника» для меня, например, ситуация выглядела примерно так: существует очень известное литературное имя – Юрий Нагибин. И есть подписанное этим именем энное количество текстов, по большей части небесталанных, но проходящих по категории «беллетристики», то есть изначально сориентированных на вкусы и восприимчивость широкого читателя и, еще на уровне замысла, учитывавших пропускные возможности политической и эстетической цензуры. Меньшая же часть текстов шла по категории «счастливых», когда вдруг «само написалось», – почти безупречных, почти хрестоматийных для русской прозы рассказов. Но писателя Нагибина не было. Не ощущалось в современной русской литературе некоего особого, закрепленного именно за Нагибиным художественного и философского пространства. И потому широчайшая известность его имени казалась обеспеченной только контекстом – настолько усредненным и невыразительным был основной литературный поток в те годы, что даже небольшой дар в сочетании с искренностью и культурой автоматически обеспечивал внимание читателя, а иногда, как в случае с Паустовским, и прижизненный титул классика.
«Дневник» оказался для меня первой книгой Нагибина, которая заставила читать себя с полной включенностью в текст. Заставила предположить, что писатель Нагибин все-таки был. Хот бы в этой, писавшейся сорок лет, книге. Не так уж мало для настоящей литературы.
Ну а где все остальное, вся предыдущая писательская жизнь?
Если перечитать дневники, задавшись этим вопросом, то выяснится удивительная вещь: перед нами, возможно, редкий случай, когда у человека было, казалось бы, все, для того чтобы состояться как писателю.
Писательский менталитет (прошу прощения за модное слово). Самоощущение личностное у Нагибина органично слито с писательским.
«Я понял, как страшно быть не писателем. Каким непереносимым должно быть страдание нетворческих людей. Их страдание окончательно…»;
«Действительность обретает смысл и существование лишь в соприкосновении с художником. Когда я говорю о том, что мною не было записано, мне кажется, что я вру», – записи эти сделаны еще сравнительно молодым человеком.
Культура. По возрасту Нагибин должен был бы принадлежать к поколению, условно говоря, «ифлийскому». Но уже дневники 1942 года демонстрируют практически полное отсутствие специфически временной идеологической и культурной зашоренности. Для молодого Нагибина, например, естественны ссылки на уже освоенных им Селина, Пруста, Бодлера; достаточно рано установил он свои взаимоотношения с христианством, далекие от агрессивной воинственности или восторженного неофитства, он ценил прежде всего этическую и культурно-эстетическую сторону христианства.
Понимание задач литературы было у него изначально продуктивным:
«…надо держаться за слово… Это серьезно, все остальное – поденки, лакейство перед временем и его „проблемами“, назавтра уже не стоящими ни копейки… литература всерьез – это радостный плач о прекрасном и горестном мире, который так скоро приходится покинуть».
Работоспособность, отсутствие самоупоения достигнутым. «Я начинаю овладевать своим ремеслом», – запись сделана в пятьдесят два года «маститым» знаменитым писателем, чьи рассказы уже вошли в школьные хрестоматии.
Литературная одаренность, проявившаяся рано. В записях сорок второго года удивляет ранняя зрелость, жесткость именно писательского видения. Приведу хотя бы вот эту выдержку из военного дневника:
«Лошади на дорогах войны – не кавалерийские кони, а тягловые грустные лошадки, самое печальное, что можно вообразить. Шкура висит, словно непомерно большой чехол на кукольной мебели, черные мутные глаза на длинных мордах с детской слезой, шаткий шаг, – у людей я пока что этого не видел».
Трезвость взгляда на окружающую его действительность, почти полное отсутствие человеческой и гражданской инфантильности. Вот характерные для «Дневника» записи:
«Подозрительность, доносы, шпиономания, страх перед иностранцами, насилия всех видов – для этого Сталин необязателен. То исконные черты русского народа, русской государственности, русской истории»;
«Почти все советские люди – психические больные. Их неспособность слушать, темная убежденность в кромешных истинах, душевная стиснутость и непроветриваемость носят патологический характер… Проанализировать причины довольно сложно: тут и самозащита, и вечный страх, надорванность – физическая и душевная, изнеможение душ под гнетом лжи, цинизма, необходимость существовать в двух лицах: одно для дома, другое для общества».
Хотя здесь, видимо, необходима оговорка: запальчивость таких вот по форме как бы констатирующих и потому предполагающих спокойный, взвешенный тон записей говорит об определенном разладе между умом и сердцем: сердце отказывается принять то, что видит ум.
Интенсивность внутренней жизни: никакого крохоборства, замороженности, излишней бережливости к душевным мускулам. Никаких признаков ослабления жизненной потенции. Ему была свойственна способность испытывать внезапную радость и полноту жизни, «приступы счастья беспричинного»; и все это легко, органично ложилось на бумагу:
«После мучительно жаркого дня, проведенного в Москве, в поту и мыле, с почти замершим от жары сердцем, вдруг почувствовал сейчас, как из распахнутого окна, из неприметно наставшей темноты резко и прекрасно повеяло, а затем ударило блаженной прохладой, вмиг остудившей тело, оживившей сердце, омывшей мозг. Вдалеке чуть слышно пророкотал гром. Ночью будет гроза, и я жду ее, как счастья».
И наконец (если продолжать эти простодушные попытки вывести универсальную формулу «настоящего писателя»), еще об одной особенности личности. Сошлюсь на Розанова, утверждавшего, в частности, что литература создается из пороков. Человек, живущий нормальной, «пресной» жизнью, творчески бесплоден. (Честное слово, не знаю, какие уж такие пороки питали творчество Мандельштама, или Платонова, или Зощенко и т. д., и т. д.?) Увы, и в этом отношении у Нагибина «все в порядке». Всю жизнь он мучительно пытался избавиться от некоторых «особенностей» своей натуры, скажем, от запоев и того, что с ними связано, – страдал, ужасался, казнил себя.
«Писать о себе всерьез я все еще не могу. Страшен и мучителен я самому себе».
Казалось бы, все было. А писателя не получилось. Решусь на наивный вопрос: почему?
Первое, что приходит в голову: в Нагибине конъюнктурщик взял верх над художником. Слишком часто талант использовался не для «радостного плача о прекрасном и горестном мире», а как средство добывания славы и достатка. Что ж, дневники дают богатый материал для подобных толкований:
«Ужас халтуры… Это не фраза – страшно по-настоящему, пусто, щемяще страшно»,
но:
«…стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать… тогда… хочется марать много, много».
Смущает, правда, отрефлектированность этой ситуации. Трудно представить такое в дневнике Г. Маркова или В. Кожевникова.
Или другой, постоянный мотив дневника: искреннее недоумение, искренняя обида на то, что его не ценят писательские и кинематографические начальники.
«Я делаю в кино вещи, которые работают на наш строй, а их портят, терзают, лишают смысла и положительной силы воздействия. И никто не хочет заступиться»;
«…меня вычеркнули в последний момент из едущих на летнюю Олимпиаду… меня, не совершившего даже малой подлости и сделавшего не так уж мало хорошего окружающим, преследуют как волка… А ведь я объездил двадцать пять стран… и вел себя безукоризненно во всех поездках»;
«Сейчас, когда "заслужил у властей", на меня стали срать особенно энергично».
И даже:
«Прости меня, Боже, но милости Твои изливаются только на негодяев…»
Поразительно – так презирать отведенное совком пространство для существования писателя и при этом не мыслить себя вне этого пространства!
И наконец, едва ли не самая жуткая запись:
«Писать о нем я уже не буду, ибо тот последний и самый важный рассказ, который нужно было бы написать, никто не напечатает».
После подобных «саморазоблачений» Нагибина версия о гибели в нем художника от руки конъюнктурщика должна бы казаться вполне убедительной. Но почему-то не кажется. Настораживает ее элементарность. Вопрос остается: почему умный мужественный человек, всю жизнь соблюдавший своеобразную нравственную гигиену – не вступал в партию, не становился секретарем СП, не выносил даже заседаний в редколлегиях, – почему он не плюнул на всю эту суету, на загранпоездки, тиражи, передачи на радио и прочее? Почему не ушел в свой мир – книги, природа, музыка, охота, узкий круг близких по духу людей? Ведь вполне можно было бы и так жить, и так писать. Нагибин думал про это.
«Спокойствие, выдержка, работа – таков наказ себе. И помни: твоя судьба не на дорогах международного туризма, а в литературе. Значит, смириться, сдаться, признать свое поражение? Я на это не способен. И никакой литературы не родится в униженной душе».
Это очень важные строки. В них – нагибинское понимание норм человеческого и писательского достоинства. Можно, разумеется, спорить, насколько оно верное. Но когда человек воспринимает ситуацию ухода в частную жизнь – в данном случае вынужденного – как «униженность», спорить с этим нелепо. Это во-первых.
А во-вторых – и в данном случае это здесь главное, – нагибинское понимание нормы в большей степени приближено к общечеловеческой норме, нежели множество привычных нам моделей писательского поведения, выработавшихся в условиях нашей достаточно специфической отечественной реальности.
Начнем с простого. С желания «жить красиво». Хорошо одеваться, иметь комфортную дачу, ездить на охоту, путешествовать за границу – перечень этот прозвучит ужасно для нашего уха. Буржуазно как-то. По-мещански. Для стереотипов нашего представления о писателе естественней убеждение, что писательскую душу лучше всего воспитывают лишения и ограничения. Не спорю – воспитывают. Закаляют. Умудряют. Но может, так же закаляет душу и опыт радости? Может, в свободной счастливой жизни человек быстрее, а главное, естественней и гармоничнее созревает? Может, этот опыт не менее, а как раз более плодотворен для формирования и развития таланта? Полноценное творчество, требующее огромных затрат жизненной энергии, предполагает как бы определенный ее избыток в творце; игру жизненных сил, а не натужное выдавливание их на бумагу.
«Писатель должен быть баснословно богат, – с полемическим запалом утверждал Чехов, всю жизнь споривший с устоявшимися в России „народническими“ представлениями о фигуре писателя, – так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, Южному полюсу, в Тибет или Аравию… Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор – три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно – писателю…»[2]
Для Нагибина как раз нужен был «весь земной шар» – поездки в Европу, Америку, Японию были средством «проветрить душу», подышать воздухом свободы, увидеть и пережить другой пейзаж, сблизиться с крупнейшими художниками своего времени, увидеть недоступные нашему зрителю шедевры кино и живописи. И все для того, чтобы оставаться писателем. Потому так яростно защищал он свое право на пусть относительную, но все же избыточность жизни и ощущений, а значит – волю.
И даже та, казалось бы, циничная саморазоблачающая запись Нагибина про ужас и привлекательность халтуры содержит странные слова о куске шерсти, который ценен не сам по себе, а как средство, чтобы почувствовать вдруг уважение к себе. Вот главный дефицит эпохи – возможность уважать себя. Возможность жить не униженно. Увы, время поставило Нагибина перед мудреным выбором: скажем, чтобы почувствовать к себе «невольное уважение», надев достойную человека одежду, нужно было добровольно отказаться от уважения к себе как мастеру.
«Ты поставил себе непосильную цель: прожить жизнь, оставаясь порядочным человеком. Именно прожить, а не протлеть…»
Цель оказалась действительно непосильной (в отношении – «прожить»). Но саму попытку осуждать я не берусь.
Норма для писателя – публичное осуществление им своего предназначения. Бесперебойное функционирование в самой природе литературы находящейся взаимосвязи: Писатель – Читатель – Писатель. «Писать в стол» – это, конечно, звучит гордо. Но для меня, например, не очень убедительно. Знаменитую фразу Мандельштама: вся разрешенная литература – «это мразь», я воспринимаю как болезненную реакцию на изуродованные всеми предыдущими режимами взаимоотношения писателя и читателя, на постоянное присутствие между ними тех, кто разрешает или не разрешает. Не более того. Так же, как и не убеждает пример того же Мандельштама, яростно отчитывающего пожаловавшегося на непечатание поэта: а Христа печатали?! В конце концов, и Мандельштам, и Платонов, и многие другие, вынужденные годами обходиться без печатного станка, все-таки держали в руках изданными свои все же полноценные книги, а о своем месте в литературе знали не только изнутри, но и извне.
Да. Приноравливание к разрешенному литературному пространству опасно. Опасно не только искусительными компромиссами, но и излишней сосредоточенностью в отстаивании места в этом пространстве, самим ожесточением борьбы. В ее пылу неизбежно искажается чувство реальности. Следы этого легко заметить в дневниках Нагибина. Скажем, он явно преувеличивал достоинства своего рассказа «Терпение», который считал гражданским поступком, и отношением к которому мерил степень внутренней свободы и человеческой зрелости своих сограждан. Или, например, его твердая уверенность, что излишняя медленность продвижения его рукописей в редакциях, плюс не слишком почтительное отношение к нему даже далеко не официозных критиков – все это приметы организованной травли.
Но были потери и посущественней, чем мнительность и сбои в самооценке своего творчества. Прежде всего, это следы внутренней несвободы, душевной зажатости в прозе, писавшейся десятилетиями. Это особенно заметно на фоне таких работавших рядом мастеров, как Домбровский, Можаев, Трифонов, Казаков, Искандер и т. д. Те «позволяли себе» гораздо больше. Возможно, кроме установки писать исключительно для печати (Можаев, например, или Искандер в отличие от Нагибина имели характер ожидать публикации некоторых своих текстов лет по десять), Нагибину мешал еще и сам характер его дарования – на мой взгляд, дар по преимуществу лирический. Душевный инструмент такой прозы очень деликатен, он требует некой внутренней безмятежности, чувства защищенности. Состояние борьбы для него часто губительно, в отличие, скажем, от азартного, сатирического таланта Можаева, для которого атмосфера борьбы может быть живительна. Да и потом, Можаев, Казаков, Искандер – люди все-таки другого поколения, другого общественного климата. Во времена, когда Нагибин входил в литературу, перепад между тем, что человек мог себе позволить в своем кругу и что – в публичной жизни, был слишком резким. На сегодняшний взгляд записки военных лет Нагибина вполне невинны, но тогда они тянули лет на десять лагерей. И в тех условиях обрести навык безоглядно жить, чувствовать, думать на бумаге невероятно трудно, если вообще возможно.
«Из всего могут родиться слова – из грязи, пороков, ошибок, поздних раскаяний, но только не из страха», —
запись 1949 года.
«Мы все как глубинные рыбы, извлеченные на поверхность. Из страха давлением в миллион атмосфер нас перевели в разреженную атмосферу жиденького полустраха. Наши души не выдерживают… распадаются».
В последние годы Нагибин получил наконец возможность писать абсолютно свободно. Так, как он писал свой дневник. Но избавиться от въевшихся намертво, ставших натурой, навыков беллетриста Нагибин уже не смог. В его поздних повестях «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща» отталкивает именно попытка дать современникам (таким, какими Нагибин их себе представлял) понятную, адаптированную к «общественным запросам» картину жизни. Разница между литературными достоинствами этой прозы и уровнем мысли и художественного письма в «Дневнике» разительнейшая (о поздней прозе Нагибина писал в журнале Никита Елисеев – «Тень „Амаркорда“» – «Новый мир», 1995, № 4).
У «Дневника» есть одна бросающаяся в глаза странность. Он литературен. Не фальшив, не ходулен, не претенциозен, а именно литературен. Дневники так не пишут. В дневники записывают. Нагибин же как раз писал. Изображал. Очевидно, это была действительно единственна его книга, в которой писатель дал полную волю своему таланту, в которой беллетрист Нагибин не мешал писателю Нагибину. Грустная и радостная ситуация. Грустная оттого, что писателя Нагибина мы обретаем только после его смерти. Радостная, что – обретаем.
Анти-инфантильный роман Азольского
Анатолий Азольский. Диверсант. Роман // «Новый мир», 2002, №№ 3–4
Веселенькую книгу написал Азольский – роман «Диверсант» («Новый мир», №№ 3–4) с подзаголовком «назидательный роман для юношей и девушек». И, добавлю от себя, – для взрослых. Это уже как бы собственный жанр Азольского: роман «анти-инфантильный». Анти-инфантильный по отношению к общественным энтузиазмам. Любым. В том числе и военно-героическим, явленным в созданном советской литературой (и кинематографом) жанре под названием «подвиг разведчика» (от собственно «Подвига разведчика» до «Иванова детства» и эпопеи про Штирлица).
Если коротко, то это история про мальчика образца 1941 года, Леню Филатова, воспитанного на военно-патриотической романтике, который рвется на фронт, – подделав документы и набавив себе возраста, попадает в разведку, становится диверсантом, совершает массу подвигов, а потом, как отработанный (и опасный потому) материал войны, Большой Политики и Государственного Порядка, подлежит уничтожению. История его жизни – это история бегства от всевидящего ока государственных институтов (МГБ, КГБ).
Пожалуй, самая жесткая по мысли проза, которую написал Азольский. К уже обозначенной Булкиной в «Русском журнале» литературной традиции (Стивенсон, Жюль Верн, Дюма), с которой взаимодействует автор, я бы прибавил Вольтера с едким философским скепсисом его «Кандида».
Можно было бы сказать, что автор издевается над романтикой «пятнадцатилетнего капитана», если бы не гримаса некоторой брезгливости, с которой автор упоминает о привычных нам романтических, инфантильных штампах – как инструментах в обращении с жизнью.
Мало известную литературе войну описывает Азольский. Герой-повествователь совершает свои воинские подвиги, но изнанка у них бывает странная.
«…Постоянно сворачиваю, уклоняясь от основной темы, от того, что делали мы в нищей и несчастной Белоруссии поздней осенью 1942 года. Что-то сделано было не просто не так, а настолько все правильно, что лучше бы ничего не делать… Есть же в жизни какие-то дни и недели, которые угнетают не результатами, не итогами прожитого и вспоминаемого, а неким ощущением непознаваемой ошибки, за которой чудится общая неурядица всей человеческой жизни».
Вот об этой «непознаваемой ошибке» и размышляет повествователь в романе.
Самым трудным в войне, которую ведет герой, оказывается не то, что он должен делать за линией фронта, а необходимость доказывать потом, по возращении, что ты действительно сделал то, что сделал, и что добытые тобой сведения – подлинные, и ты не пытаешься вводить – сознательно, с враждебным умыслом – в заблуждение собственное командование. А одним из самых драматичных эпизодов в военной биографии Филатова оказался эпизод, к войне имеющий косвенное отношение, – транспортировка собственных пьяных генералов-мародеров к их штабу, закончившаяся арестом и содержанием под стражей, сначала как немецкого диверсанта, потом – как человека, покусившегося на здоровье члена Военного совета фронта.
Школа жизни, которую проходит герой на войне, – это школа противостояния своей наивности, своим представлениям о воинской доблести, о мотивах поведения людей на войне (и не только на войне), своим иллюзорным представлениям о женщине, о мужской дружбе, о самом себе, наконец (скажем, победу над фашистами Филатов с другом мечтают отметить грабежами и массовым изнасилованием немок).
Да и сама работа диверсанта в изображении Азольского не так уж и романтична – более того, героизм ее очень сомнителен в нравственном отношении. Достаточно того, что для выполнения своих заданий Филатов вынужден убивать не только немцев, но и своих, вынужден предавать и обманывать. (Действительно, текст назидательный, особенно сегодня, когда в массовой культуре полным ходом идет героизация разведчика, диверсанта, десантника, для которых обычные моральные законы не писаны; романтичной пытаются сделать даже работу стукача. И, кстати, есть своя логика в том, что параллельно идет романтизация и криминальной жизни; здесь ход еще более простой: русские слова «наемный убийца», «кат», «душегуб» заменяются эффектным «киллер» – и все становится «эстетически» и «идеологически» правильно, получится обаятельный и весь наш, русский и патриотический, Данила, сработанный эстетом Балабановым и ставший кумиром новой молодежи, братом для «Идущих вместе».)
Сориентировнность повествования Азольского на жанр «подвига разведчика», повторяю, ироничная, если не издевательская, – он выворачивает штампы этой литературы наизнанку. Тип этого романа лучше определить как сочетание романа воспитания и плутовского романа, отсылающее нас к жанру философской прозы, к тем же повестям Вольтера. Герой Азольского учится не столько воевать, сколько – жить. И потому об очевидном, о простом для понимания автор говорит вскользь, и как раз сюда попадают эпизоды собственно боевой жизни. На них автор не тратит времени и сил. Вот, скажем, глава, в которой герой с друзьями готовится к очередной заброске в тыл немцев; читатель уже настраивается на проживание военно-героического, но вместо этого нам подробно описывается произошедшая накануне встреча героя с блудливыми монашками, зазывающими офицера в монастырь на «прием в честь доблестных воинов», и переживания, с этим связанные:
«… я стал противен сам себе, желание спало, меня отвращала женщина. Да, Женщина, потому что обе монашки как бы составляли образ Женщины; монашки, подумалось мне, – это та же тактическая пара, нацеленная на овладение мужчинами, ведущая и ведомая, роли в этой паре распределяются по степеням выразительности абсолютных противоположностей, и чем более агрессивна одна, тем более податлива и нежна другая, вместе образуя „женщину“».
Далее следует рассказ о том, как старший группы все-таки едет развлекаться с женщинами, а герой, получив приказ о заброске в тыл, мчится за своим командиром в монастырь. Глава заканчивается фразой:
«Мы позаимствовали мотоцикл и умчались, появились как раз вовремя, прикатил бронетранспортер за нами, Алеша уже собрал то, что называл „вещичками“, и мы поехали к штабу фронта, откуда на аэродром, сбросили нас на юге генерал-губернаторства, за неделю мы все сделали, получив затем по ордену».
Вот в таком соотношении военно-героического и бытового, жизненно важного для героя (экзистенциального), и описывается война.