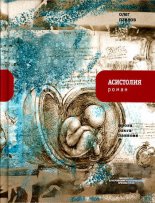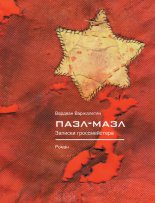Русалка гриль Плешаков Владимир

Стыд смертельный
Света Кувшинникова пукнула. В обществе. Непроизвольно, конечно, и совсем неожиданно для себя. Не пучило живот, не урчало в утробе, не было никаких намёков. И вдруг – на тебе! Коротко, но чрезвычайно звучно. И оркестр как назло только закончил «Дай пять» и ещё не начал следующую вещь – Света так и не узнала, какую именно. И как назло рядом стояли нужные инвесторы, и тональность разговора была та самая, – могло срастись. И как назло подошёл тот рыжий атлет-очкарик, с которым Света перемолвилась парой слов в начале, а он ответил вполне благосклонно и с юмором, и глаза блеснули тем самым образом, – могло срастись. И как назло Света была в образе «диплом МВА», которому пук был совсем никак не к лицу. Выбрала бы «ироничную матрону» или «пост-хиппи с рентой», ещё куда бы ни шло.
Света Кувшинникова бросила «извините», стремительно вышла в холл, соскользнула по лестнице к туалетам и заперлась в кабинке. Она думала. И страдала. Страдания мешали мыслительному процессу, и Света привычными движениями души запрещала себе страдать, стараясь думать хладнокровно и непредвзято. Но не получалось. Было стыдно. И сознание того, что повод такой ничтожный, никак не преуменьшало степень и интенсивность переживаемого Светой стыда.
Света Кувшинникова, отключив зрение и слух, улизнула из особняка, где проходило мероприятие, добралась до автомобиля, села и поехала, куда глаза глядят. Зазвонил мобильник. И с каждым повтором короткого ретро-звонка почему-то стыд в Светиной душе нарастал, пока не захлестнул с головой. Света поняла, что несётся по заполненным транспортом вечерним улицам, не разбирая знаков, почти не видя ничего от липкого пота, стекающего на глаза. Она ещё раз попыталась думать хладнокровно и непредвзято. И придумала: надо припарковаться, так нельзя. Крутанула руль, врезалась в рекламную стойку и перестала думать, стыдиться и потеть одновременно.
Зинаида Львовна месяц назад резала овощи на салат в общей кухне. А жилец Володя сидел за своим столиком и чистил рыбу. Они молчали. Володя вообще был неразговорчив, даже замкнут. Ни Зинаида Львовна, ни её муж даже не знали, где работает их сосед, сколько ему лет, был ли он женат, словом – ничего. До этого Зинаида Львовна, её муж и двое детей жили в настоящей коммуналке на четыре семьи. Жили дружно, с соседями не только не ссорились, но даже напротив – помогали друг дружке, чем могли. А с пожилой парой Ивановских так вообще практически сроднились, и очень переживали, когда те съехали. Вскоре, впрочем, съехали и сами, получив ордер в квартиру с подселением – этакую «почти коммуналку». Две комнаты из трёх заняла Зинаида Львовна с семьёй, а в третьей жил холостой Володя – неясного возраста и непонятных занятий. Блёклый, потёртый, молчаливый. То ли застенчивый, то ли задумчивый. Муж Зинаиды Львовны пытался наладить контакт с новым соседом, приглашал «посидеть», но как-то не сложилось. Зинаида и сама предлагала Володе не стесняться, заходить, если захочет посмотреть телевизор – своего у Володи не было. Но тот телевидением не интересовался. И радио не слушал. И даже выключал, когда заходил на общую кухню. Зинаида Львовна и её муж, конечно, время от времени обсуждали странности соседа и сетовали на то, что им не очень повезло с Володей. Хотя он и безвредный, и не шумный, а все ж какой-то неуютный, что ли. Обсуждали и при детях. Как оказалось, зря.
Зинаида Львовна чистила и резала овощи, Володя возился с рыбой, а по длинному (особенно для четырёхлетнего ребёнка) коридору из своей комнаты на кухню шёл младший сын Зинаиды Львовны – Глебка. Он шёл мимо комнаты Володи, заглянул в приоткрытую дверь (такое случалось на его памяти впервые), ничего особенного там не увидел, но пробормотал: «Чего-то дверь открыта…».
Ну, не совсем пробормотал. Довольно громко сказал. Звонким ребячьим голосом. Зинаида Львовна напряглась, коротко зыркнула на Володю и строго окликнула сына, – чем, мол, он там занимается? Глебка, теперь уже в полную громкость, чтоб мама на далёкой кухне услышала, ответил: «У Володи дверь почему-то открыта!» Мама прикрикнула, чтоб сын немедленно отошел от чужой двери. Глебка послушно отошел и двинулся дальше, к кухне, по пути изображая таракана, ползущего то по стене, то по полу. На ходу таракан, обращаясь к невидимой маме, сетовал:
– Даже в гости никогда не позвал! – имея в виду нелюдимого Володю. – Какой-то не такой, да, мам? Вот на старой квартире у нас были хорошие соседи. А этот не хороший. Папа говорит, что он нелюдь. Точно, нелюдь! Нелюдь – нелюдь и есть… мам, а кто такой нелюдь? Который нелит, что ли? А как это – нелить?..
Пулей выскочила покрасневшая Зинаида Львовна с кухни, забыв положить овощной нож. Не сбавляя скорости, столкнулась с сыном, сгребла его в охапку и влетела вместе с ним в свою комнату, с шумом захлопнув за собой дверь. В комнате она поставила ошалевшего Глебку на пол и, размахивая ножом, зашипела:
– Ты шшшто делаешшь?! Ты шшто говоришь?! Ты зачем меня позоришшшь?!!
Это случилось месяц назад. Неделю Зинаида Львовна старалась не выходить на кухню, не встречаться с Володей в коридоре. С Володиной-то нелюдимостью ей это вполне удавалось. Но кто расскажет, как настрадалась она, какой жгучий стыд испытывала. С мужем они решили никогда, никогда-никогда не обсуждать взрослые свои дела в присутствии детей.
А потом Володя повесился. И его похоронили. Были многочисленные друзья, куча родственников. А ещё через две недели в комнату въехал другой жилец – Ираклий Степанович, пожилой грузинский еврей, которого муж Зинаиды Львовны даже немного знал по работе. Так что, когда он пригласил нового соседа «посидеть», тот с удовольствием согласился.
Зуйков бил хозяйку дужкой от кровати, она хрипела и, защищаясь, схватила Зуйкова за пах. Тот взвыл и крикнул Федченко: «Чего стоишь? Отцепи эту б…!»
Федченко почему-то не захотел помочь Зуйкову, а вместо этого он повёл себя так, как повёл бы себя сам Зуйков в аналогичной ситуации – коротко всхохотнул, матюгнулся и продолжил бросать в мешок какие-то цепочки из ящика трюмо, потом всякое барахло со стола. Потом он вышел из спальни в «зал» и огляделся. Хозяйка в спальне в это время замолчала, а Зуйков смачно и довольно выругался. Судя по звуку, он бросил на пол дужку от кровати и тоже вышел в гостиную.
Федченко стоял посреди большой комнаты с мешком в руке и несвойственной ему задумчивой миной на лице. Что-то с ним было не так. Зуйков это понял сразу и сразу же пожалел, что бросил кроватную дужку в спальне. Федченко поглядел на Зуйкова с болью в глазах, затем перевёл взгляд на дверной проем в спальню. Федченко не знал, что с ним. Может быть, ему вдруг стало стыдно за то, что он не помог товарищу. Вот для Зуйкова это было нормально, а он, Федченко, вообще-то должен был помочь, когда Зуйков звал его. А он не помог. И даже не совсем понимает, почему. И от этого Федченко было вдвойне странней и непонятней.
Не в силах переносить этот непомерный и непонятный стыд, Федченко одним коротким и точным движением всадил финку в сердце Зуйкову.
Мальчишки прыгали с сарая. Вообще-то это был не сарай. Сооружение называлось летняя кухня. Внутри была огромная кирпичная печь, вокруг по стенам – полки, шкафчики, все пыльное, старое. Летней кухней не пользовались даже летом, готовили в доме на электроплите. Ненужная в хозяйстве постройка была отдана практически безраздельно братьям Ивану и Глебу. Глебка стоял вместе со всеми на крыше летней кухни, но не прыгал. По странному совпадению это был тот самый Глебка, который раньше жил в коммунальной квартире, а затем в квартире с подселением. А вот теперь его родители получили целый дом, правда, без удобств. Но для мальчишек (а Глебке теперь было восемь, его брату – десять) главное не теплый туалет, а пространство. Пространства в доме было с избытком. Дом, в отличие от квартиры, тем более с подселением, не заканчивался дверьми. За дверью начинался сад, огород, разные постройки – и всё это было тоже их пространством, где можно было гулять, играть, не спрашивая разрешения. Соседские пацаны приходили к Ване и Глебу играть в их безграничном саду в прятки, в индейцев или войну. Тогда летняя кухня была штабом или фортом. А иногда она была просто сараем, с которого, например, очень весело прыгать в сугроб. Но Глебу, в отличие от остальных, было не весело. Он боялся. Несколько раз он подходил к самому краю, смотрел вниз на такой близкий, но такой страшно далёкий сугроб, и отступал назад. Он силился и никак не мог понять, почему всем весело, а ему одному страшно. Ведь и на самом деле не высоко. Все уже по нескольку раз с гиканьем и уханьем прыгнули – кто с нарочитой неподвижностью рухнул «солдатиком», кто, с силой оттолкнувшись, скакнул вверх, ещё увеличив дистанцию падения. И все хохотали, делились впечатлениями: «Ты видел, как я!» И только Глебка стоял на крыше летней кухни и никак не мог решиться. Он даже спустился и поглядел на сарай и сугроб снизу, чтоб оценить высоту максимально объективно – было совсем не высоко и не страшно. Снова забрался на крышу, уже с твёрдым намерением вот сейчас-то точно прыгнуть, смело подошел к самому краю, уже напружинил ступни для прыжка, глотнул морозного воздуха и отпрянул. Будто отдёрнутый за хлястик клетчатого пальто кем-то невидимым. Или чем-то. Ужасом, неподвластным ему страхом. Хорошо хоть мальчишки не насмехались и не издевались, не обзывали трусом. Наоборот, подбадривали – всё-таки Глебка был самым младшим в компании. Но сам-то он понял со всей очевидностью, что он – трус. Трус! Он отошёл подальше от края крыши, уже твёрдо зная, что не прыгнет НИКОГДА. Для этого он слишком труслив. И так пойдёт он по жизни – на кривых и дрожащих ножках труса. Чёрное отчаянье и стыд захлестнули Глебку. Он вдруг понял, что от этого несостоявшегося прыжка вся жизнь его теперь будет сплошной мукой стыда. Глебка заплакал и отошел к противоположному краю летней кухни, почти примыкавшему к забору. Снег тут, между стеной сарая и забором, намело гораздо выше, сугроб почти доставал до чёрных досок крыши. И Глебка, сквозь оглушающий и ослепляющий его стыд, вдруг понял, что может прыгнуть здесь. Ведь какая разница! Главное, что он прыгнет. А с какой стороны – уже не так важно. Да и потом, после этого первого прыжка он наверняка сможет прыгнуть и с той, другой стороны, где хохочут и визжат мальчишки. Он подступил к краешку. Страх упругой волной давил ему в грудь, не пуская к кромке. Но стыд подталкивал сзади, и он оказался сильней. Глебка молча, без ухарских воплей, сосредоточенно оттолкнулся и прыгнул вниз, уйдя с головой в сугроб. Мальчишки подумали, что малой испугался и убежал домой, и ещё долго резвились на крыше. А потом решили играть в индейцев, несмотря на шубы и ватные пальто. А потом ещё строили снежную башню. А потом расходились по домам, и мама позвала Ивана с Глебом ужинать. А потом долго искали Глеба, и нашли только поздно ночью. Именно, что поздно.
Анатолий Иванович впервые вышел гулять без костыля. За два с лишним месяца это устройство страшно надоело ему и, несмотря на всеобщее сочувствие, Анатолий Иванович ощущал себя скверно. Ему казалось, что костыль добавил возраста, что с этой глупой палкой под мышкой он стал на десяток лет старше, и сочувствие вызывает не столько травма, сколько его мнимая старость. А ведь он еще ого-го! И вот костыль оставлен дома (Анатолий Иванович даже хотел его выбросить, но все же пока не стал), и на прогулку вышел совсем даже не старый, и полностью здоровый, приятной наружности человек. Анатолий Иванович старался идти, не хромая. Это получалось, если шагать не спеша, как бы даже вальяжно, руки за спину, подбородок вверх. Моцион. Не хватало трости. Впрочем, нет – трость это почти костыль, ну ее. Анатолий Иванович вышел со двора и направился в сторону бульвара. Тут была хитрость. Как ни бодрился Анатолий Иванович, а нога всё ж не зажила окончательно. Но на бульваре имелись бесчисленные скамейки, и можно было присесть, как бы не от усталости, а просто, в жанре моциона. Присесть с газеткой (он и газетку прихватил, хитрец), потом опять прогуляться. Анатолий Иванович живо представил себя, сидящего у входа в парк, и картинка ему понравилась. Но нога давала о себе знать, и Анатолий Иванович с горечью понял, что до парка не дойдёт. Можно, конечно, было присесть и здесь, скамеек хватает, но на воображаемой картинке Анатолий Иванович сидел с газеткой именно у входа в парк. Впрочем, решение есть! И вполне себе достойное. Доехать пару остановок на трамвае! И Анатолий Иванович, круто изменив траекторию, направился к остановке. Трамвай не заставил себя долго ждать. И вот тут Анатолий Иванович столкнулся с проблемой, о которой как-то не подумал – ему предстояло подняться на довольно высокую подножку. Со здоровой ногой, до травмы, это никакой сложности не представляло, но теперь оказалось крайне непросто. Анатолий Иванович с силой ухватился за поручень и подтянул тело резким усилием на первую ступеньку. Благодаря сильной инерции, он быстро перешагнул выздоравливающей, но не выздоровевшей ногой на вторую ступеньку. Там чуть замешкался, но смог все же довольно быстро подняться и на последнюю. Травма, разумеется, тут же дала о себе знать. Жуткой острой болью. И Анатолий Иванович пожалел, что затеял этот моцион, замешанный на гордыне. Он доковылял до единственного свободного сиденья и с трудом опустился, сохраняя, впрочем, на лице выражение беззаботности. Все-таки гордыня имела место. Тут в вагон поднялась, вставая на каждую ступеньку поочерёдно обеими ногами и долго топчась на месте, старушка. Поднялась, оглядела вагон и направилась прямиком к Анатолию Ивановичу. «Ну почему сразу ко мне? Что я, самый молодой, что ли? – подумал Анатолий Иванович. – Хотя уж точно не старый. Подошла ко мне, значит, выгляжу вполне в форме». Он удовлетворённо улыбнулся, но тут же понял, что встать и уступить старушке место просто не сможет. Не в силах. Боль в ноге была такой острой, что Анатолий Иванович даже вспотел. Но старушка встала рядом с ним и молча, требовательно смотрела. Анатолий Иванович заметил, что другие пассажиры начинают тоже смотреть на него, и в их взглядах явно читается: «Ну и тип, расселся без стыда и совести, бабушке место не уступит!» Он уже даже сделал было движение, чтобы встать, но, перенеся вес тела на ногу, получил такую порцию боли, что едва сдержался от вскрика. «Нет, не смогу, очень болит, – подумал Анатолий Иванович. – Да и, в конце концов, почему именно я?! Что, в вагоне никто не может уступить места? Есть тут и помоложе, и поздоровее меня! И, в конце концов, мне через одну выходить, вот тогда и сядет спокойно…» Но, подняв глаза, он встретился взглядом со старушкой. Та покачала головой, презрительно скривив губы. Такого стыда Анатолий Иванович не испытывал давно. А может, и вовсе никогда не испытывал. Он старался жить по совести и поступать согласно неписаным правилам общежития – никому не мешать, помогать по мере сил, уважать старость, пропускать дам вперёд и так далее. И вот вдруг он, Анатолий Иванович, попал в такую глупейшую ситуацию – сидит, как наглый подросток, под убийственным взглядом стоящей старушки. И рад бы подняться, да не может. Ну не пускаться же в объяснения, в самом деле! Извините, мол, нога после операции не зажила окончательно, трудно стоять, через остановку выйду. Боже, до чего стыдно! Трудно понять даже, от чего больней – от раны или от стыда. Ужасно стыдно, просто невыносимо. Анатолий Иванович, не в силах более терпеть создавшуюся ситуацию, превозмогая боль физическую, вскочил сначала, сгоряча, на обе ноги, потом приподнял больную, схватившись за поручень. Затем зачем-то поднял и вторую, на короткое время завис так – рука на поручне, ноги над полом трамвая, а потом, оттолкнувшись от поручня, разжал кисть и легко поднялся. Беспрепятственно он преодолел крышу вагона, проскользнул мимо искрящего токоприёмника и полетел ввысь, оставляя внизу боль и жгучий, смертельный стыд…
Русалка гриль
Дорога петляла. Видимо, речка тоже петляла. Так что мы переезжали через неё раза три, не меньше. И, когда в очередной раз впереди показался мост с указателем «р. Ум», я быстро достал из рюкзака руку, завёрнутую в газету, и, едва машина оказалась на мосту, выбросил свёрток за окно. Газета на лету распахнулась и спланировала в траву ближе к берегу. А рука русалки, похоже, упала прямо в воду. Домой.
Костик говорит: «А чо там уметь-то? Наливай да пей!» – и ржёт.
Ну, я Костика знаю. Не так уж они там и налегают на это дело. Костик рыбалку любит. А смешивать два удовольствия не любит. Сам же говорит: «Это как колбаса с пирожным». Так что насчет «наливай» – это больше фигура речи.
Поехать, что ли, правда? Ленка с остолопами вернётся аж через пять дней, а я уже от вида, запаха и тишины пустой квартиры скоро взвою. По-дурацки получилось с этим отпуском. Сначала думали махнуть все вчетвером, посчитали – вроде наскребём. Тут Хандорин со своим авралом.
«Конечно, – говорит, – ты в полном праве. Полагается отпуск, так полагается. Езжай. Только…»
Я и остался, конечно. А что делать? Встать в позу? Остался, своих отправил, ласты на антресоли обратно закинул, тут и аврал кончился. Так же внезапно, как и начался. Партнёры договор расторгли… или что-то в таком роде. Хандорин меня встречает в коридоре: «А ты чего в отпуск не поехал? Я ж тебя отпустил!..» Ну не гад, а?!
Я – в турфирму. Может, как-то можно присоединиться к своим, хотя бы на неделю? Нет, говорят, туда билеты есть, а обратно – нет. Как так – непонятно. Что, туда улетели сто человек, а назад сто пятьдесят? Египтяне, что ли, к нам подались?.. В общем, не срослось.
Кукую две с лишним недели холостяком. Разобрал коробки и шмотки в кладовке и на антресолях (на ласты поглядел – вздохнул тяжко…), велосипед помыл, тормоза подтянул, шины накачал. Даже покатался однажды часика полтора. Но одному – какой интерес? С остолопами куда веселее! То наперегонки, то слалом-гигант устроим, да и вообще – спросят, я отвечу, потом я чего-нибудь спрошу. Или едем, орём в три глотки «Пара-пара-парадуимся на своём веку». Так что, приковал велик к мусоропроводу, который уж лет шесть как заварен, а велик посмотрел на меня с укоризной, – мол, за что, хозяин? Говорю, – мол, потерпи, это на неделю, не больше.
С велосипедом разговариваю? Да. За 16 дней я с телевизором-то устал говорить – его ведь не переорёшь. Другое дело с кастрюлей побеседовать, пока макарошки варятся, или с утюгом. А велик уж совсем почти отвечает, живая ведь тварь.
Не помню, я Костику позвонил, или он мне. Он ведь знает, что я не рыбак. Но, опять же, знает, что мои в Египте. Вот и позвал, благодетель. «Не умеешь – и не умей, – говорит. – Считай, что я тебя на пикник позвал. С удочками». Я аж воспарил, мне этого только и не хватало. В буквальном смысле. На природу, босиком по траве, еда с костра, мужские забавы. Ну, в смысле, подростковые такие, но в исполнении взрослых дядек, потому и выглядящих как дебилы. Это ж сказка! На пару дней заделаться дебилом, да еще у водоёма! Тем более, почти всю компанию знаю. С Хуаном, как и с Костиком, вместе учились. С Аркадием когда-то вместе работали. Евгений Николаевич… или Петрович… – не помню точно – это какой-то родственник Хуана, я его пару раз видел. И еще незнакомый мне Хряп.
– Да знаешь ты его! – орет Костик. – Хряпов его фамилия. Ну?
– Не знаю я никакого Хряпа. Да не в этом дело. В машине-то места есть?
– Для тебя, братан? Ну!
– А вы с ночёвкой или как?
– Не, с ночевой не получится. Рано утром выезжаем, поздно ночью приезжаем.
Еду! Проверил аккумулятор в старенькой мыльнице. Новый Никон Ленка в Египет, естественно, увезла. Лосьон от комаров, бандану, нож свой швейцарский (это уже второй, первый у меня на таможне в том же Египте отобрали – забыл из ручной клади выложить, блин)… что ещё? Вот он, неопытный рыбак! У бывалого сборы уже на автомате происходят, – точно знает, что брать, чего не надо.
В полчетвертого проснулся, за минуту до того, как будильник в телефоне начал изображать звуки природы – электронные птахи засвиристели, но я уже был на ногах. На всё десять минут, Костик грозился без четверти четыре заехать.
Лифт не работает. Типа, выходной, люди дома должны сидеть? Ладно, вниз – не вверх. Вышел из подъезда. Вот это мне нравится! Тишина вот эта особенная, синющие тени, воздух какой-то неуверенный, и главное – ни души! Я часто Ленке говорю (и шучу при этом только наполовину, а то и на 30 %), что нашему городку цены бы не было, если б из него всех жителей выселить. Только представь: чистота, никто ни соринки не уронит, тишина опять же, никакого тебе шансона, никакой попсы, никакого тынц-тынц электронного. Гуляй, не хочу!
Хорошо, но где Костик? Уже без пяти. Перестраховался, что ли? Думал, я просплю? Я не проспал, Костя! Я как тот мальчик из «Честного слова» – на своём посту. «Ока» подкатила почти беззвучно, вписавшись в утреннюю тишину как нельзя лучше. Туша Костика вывалилась из двери, крохотная машинка аж приподнялась на рессорах облегчённо.
– Давай грузиться! – заорал было Костик, но я шикнул и рукой махнул в сторону окон. – Давай грузиться, – уже полушёпотом повторил Костик. – О, а где рюкзак, гражданин рыбак?
– Это всё, – показал я на пластиковый пакет.
– Ну ты ваще налегке… а жрать чего будешь?
– Я думал – что наловим, то и съедим.
– Ты наловишь! Ага. Ладно, садись, халявщик.
Бедная «Ока» скрипнула, застонала, осела, – а ведь это только Костик забрался внутрь! Мне аж жалко стало железяку, но полез тоже – куда деваться.
Улицы утренние, звонкие от пустоты, до чего хорошо! Устал я от людей, что ли?.. Разве так может быть? Я ведь и сам человек, и остолопы мои тоже люди какие-никакие. Как так – устал от людей? Не успел я додумать эту мысль (а она мне не в первый раз в голову приходит), как Костик ревёт:
– Эй, не спать! Твоя задача меня держать в тонусе. А то ведь если я тоже засну, совсем некарашо будет! Так что давай, весели меня, развлекай и следи, чтоб я не кемарил.
– Чем тебя веселить?
– А чем хочешь. Пой. Анекдоты рассказывай.
– Знаешь же, я не умею.
– Ничего, давай. Это ж не для смеха, а для дела.
– Нуу… святой Петр приходит к Богу и говорит: «Господи, там к тебе атеисты пришли!» А Бог отмахнулся и говорит: «Передай им, что меня нет».
Костик так заржал, что я вздрогнул от испуга. Вот, оказывается, что нужно для успеха – раннее утро и два не выспавшихся типа в трясущейся машине. На волне признания аудитории я вспомнил еще штук пять анекдотов (причем, по неясной причине три из них были про Бога), и рассказал их с тем же результатом. Не успел Костик отхохотаться по поводу чернокожего Ди Каприо, как нас нагнал чёрный «Ниссан», поравнялся с нами, и в открытое окошко высунулся довольный Хуан.
– Здорово, черти! Вы чего стоите? Поломались, что ли?
– Очень остроумно, – обиделся за свою тачку Костик и вдавил педаль. Мы резко ушли вперёд, но ненадолго. «Ниссан» как будто без труда нагнал нас снова.
– Костян, не нервничай, она у тебя и так вся в мыле, – весело орал Хуан. Рядом с ним виднелся профиль Евгения Николаевича… или Петровича, – не помню. Заднее окно тоже приоткрылось, показался Аркадий:
– Привет, мужики. Вы сильно не гоните, а мы поедем вперёд, займём наше место, а то понаедут какие-нибудь гаврики. Ага?
Костик согласился:
– Давай.
Но обида в его голосе всё-таки осталась. «Ниссан» рванул вперёд, а Костик как будто даже специально приотстал, всем своим видом говоря: ну да, вот такие мы посконные, на отечественном малолитражном автопроме ездим, не то, что капиталисты некоторые. И руль погладил как-то нежно.
Свернули с трассы, попетляли минут пятнадцать, потом и с грунтовой свернули на совсем уж верблюжью какую-то тропу. Ехали вдоль речки.
– Знаешь, как река эта называется?
– Ммм?
– Ум!
– В смысле?
– Так называется – Ум. Мы указатель проехали с полчаса назад. Река Ум.
– То есть мы сейчас едем нормально, по уму.
– Именно! Я первый, кстати, это придумал. А еще с ведром когда пойдешь, это – ума набраться.
– Ага. А искупался и – из ума вышел.
– Точно. Во, это новое. Чур, я этот каламбурчик расскажу мужикам! А ты ещё придумаешь!
Мне, конечно, не понравилось, что Костик безапелляционно присвоил право первенства на мой каламбур, но с другой стороны польстило, с какой уверенностью он предположил, что я еще смогу придумать. Кажется, начинаю карьеру юмориста! Вот он, сладкий наркотик славы – немного лести, и лепи из человека, что угодно.
Из-за высокой травы показался черный бок «Ниссана», Костик лихо развернулся и встал.
– Привет участникам автородео! – тут же среагировал Хуан.
– Не ори, рыбу распугаешь, – проворчал Костик уже вполне добродушно. Природа всё-таки. Располагает.
Тут начались все эти рыбацкие дела, когда все знают, что делать, каждый что-то достаёт, разворачивает, все сосредоточены, приятно возбуждены, один я как олух стою. Чувствую, праздник жизни мимо меня проходит. Аркадий глянул на меня, кажется, всё понял и говорит:
– А ты чего как неприкаянный? Вон, котелок возьми, надо чайку пока поставить.
– Да, сходи, ума наберись! – почти хором сказали Костик с Хуаном, и все по-доброму засмеялись. Я понял, что это их старая и непременная шутка. Во всех компаниях или в семьях есть такая обязательная, можно сказать – ритуальная шутка, которую все знают наизусть (кроме новичков, естественно), и тем не менее все смеются каждый раз, когда кто-нибудь её произносит. А для самого новичка это ещё и инициация – пошутили, посмеялись, считай, принят в банду.
Я, принятый в банду, пошёл к берегу, присел на корточки, окунул котелок, да так и замер. От красоты. Вот бы какой-нибудь Пришвин описал! Помню, в школе на диктантах нам постоянно давали отрывки из Пришвина, и всегда это были описания природы. Тогда они казались скучными, а сейчас вдруг вспомнил и пожалел, что не смогу так описать, чтоб у читателя захватило дух, как захватило его у меня. И ведь, стыдно признаться, как школу закончил, так о Пришвине и не вспоминал, ни одной книги его не прочитал. Даже и названия не знаю ни одного! Культурный человек, почти интеллигенция, ээх… В общем, уголок природы был великолепный: речка Ум здесь изгибалась довольно круто, и противоположный берег казался островом, а наш – берегом озера. Всюду кустарник подходил к самой воде, и только на «нашем» месте вода намыла песок, и получился этакий пляжик. И купаться удобно, и рыбачить. Наверное.
Ну, вот такой из меня Пришвин. «Уголок природы был великолепный». Ужас! Вот такая же история была с Шишкиным. Тоже воспринимался как обязательный к изучению, как часть школьной программы, а не как художник. Ну, мишки в лесу. Ну, сосна посреди поля. То ли дело – бой Пересвета с Челубеем! Часами можно рассматривать, столько там всяких деталей, и как всё выписано: и оружие, и развевающиеся бороды, и блестящие глаза. Ух! Или где казаки пишут письмо.
Или последний день Помпеи. А пейзажи… кому они нужны? Мне казалось в детстве, что они для того только и нужны, чтоб сначала художники учились, овладевали мастерством, тренировались на пейзажах, а потом уж приступали к серьезным работам – батальным, массовым картинам. Только некоторые так и не посерьёзнели, как Шишкин, например, – так всю жизнь и рисовал ёлки-палки.
И вот поехали мы с Ленкой в Киев к дальней родне. Старались меньше сидеть в тесной квартирке, чтоб не надоедать, потому целыми днями совершали экскурсии – по городу, по ботаническому саду, по музеям всевозможным. Благо, в Киеве уж есть, что посмотреть. Но я о Шишкине. Музей русского искусства, – так, по-моему. И там выставлен Шишкин. В полный рост, что называется. Это вам не фантики от конфет «Мишки в лесу». Именно их я первыми и увидел. Вообще-то «Утро в сосновом лесу» – если правильно. Увидел и остолбенел. Ведь вроде с детства не то, что знакомая картинка, а буквально оскомину набившая. И вдруг такое! Особенно этот свет, сквозь хвою пробивающийся! Я аж запах почувствовал. До такой степени всё живое! Но дело даже не в этом. Конечно, реализм поражает, и мастерство. И то, что подойдешь поближе – мазня сплошная, мозаика бессмысленная. Отойдешь – и вот снова лес появляется, деревья ветром слегка колышутся, на траве солнечные пятна горят. Но, говорю, дело даже не в этом. Я вдруг понял, зачем пейзажи, почему Шишкин их писал и писал. Я прямо увидел, как вот он идёт по лесу, поднимается на какую-нибудь горку, и тут перед ним открывается такой вид, что дыхание перехватывает от красоты, от Совершенства. И никого нет рядом, чтоб толкнуть в плечо и сказать: «Смотри!» И чтоб тот, другой, тоже ахнул, да так и замерли бы оба, поражённые увиденным. Ну один он гулял! И что делать? Кого локтем толкнуть? Вот тут-то и проявляется настоящий Художник. Он бежит домой, достаёт краски, и вот это своё «Ахх!» не одному какому-то попутчику передаёт, а всему человечеству. Толкает нас локтем, чтоб мы в восторге замерли и смотрели заворожённо. А мы, дураки, это чудо на конфетных фантиках печатаем, и чудо всякое пропадает. И зачем, спрашивается, – Шишкин старался…
Всё это я к тому, что не дано мне таланта вот так же передать ту красоту, что на речке Ум я увидел. Так уж не буду и стараться. А то только хуже сделаю.
Сколько я так сидел с котелком, погружённым в воду? Но тут сверху появились Аркадий с Костиком:
– Вот он сидит, смотрите, сидит себе на Уме!
Новый каламбур пришёлся кстати, все захохотали. Я понял, что у них тут негласное такое соревнование, какие ещё шутки можно придумать, обыграв название речки. Надо будет тоже что-нибудь сообразить.
Я поднялся наверх, Хуан перехватил у меня котелок и подвесил его на палочке над уже разведённым костром. Они тут время не теряли. Интересно, а они понимают, какая красотища перед ними?
Говорю:
– Слушайте, какое место тут красивое!
Аркадий кивает, Евгений Петрович (или не Петрович?) тихонько говорит:
– Это да.
Костик хлопает меня по плечу:
– А мы в плохие места не ездим, братан!
Хуан хворосту подкладывает и говорит:
– Ты потом ещё вдоль пройди, вон туда, там такой заливчик есть, с деревом…
И Евгений-как-его опять вздыхает:
– Это да…
И мне вдруг так хорошо становится, что не выразить! От того, что вот мужики все такие разные: Аркадий вечный скептик, Костик толстокожий вроде бы, Хуан хамоват, хотя не так прост, как хочет казаться, Евгений этот… без отчества… сколько его знаю – он за всё время едва ли десять фраз сказал. Кстати, еще Хряп какой-то должен был поехать? Видно, сорвалось. Но я отвлёкся, при чём тут этот Хряп? Ни при чём он тут! Я что говорю – вот, мужики такие вроде все без сантиментов, что ли. Реальные такие, на земле. Я расчувствовался, пейзажем залюбовался, а когда они сверху подошли, мне как-то неловко стало. Будто я тут не совсем уместен со своими пейзажными переживаниями. Мужики на рыбалку приехали, делом занимаются, а интеллигенция гнилая ахает и охает. Это с одной стороны так получается, – вроде как они правильные, а я неправильный. А с другой – наоборот. Ведь природа вечна, а мы мураши на ней, ползаем, суетимся, царями природы себя возомнили, а надо остановиться, вспомнить, что мы и кто мы и, позабыв гордыню, природе поразиться и удивиться. И тут получается, что я вроде как правильный, а они, такие вот приземлённые – неправильные. И вдруг выясняется, что нет никакого Я и Они, нет правых и неправых, что все мы похожи и, какие бы ни были разные, а перед лицом Природы и Красоты все едины, и все замираем в почтении, просто иногда смущаемся этого и скрываем за маской грубости, деловитости… глупости! Все мы человеки. И вот от этого мне и стало так хорошо, прямо каким-то светом будто наполнился.
Впрочем, всё это секунду продолжалось, а я вон как расписался. Это зря. Сам я ужас как не люблю, когда авторы начинают обычные слова с заглавных букв писать: Жизнь, Счастье. А сам только что кричал: Природа, Красота! Просто, бывают такие моменты, когда слов недостаточно, и воздуха недостаточно, и кажется, тебя не поймут, если не кричать во весь голос. А на самом деле люди, которые нечто подобное переживали (а это почти все), всё прекрасно поймут не только без крика и высокопарности, но и вообще без слов. Так что, если вы всё поняли и так, считайте, что двух предыдущих абзацев просто нет. Хотите, вычеркните их.
Началась, собственно, рыбалка. Так я это понимаю. Сели люди, поставили удочки на рогатки, замерли и на воду глядят. Тут, видимо, тоже дело вовсе не в рыбе, а в этом вот молчании и сосредоточенности. Буддисты-монахи для этого даже удочки не используют. Просто сядут и сидят, молчат. И смотрят не в реку, а в себя. Тем более, что, согласно их учению, вся жизнь и есть река.
Но я, как видно, не дорос до буддизма. И даже до обычной рыбалки. Подсел тоже на бережок на раскладном стульчике, посидел. Нога затекла. Потом шея. Встал, потянулся. Опять посидел. И решил прогуляться. Камеру свою, мыльницу, прихватил.
Куда там мне советовали пройти, где заливчик с деревом? И я, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимание настоящих буддистов-рыбаков, поднялся к лагерю, пошурудил костер, взял зачем-то палку, которой двигал дрова, и пошёл прогуляться.
Поднялся чуть выше лагеря, там оказалось поле. То ли пшеницы, то ли ржи. А может, и овсяное. Стыдобище! До чего мы, городские жители, дошли! Рожь от овса отличить не можем. Да что злаки! Вот дерево стоит у самой воды, живописное. А я ведь и не знаю, ива это или ветла какая-нибудь. Так и говорим: «дерево». И вроде ведь ботаника была в школе. Да только я кроме корней стержневых и мочковатых ничего не помню. Ах, ну да, еще пестик и тычинки, конечно! И чего мы, спрашивается, изучали год или больше? Или взять ту же школьную астрономию. Помню, что мы учились какие-то параллаксы вычислять. Для чего? А названий созвездий не знаем. Ну, Медведицу да Кассиопею найду на небе. А как стороны света определить по звёздам или время? Вот бы чему на астрономии учить – тому, что в Средневековье каждый мальчишка знал. А то получается прогресс наизнанку. Человечество вроде бы знает всё больше и больше, а человек отдельный – все меньше.
– Вставай, рыболов! – заорал Костик. И я понял, что задремал. Дошел до красивого дерева (ветлы? ивы?), вернулся в лагерь, поразмышлял о бестолковости школьных предметов и незаметно уснул. А оказывается, уже окончательно рассвело. Солнце ногу мою левую основательно припекало. Рыбаки суетились вокруг костра, потрошили рюкзаки.
– Мы думали, ты тут за костром следишь! Хе-хе. Ну что, уху забарабаним?
На этот риторический вопрос я отвечать не стал и, чтобы искупить свою вину за погасший костер, отправился за дровами. Принёс ворох веток, потом сучки покрупнее и посчитал, что я снова – полноценный член коллектива. Спрашиваю Аркадия:
– А что, уже есть из чего уху варить?
– Уха такое дело, что её всегда есть из чего варить.
А Хуан рядом с костром какое-то сооружение воздвигает:
– Мы, дорогой, не только на уху наловили, мы сейчас еще и гриль забабахаем. Рыбный шашлычок, генацвале!
А Костик, проходя мимо меня, интимно так говорит:
– Везунчик ты, брат. Первый раз на рыбалке, и русалку-гриль попробуешь!
– Повезло, – кивает головой Евгений типа Петрович.
Я уже открыл рот, чтоб спросить, что ещё за русалка-гриль, но вовремя понял, что лучше промолчать. Знаю я эти штучки для неофитов. Приколы для новеньких. Помню, когда я на буровую впервые прилетел, меня тоже кто-то из помбуров послал за глюкоскопом. Я полдня ходил от одного к другому, от дизельной до кухни, спрашивал у всех глюкоскоп, и все меня на полном серьёзе посылали дальше: только что бригадир унес, спроси у кранового, может, на складе лежит. Только часа через три я начал подозревать, что меня разыгрывают. И, когда вся бригада собралась на обед, мастер-бурила говорит:
– Ну что, не заработали мы обед-то. Полдня насмарку ушло. Глюкоскоп так и не нашли!
Кто-то отвечает – да вон, мол, новенький должен был принести. Я, было, начал оправдываться, что и там искал, и тут спрашивал. Только все как заржут хором! Тут я и понял, что это своеобразное посвящение, ритуал. И обижаться нельзя ни в коем случае. Если сам над собой вместе со всеми посмеёшься, скорее станешь своим среди них. Да я и на самом деле не обиделся. Надо ж было догадаться! Глюкоскоп!
Вот и у рыбаков, думаю, тоже есть свой прикол, розыгрыш. Только тут русалка-гриль. Ладно, думаю, сделаю вид, что клюнул, пусть повеселятся.
– Русалку выловили, что ли? Здорово! А я в кустах тут Пегаса видел, он траву щипал.
Но мужики шутку не поддержали, не засмеялись. Переглянулись только странно, ухмыльнулись загадочно. Аркадий говорит:
– Ты не понял. Это не шутка. На самом деле русалку поймали. Нет, не тётку с хвостом и зелёными волосами. Это, конечно, рыба такая…
Хуан кричит от своего гриля-мангала:
– Не рыба! Это млекопитающее. Или земноводное. Типа тритона.
– Неважно! В общем, на русалку не очень похоже, но так уж все привыкли называть. А главное, она попадается ОЧЕНЬ редко! Это считается рыбацкой удачей. И не важно, кто именно поймал («Хотя это я!» – вставил Костик), всем удача будет. Я вот второй раз в жизни всего её вижу, а ты в кои-то веки собрался впервые на рыбалку и – на!
Я озирался, пытаясь понять, продолжается розыгрыш, или Аркадий говорит всерьёз. А Костик присел на корточках у ведра и зовет меня:
– Ладно, рыбак сухопутный, иди, глянь. Вот она, русалочка!
Я подошёл, почему-то на негнущихся ногах, и взглянул в ведро. Там плавала… плавало… даже не знаю. Русалка? Не знаю. Но точно не рыба. И уж не тритон!
Небольшая, в полторы ладони длиной, с хвостом, переливающимся перламутром, совершенно рыбьим. Но верхняя часть, «от пояса», была ни на что не похожа. Я даже подумал сначала, что мужики ради достоверности своей шутки специально для меня изготовили это существо. Взяли и склеили полрыбины и пол ещё чего-то. Чего только? Или кого? Да нет, существо было настоящее и совершенно живое. Оно полусонно двигалось, перебирало плавниками. Да вот в том и дело, что не плавниками! Больше всего это действительно походило на крошечные ручки. Розовато-прозрачные, с малюсенькими пальчиками и перепонками, как у лягушки. Павда, что ли, земноводное? Но стоило взглянуть на голову, как слова типа «земноводное» или «рептилия» застревали в горле. Головка была тоже розоватая, как и вся верхняя часть, без намека на чешую, и отделялась от тела тонкой шеей, что уж совсем не напоминало никакого животного. А напоминало… русалку и напоминало. Голова была покрыта даже волосиками или чем-то вроде – тонкими, белёсыми, реденькими, слегка вибрирующими в воде. И самое главное – глаза! Все видели глаза рыб – в них пустота и бессмыслица. И даже глаза животных, – белок, например. Бусинки, – милые, конечно, но ни тени сознания в них не увидишь. Ну, у собак – да, что-то такое там есть. Или у дельфинов. У тех так вообще в глазах виден ум настоящий, как бы даже не более развитый, чем у человека. Но у этой… русалки… глаза были уж точно не рыбьи. И не беличьи. И даже не собачьи. Потому что в них был виден не столько интеллект, как у тех же дельфинов, сколько боль. Да, боль и мольба! Я смотрел в ведро, где плавало странное создание, а оно иногда смотрело на меня, прямо мне в глаза (разве рыба смотрит вам в глаза?!), и будто умоляло о чем-то. О том, чтоб его выпустили, надо полагать.
– Ну что, хороша? Не видел такого раньше? Я сам пока не увидел, не верил. Думал, рыбацкие байки. Даа, в магазине такую не купишь, – Костик тоже сидел рядом с ведром на корточках и смотрел на русалку.
– Почему? – тупо спросил я.
– Что почему? Почему в магазине не купишь? Да ты что! Кто ж от своей удачи откажется! Это уж поверье такое… или традиция. Поймал русалку, надо тут же её и съесть, домой не везти.
– Точно, – подтвердил Евгений Петрович-Николаевич. – Даже жёны рыбаков об этом не знают. Ну, кроме тех, что сами на рыбалку вместе с мужиками ездят. А это, конечно, большая редкость.
Большой редкостью была и такая длинная реплика из уст молчаливого Евгения Батьковича. Видно, и на него произвёл впечатление этот странный улов. И вдруг до меня дошло, что сказал Костик.
– Съесть?! Её?!
– Ну да! А что, молиться на неё? Это традиция, брат. Домой везти нельзя! Я понимаю, похвастаться охота. Но нельзя. Удачи не будет. Даже фотографировать не вздумай!
– Да при чём тут домой? При чём тут удача? Вы что, её есть собрались?! Скажи, что это шутка.
– Слушай, братан, – Костик положил мне руку на плечо, но я сбросил руку и вскочил.
– Вы чего, мужики! Нельзя её есть!
Аркадий подошёл и говорит:
– Подожди, не кипятись. Что с тобой? Ну, успокойся. Это ж не русалка, в самом деле. Просто так называют. Это народное название. По-научному наверняка совсем иначе. Какой-нибудь действительно тритон. А тебя просто название впечатлило. Конечно. Я понимаю, как это звучит: давайте русалку зажарим!
– Мы ж не каннибалы какие! Это ж просто рыба такая. Ну, или не рыба…
– Вот именно, что не рыба! Ты ей в глаза посмотри!
Хуан подошел к ведру, наклонился, внимательно посмотрел, потом поднял глаза и так же внимательно, долго и серьёзно посмотрел на меня. И вдруг захохотал:
– Ай, маладэц! Купил! Ну, молодец! Сделал ты нас! Ха-ха!
– Ф-фу, так ты разыгрываешь нас? – облегченно выдохнул Костик. – А я уж заволновался, чего это ты такой впечатлительный!
Евгений с Аркадием тоже заулыбались. Правда, Аркадий – с некоторым сомнением. И тут произошло странное. Я тоже засмеялся. За секунду до этого не ожидал от себя, что засмеюсь. То ли вдруг я сам понял, что крики и охи мои несерьёзны – конечно, в ведре рыба или лягушка особая, а уж никак не русалка. И никакого разума или отчаяния в глазах её нет и быть не может. То ли почувствовал, что из-за этого инцидента может развалиться такое хрупкое и такое ценное для меня ощущение целостности: вот этой мужской компании, солидарности, взаимного подначивания. И это утро, этот прекрасный среднерусский пейзаж, этот воздух, полный чистоты и тишины, всё это я своим неосторожным криком могу поломать. И ради чего? Ради тритона, барахтающегося в ведре. Ведь тритона же! Аксолотля. Пусть странного, невиданного, но животного бессознательного.
– Ну ладно. А как её готовят-то? – спросил я и понял, что ответа слышать не хочу. По кому в горле понял. – О! Дрова кончаются!
Компания оживилась, все заметно перенервничали, и теперь, когда стало ясно, что это не они меня, а я их разыграл, стало сразу легче. Возник такой, слегка нарочитый гомон, суета. Под эту лавочку я и свинтил в лес.
Брожу, дрова собираю, вполне автоматически. И говорю себе: «Не думай, не думай». Иногда надо отключать мозги, а то от них неприятностей много. Вот я хожу и отключаю. Не очень выходит, как и всегда. Не думать-то гораздо труднее, ребята, чем думать. Не верите – попробуйте сами. Хотя, может, и не у всех так.
Вот опять же, по поводу названий деревьев и кустов. Если, как я, и как большинство горожан, названий этих не знаешь, то как же ты можешь описать пейзаж. Ведь тот же Пришвин не пишет: «стояло какое-то раскидистое хвойное дерево», а конкретно называет: сосна, или пихта, или ель. У каждой вещи, у каждой твари неслучайно своё имя есть. Как корабль назовёшь, так он и плавает. Неправильно вещь назовёшь – она неправильно работать будет. Вот задумали решить жилищную проблему, понастроили дешёвого блочного жилья. А народ эти пятиэтажки прозвал «хрущобами». Соответственная и жизнь пошла в этих хрущобах: унылая, тесная, сплюснутая такая. Или вот с этим тритоном. Наверняка, у этого существа есть научное название, вполне себе нейтральное. Прав Аркадий. Какой-нибудь саламандрус вульгарис. И всё. Никаких проблем. Поймал – ешь. Или чучело набивай. А прозвали рыбаки русалкой, чёрт их дери, и сразу – другое дело. Хочешь, не хочешь, а название действует на сознание. Уже страшно подумать: как же это, русалку – и на гриль?! А надо себе просто сказать, что никакая это не русалка, и ведь так оно и есть. Тритон, он и есть тритон. Ну, или кто там это…
Уха была наваристая, дома такую точно не сваришь. Всё-таки пища, приготовленная на свежем воздухе, на живом огне – совсем другая пища. Первобытная. Первостатейная, первоклассная! Ух, вкуснятина! Наелись, отвалились. «Теперь, – говорит Хуан, – десерт». Каждому по кусочечку. Русалка-гриль. Я говорю:
– Брось, никакая это не русалка, обычный тритон. Или пусть даже и не совсем обычный, редкий. А все равно тритон.
Запечённая зверушка получилась совсем крошечная, на один зубок. Хуан быстро разделил её на части, мне, как новичку, достался кусок туловища, с одной закопченной лапкой. Лапку я сразу оторвал, чтоб не вызывала ненужных ассоциаций (пальчики такие крохотные, почерневшие, но все равно почти прозрачные…), а тельце, посмотрев на товарищей, по их примеру не стал освобождать от костей, а кинул целиком в рот. Вкус, действительно, оказался ни на что не похожим. Не рыба и не мясо, но в хорошем смысле. Отдалённо напоминает кролика, но что-то и от краба есть. В общем, неуловимый, но очень приятный вкус.
А руку, то есть лапку оторванную, я решил не выбрасывать, а завернул в газету, чтоб привезти домой и оболтусам своим показать. Правда, мужикам об этом не сказал. А то начнутся рыбацкие дела: мол, посторонним говорить нельзя, а то удачу сглазишь! А я на рыбалку первый раз поехал, может, и последний. Так что мне удача рыбацкая без надобности. Надо же сыновей удивить, показать что-то необычное. Вот папка на рыбалку ездил, невидаль привез…
После еды рыбалка пошла ленивая, удочки закинули, сами попадали у бережка в полудрёме. Я вокруг костра прибрал всё, котелок сполоснул, Костика толкнул: это у тебя клюёт или что? Костик встрепенулся: да я вижу, вижу. И вытянул неплохого подлещика. Для меня-то это просто рыбина была, а Костик сказал: неплохой подлещик! Вот и имя появилось у рыбёшки, вот и стал он из анонима подлещиком, да еще неплохим. Такая вот история с этими названиями…
К вечеру стали собираться, сворачиваться, все хором жалели-переживали, что остаться с ночёвкой не получается. Кому-то куда-то завтра с утра надо по делам, кто-то жене обещал, ну не получается! Улов по мешкам и вёдрам разложили, на мой непросвещённый взгляд – неплохой улов. И поехали. Мы с Костиком сразу со всеми распрощались, потому что Евгений Палыч (во как! оказался Павлович!) будет гнать свой «Ниссан» на полной. Но выехали мы первые, до нормальной дороги всё равно ползли кое-как, а как только на грунтовку выбрались, «Ниссан» тут же нас обогнал. Аркадий и Хуан ещё прокричали в окошко: «Привет своим! Пока!»
И поехали.
То ли дорога так петляла, то ли речка, но мы пересекали её раза три, не меньше. Как переезжаем через мост, так вижу указатель «р. Ум». И когда впереди показался очередной мост, я быстро достал из рюкзака руку, в смысле, лапку, завёрнутую в газету, и едва машина оказалась на мосту, выбросил сверток за окно. Газета на лету распахнулась и спланировала в траву ближе к берегу. А лапка, в смысле, рука русалки, похоже, упала прямо в воду. Домой.
Зеркалоиды
Мы – это кто?
Первым идет Жан-Ги. Потому что он командир. Капитан. Начальник. Руководитель. Глава. Первый пилот. И потому что он здоровяк, даже сейчас – с рукой на перевязи. Наш командир идет первым, и мы рассчитываем на него. Но надеемся больше не на пистолет в его левой руке (я сам учил его стрелять левой и честно скажу, он не достиг больших успехов), а на его кулаки, пусть даже один левый кулак, – ведь что касается кулаков Эркюля, тут без разницы – правый или левый, один или два. Мы называем нашего командира Эркюль. Геркулес. Геракл. Потому что он силач, и не превзойдён в рукопашной драке. Так что, верни пистолет в кобуру, Эркюль.
Следом идет Софи. Наш ум. Логика. Рассудок. Интеллект. Мадемуазель Убедительность. Язычок Софи иногда эффективнее кулаков командира, если речь идет о посторонних. А если речь о нас, то – всегда. Мудрая София.
Парнас. Это тоже прозвище. Потому что кто же в здравом уме будет выговаривать «Бе-не-дек-ти-ан»? Парнас он и есть Парнас. Взбалмошный поэт, романтик, красавец и фанфарон. А его усы! Это что-то! Кто не знает парнасовских усов? Парнас второй пилот и штурман.
А я, как и Софи, стрелок. Я иду последним. Я и лечу всегда в хвосте, там моё место. Мне нравится быть в хвосте, я не слышу в слове «последний» негативного оттенка. Если угодно, я замыкающий. Сейчас, когда мы идём друг за другом, в нашем «Альбатросе» я – прикрывающий. Атака атакой, но пока ты атакуешь кого-то, кто-то другой атакует тебя, и вот тут появляюсь я: «Атакуете, сударь? Извольте. Но тогда уж без обид – вы пытаетесь попасть в нас, мы – в вас». Только чаще мы не пытаемся, мы просто попадаем. Иначе мы сейчас не шли бы гуськом все четверо, живые и здоровые… ну да, рука капитана. Но это не в счет. Его ранили на земле. Мы совершили вынужденную посадку и…
Как странно. Я заметил, что всё ещё говорю и думаю о Войне в настоящем времени: стреляем, попадаем. Стреляли! Попадали! Война закончилась!! Всё. Хватит. Конец. Финиш. Война кончилась. Потому мы и здесь.
Парнас сотни раз рассказывал нам об этом месте, а однажды мы даже пролетали неподалёку. Но о том, чтоб сесть, не было и речи – мы были на задании. И вот теперь мы здесь. Тут. Вот они мы. Идём: Эркюль, Софи, Парнас и ваш покорный слуга.
Сверху остров выглядит как обломок скалы, он и есть обломок скалы. Камень, камень и больше ничего. Ни деревца, ни кустика. Ни одной песчаной бухты. Причалить к острову можно, но очень трудно, и далеко не каждый день. Конструкция из бетона и цепей, которая служит причалом, выглядит очень ненадёжной. Да и затоплена большую часть дня и большую часть года. Камень, камень и больше ничего. И Лабиринт.
Даже предполагая, что сумасшедший миллионер, который построил на Острове Лабиринт, был и в самом деле сумасшедшим, всё же непонятно, как это пришло в его сумасшедшую голову. Это действительно чистое безумие. Абсурд. Чепуха. Идиотизм. Посадочная полоса здесь такая короткая, что, не проделывай мы сотню раз трюк с резким поворотом влево, ни за что бы нам не сесть на Остров. На Скалу.
Парнас прожужжал нам все уши об этом «непризнанном чуде света». Он мечтал попасть сюда с самого детства. И, наверное, попал бы. У его семьи денежки водились, и он вполне мог бы себе позволить такое путешествие. Если б не Война.
Теперь Парнас один-одинёшенек. Он сделал предложение Софи, она отказала. Теперь Парнас делает вид, что это был с его стороны просто донжуанский каприз, и отказ Софи, конечно, для него ничего не значит. Но он даже не знает, куда ему податься. Где жить, не говоря уже о том – с кем.
У меня все проще. Ферма, папа, мама, шестеро братьев и две сестрёнки. Я приглашал Парнаса к нам, но он не поедет, и мы оба это знаем. Парнас – парижанин. По крайней мере, был парижанином. Хотя говорят, что бывших парижан не бывает.
Мы удаляемся от нашего «Альбатроса» по узкой тропе, то ли пробитой, то ли протоптанной в скале. Первым идет Эркюль. Он пилот. И останется пилотом. Хотя не совсем понятно – чем заниматься пилоту, когда нет войны. Развозить почту? Показывать трюки в воздушном цирке? Эркюль даже спрашивал меня, что я думаю по поводу распыления удобрений с воздуха? По-моему, это полная чепуха. Ерунда. Бред. Сумасшествие. Идиотизм.
Мы приближаемся к Лабиринту и, приблизившись, понимаем, какая это громадина. Неотличимый от скалы, а может, из самой скалы и вырубленный, он поистине велик. Из дверей выходит старик. Он идет к нам, прихрамывая и не очень спеша. Проходит несколько метров и останавливается, приложив ладонь козырьком ко лбу. Мы идем со стороны солнца. Для атаки самое то. Только мы здесь не для атаки. Война кончилась, чёрт её дери. Мы здесь, чтоб развлечься.
Хотя, убей меня, не могу понять – в чём заключается развлечение? Бродить по узким коридорам без окон, то и дело попадая в безвыходные тупики, поворачивать обратно, снова бродить, снова попадать в тупики, и так пока не набредёшь – случайно, скорее всего – на выход. Где веселье? Но, когда я говорил это, Софи хохотала, Парнас плакал от смеха, а Эркюль смотрел на меня, как на дитя.
Я понимаю, для Парнаса это приключение. Авантюра. Для него и война была авантюрой. Хотя, воевал он от этого ничуть не хуже. А может, и лучше, уж мне поверьте. Или поглядите на его награды. Хотя Парнас их практически не надевает.
Для Софи лабиринт – загадка, которую можно, а значит – нужно разгадать. Головоломка. Задача. Для неё это вызов. Само слово «лабиринт» уже завораживает её. Впервые услышав от Парнаса об этом месте, она прочитала нам целую лекцию о лабиринтах: какие они бывают, как их нужно проходить, о Минотавре и Дедале, о древних египтянах и майя. Кажется, она знает о лабиринтах всё. Кажется, она вообще обо всём всё знает. Только не о себе. Она понятия не имеет, чего она хочет, что любит, какой цвет предпочитает, какие цветы ей больше нравятся. Она знает всё о музыке, композиторах, исполнителях, но не может сказать, какая её любимая песня. Ну, или опера.
Мы приближаемся к старику, здороваемся, он представляется смотрителем Лабиринта. Некоторое время мы молча стоим. Он не приглашает нас внутрь, что странновато для смотрителя. Мы спрашиваем, можем ли войти. Он кажется удивлённым, но приглашает нас за собой. Мы входим.
Здесь серая и довольно большая комната с несколькими диванами и журнальными столиками справа от двери. Слева отгорожена конторка или касса. Старик сразу исчезает за этой перегородкой. Мы недоумеваем. Вскоре в кассе открывается окошечко, и смотритель уже другим голосом – не тихим и растерянным, а служебным, официальным, деловитым – спрашивает, чего мы желаем. Парнас язвительно отвечает, что мы хотели бы шампанского. Смотритель молчит пару секунд, а затем совершенно серьёзно отвечает, что шампанского, увы, нет. Но есть чай. Мы отказываемся от чая и спрашиваем, можем ли осмотреть Лабиринт. Старик выглядит совершенно обескураженным. Он говорит, что не понимает, что значит: осмотреть. Ведь это не музей и не выставка. Это лабиринт. Головоломка. По нему нужно бродить, плутая, и найти в конце концов выход. Мы подтверждаем, что именно это и имели в виду, когда говорили «осмотреть».
Старик долго бурчит себе под нос, и в этом бурчании можно расслышать слова «музей», «рассмотреть». Мы терпеливо ждем. Наконец, командир спрашивает: «Так сколько же стоят билеты?»
Старик снова крайне удивлён. Билеты? Кажется, он не понимает значения этого слова. Ну да, билеты. Ведь это же что-то вроде аттракциона, так? Как комната страха или, наоборот, карусель. Покупай билет и входи. Так? Странно, но смотритель соглашается. «Впрочем, билетов нет, – говорит он. Входите так. Разве что…» Он смущён. Если у нас есть самая малость кофе, он бы был очень благодарен, если б мы были так любезны…
Софи поворачивается спиной к Парнасу, тот развязывает шнуровку её рюкзака и достаёт оттуда жестянку кофе. Старик видит жестянку, и слёзы наворачиваются на его глаза. Он берёт банку трясущимися руками и бесконечно нас благодарит. Парнас затягивает рюкзак Софи и пристально смотрит ей в затылок. Мы идем через комнату к двери в противоположной стене, предполагая, что там и есть вход в Лабиринт. Так и есть. На серой стене еле видна серая надпись. Перед дверью мы оборачиваемся к старику, думая, что он даст нам какие-то инструкции или напутствия, но смотритель поглощён содержимым жестянки. Он вдыхает кофе, прикрыв веки, и на лице его написано блаженство.
Мы входим в Лабиринт.
Именно так я себе и представлял это развлечение. Мы бредём по серым коридорам, в неясном свете редких и тусклых ламп. На первом же перекрёстке Софи объясняет нам правило «правой руки». Чтоб найти выход даже из самого сложного лабиринта, нужно придерживаться простого правила – на всех развилках всегда поворачивать направо. Точнее, выбирать самый правый проход. Так, если коридор раздваивается и ведёт влево и прямо, нужно идти прямо. Это правило настолько просто, что мне слабо верится в его эффективность. Но спорить с Софи? Помилуйте! Мы поворачиваем направо. Ещё раз. Потом ещё.
Мы идём по Лабиринту уже пару часов, и ничего не меняется. Те же серые стены, те же тусклые лампы. Меня начинает раздражать это «веселье». Внезапно мы попадаем в комнату. Или холл. Зал. Не меньше ста квадратных метров. В этой комнате по две двери на каждой стене, включая ту, через которую мы только что вошли. Точнее, это не двери, а просто проемы. Я так понимаю, что надо идти в ближайший проём справа. Но командир сбрасывает свой заплечный мешок и объявляет привал. И то верно, ведь мы сегодня не ели.
Мы располагаемся на голом полу, вынимаем продукты, Парнас разжигает свой примус. За едой я интересуюсь у Парнаса, доволен ли он. Я надеюсь услышать разочарование в его голосе, но Парнас искренне рад. Вдохновлён. Восторжен. Я вижу, что и Софи нравится здесь. Я смотрю на Эркюля – ему тоже весело? Но по лицу командира трудно понять. Он спрашивает Софи, мол, как она предполагает, сколько нам ещё идти. Но Софи отвечает, что данных слишком мало: она не знает ни протяженности Лабиринта, ни его формы, так что не может предположить. Будем идти, и рано или поздно выйдем. Правило правой руки никогда ещё не подводило.
От еды нас немного разморило, и я предлагаю чуток вздремнуть. Странно, но все соглашаются. Видно, устал не один я. Мы укладываемся кто где. Внезапно я просыпаюсь от того, что кто-то пристально на меня глядит. Я открываю глаза и вскрикиваю от неожиданности. Человек тоже вскрикивает, каким-то жалобным всхлипом, и пулей отлетает от меня к стене. Все моментально просыпаются и садятся, Парнас вскакивает на ноги. В его руке и в руке командира – пистолеты. Мы смотрим на человека. Он смотрит на нас. Губы его трясутся, и повторяют одно и то же, какое-то слово. Что-то вроде «зеркалоиды». Глаза его бегают. Внезапно человечек резко взвывает и стремительно исчезает в одном из проходов. Пока мы переглядываемся, Парнас уже исчезает в том же проёме. Через два десятка секунд мы, полностью собранные, устремляемся следом.
Коридоры здесь совсем другие – шире и выше. Мы можем идти не гуськом, а рядом, плечом к плечу. Светильников гораздо больше, и стены не скучно-серые, а темно-коричневые, слегка золотистого оттенка. Пол покрыт чем-то мягким, так что мы не слышим даже своих шагов, не говоря уже о шагах Парнаса. На первой же развилке непонятно, куда поворачивать. Правило правой руки тут не действует, потому что мы не знаем, куда повернули беглец и Парнас. Мы останавливаемся и смотрим на командира. Жан-Ги, наш могучий Эркюль, мы всегда смотрим на тебя, когда не знаем, как поступить, и ты всегда говоришь нам, что делать. Эркюль думает лишь мгновение. Он приказывает разделиться и бежать до следующей развилки каждому в своём проходе. От развилки, непрерывно выкрикивая Парнаса, бежать, следуя правилу правой руки, но только три перекрёстка, не дальше. Если ответа не будет – возвращаться и ждать остальных. Если Парнас ответит – действовать по обстановке.
Мы разбегаемся в разные коридоры. Я вспоминаю о том, что рассказывала Софи, о нити Ариадны, которая помогла одному греческому герою найти выход из лабиринта. Я думаю, что, не будь у нас спешки, мы могли бы сделать нити из чего-нибудь и бежать, не боясь заблудиться. Думая об этом, я не забываю выкрикивать имя Парнаса, и какое-то время слышу голос Софи. Поворачиваю в правый проход, еще раз поворачиваю, добегаю до третьего перекрёстка, стоп. Кричу. Слушаю. Ничего. Кричу. Слушаю. Кричу. Ничего.
Я решаю подождать пару минут, периодически выкрикивая Парнаса. Но ответа нет. Я возвращаюсь, как приказал командир. Теперь на развилках я должен держаться левой руки, чтоб вернуться в исходную точку – в комнату. В комнате я вижу Софи с пистолетом, направленным в сторону моей двери. Узнав меня, Софи опускает пистолет, но сразу же вновь поднимает его, услышав шаги в другом коридоре. Оттуда выходит Парнас, шутливо поднимает руки, будто сдаётся. Следом за ним идет Эркюль. Мы снова в сборе.
Парнас жалеет, что не догнал незнакомца. Тот бежал очень быстро, не разбирая дороги, а Парнас помнил, что находится в лабиринте, и боялся, увлёкшись погоней, просто-напросто заблудиться. В какой-то момент он решил остановиться и пойти обратно. А что было делать?
Командир спрашивает: «Какое слово произносил незнакомец?» Что-то вроде «зеркалоиды»? Что это? Или кто? Мы все смотрим на Софи. Но она пожимает плечами. Не знает. Первый раз слышит. Возможно, такого слова вообще не существует. Человек уж очень походил на сумасшедшего. «Может, это создатель лабиринта, – предполагаю я. – Ведь он тоже был сумасшедшим, по слухам». «Да, но он умер еще в прошлом веке», – отвечает Софи. Парнас полушутя высказывает опасение, что у этого лабиринта нет никакого выхода, и мы будем бродить по нему, пока тоже не сойдём с ума. На что Софи совершенно серьёзно отвечает, что даже если выхода и нет, есть вход. Что, в принципе, одно и то же. Мы всегда можем вернуться в исходную точку, в комнату смотрителя. Я облегчённо вздыхаю, и все смеются. Кажется, что инцидент с незнакомцем забыт. Мы готовы идти дальше. Итак, нам нужен коридор справа от того, в который мы вошли.
Теперь Парнас идёт первым с пистолетом наготове. Я, как всегда, замыкаю, то и дело оборачиваясь и проверяя наши тылы. Здесь тоже широкие коридоры, но стены окрашены не в коричнево-золотистый цвет, а в тёмно-зелёный. Боковые ответвления оформлены как картины – по периметру каждого проема тянется тёмный багет, с завитками и волнами. Мы продолжаем поворачивать строго направо. На одном из перекрёстков Парнас делает шаг вправо и… врезается в зеркало. Мы не сразу понимаем, что случилось. Зеркало большое – ровно такого же размера и формы, как и проёмы, и оформлено в такую же волнистую тёмную раму с завитками. Немудрено спутать. Я иронически спрашиваю Софи, распространяется ли правило правой руки на зеркала? Мы идём дальше. Но Софи всё же на одно мгновение задерживается у зеркала, чтоб поправить причёску и одернуть форму. Женщина есть женщина. Впрочем, я тоже, проходя мимо зеркала, мельком глянул на свое отражение.
На меня посмотрел довольно хмурый тип недоб рым взглядом. Мой Бог, неужели я так вот выгляжу со стороны?! Война кончилась. Расслабься, друг! Не хмурь брови, не сжимай так челюсти. Некоторое время я шёл, стараясь следить за выражением своего лица, чтобы не выглядеть таким букой. Но пистолет в моей руке напоминал о том, что война, может, и кончилась, но время расслабленных и умиротворённых лиц пока ещё не пришло окончательно.
При искусственном освещении я быстро потерял ощущение времени и, взглянув на часы, был крайне удивлён, что мы находимся в лабиринте уже больше семи часов! Получается, снаружи наступил вечер. Судя по всему, сегодня мы уже не выйдем отсюда. Лабиринт оказался действительно огромным. Парнас, довольный, подтвердил, что так и есть, ведь он же обещал настоящее чудо света! Какое ж это было бы чудо, если б его можно было пройти за полдня!
Коридор поворачивал под прямым углом, в этом месте и решено было устроить привал. За ужином мы говорили о чём угодно, но не о безумном незнакомце и его таинственных «зеркалоидах». Спать.
Ночью меня разбудил мой мочевой пузырь. Я тихонько встал. Парнас приподнял голову, но я приложил палец к губам и на цыпочках пошёл по коридору. Завтра мы повернём вот сюда, вправо. Значит, я зайду в левый проём – вон он виднеется. Если это не зеркало, конечно. Но это был проём. Я зашёл за угол и расстегнул брюки. Внезапно рядом со мной появился Парнас. Уверен ли я, что это прилично, спросил он меня и присоединился. Мы пожурчали, стоя рядом. Затем пошли обратно. По пути Парнас остановился и, потянувшись правой рукой к пистолету, левой показал мне направление. Я увидел на дальней стене зеркало в раме, такое же, как мы видели раньше, точь в точь дверной проём. В зеркале, которое было расположено к нам под углом, отражалась другая часть коридора, скрытая от нас поворотом. И там, в отражении, заметно было что-то вроде лежащего тела. Возможно, это спит наш безумный беглец. Я показал Парнасу глазами на командира и Софи, но он отрицательно мотнул головой, и мы медленно пошли к зеркалу. Отражение сдвигалось вместе с нами, и мы перестали видеть тело. Шли совершенно бесшумно. За углом, где предположительно лежал человек, тоже была тишина. Парнас сделал большой шаг и оказался у противоположной стены. Я выглянул за угол. Действительно, на полу лежал человек, завёрнутый в чёрное пальто. Наш беглец был в каком-то тряпье, так что, возможно, это был не тот незнакомец. Почему смотритель не предупредил нас, что в Лабиринте есть другие люди?
Парнас присел на корточки и тихонько свистнул. Человек под пальто встрепенулся и попытался вскочить на ноги. Но Парнас сделал успокаивающий жест и показал на пистолет. Человек – это был другой человек, не тот сумасшедший – пристально смотрел на пистолет. Потом он заметил меня. Переводя взгляд с пистолета на пистолет он, казалось, облегченно вздохнул. Парнас поздоровался с ним. Человек ответил. По крайней мере, он был француз. И, похоже, совершенно безвредный: профессорская бабочка в горошек, старый сюртук, профессорские же очки, седоватые кудри. «Профессор» осведомился, кто мы. Мы представились. Он переспросил, уверены ли мы, что мы – это мы? Мы непонимающе переглянулись. Тут из-за угла появился командир. Софи вместо меня прикрывала тылы.
Мы быстро доложили обстановку, и к расспросам приступил уже Эркюль. Он поинтересовался у незнакомца, что он тут делает и как сюда попал. Тот действительно оказался учёным, – так он себя отрекомендовал. А в Лабиринт его привело именно научное любопытство. Оказывается, наш профессор тоже много лет мечтал попасть сюда и, едва дождавшись конца войны, немедленно отправился посмотреть чудо света. Я коротко взглянул на Парнаса, который так же называл Лабиринт. Только мне он всё меньше казался чудом. Ну, а развлечением я его и раньше не считал, если помните.
Что-то тревожило профессора и, проследив за его взглядом, я понял, что его беспокоит пистолет Жана-Ги. Не мой, не Парнаса, а именно командирский. И беспокоит сильно. Он, прервав свой рассказ, вдруг обратился к Эркюлю и спросил, где его ранило в левую руку. Командир поправил профессора, что ранена его правая рука, а не левая. Это, кажется, успокоило профессора. Он вздохнул свободнее и, обращаясь уже ко всем нам, поинтересовался, известно ли нам что-нибудь о зеркалоидах?
Опять эти зеркалоиды! В ответ на наши недоумённые возгласы Шарль, – так его звали, – спросил, заметили ли мы в коридорах зеркала? Конечно, заметили. «Так вот, – продолжал профессор, – в этом лабиринте творится что-то странное. Там, где вчера ещё было зеркало, сегодня может возникнуть проход». Тем более, что на первый взгляд их можно и спутать – выглядят они похоже. Мы недоверчиво переглянулись, но профессор уверял нас, что это чистая правда. И, к тому же, не вся ещё правда. Другой, гораздо более таинственной особенностью этих зеркал было то, что сквозь них можно было пройти, даже когда они ещё не превратились в проходы. Об этом Шарлю поведал человек, которого он встретил тут, в Лабиринте. Человек выглядел напуганным и, по его словам, находился здесь уже вторую неделю. Он был голоден, пил собственную мочу и находился на грани сумасшествия. Но его рассказу о странных зеркалах профессор, тем не менее, склонен был поверить.
Впрочем, странности на этом не кончались. Полубезумный знакомый уверял Шарля, что человек, прошедший сквозь зеркало, попадает на ту сторону, в мир отражения, в зазеркалье. А сюда, в наш мир, из зеркала выходит его двойник. Зеркалоид.
Он ничем не отличается от своего прототипа, но является его зеркальной копией. Если человек был правшой, то Зеркалоид будет левша. Сердце у него справа, а печень слева. И никому не ведомо, что у него на уме.
Ясно, что это – бред сумасшедшего. Но Шарль уверял нас, что он сам лично мог убедиться в некоторой правоте безумца. По крайней мере, в той части, что зеркало может стать проходом, он убедился сам. Может, стоит прислушаться и к остальным его рассказам?