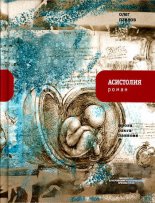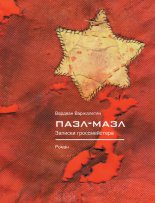Русалка гриль Плешаков Владимир

Мы оставили профессору его право верить, во что угодно, и предложили идти вместе с нами. Он с облегчением согласился. Видно было, что этот человек очень напуган. И кто знает, походит он тут один, наедине со своими странными идеями насчет зеркалоидов ещё денек-другой – и свихнётся, как и его приятель. Кстати, где он?
Убежал накануне, заподозрив в профессоре зеркалоида. Профессор и сам отнёсся к нам настороженно, пока не убедился, что пистолеты мы держим в правых руках. Потому так и беспокоил его Эркюль, что оружие у него было в левой. И, только убедившись, что командир помнит, в какую руку ранен, профессор успокоился.
Сна уже не было и в помине. И, поскольку свет в Лабиринте горел всегда с одинаковой яркостью, мы решили продолжить путь, несмотря на ночное время.
Профессор, конечно, знал о правиле поворота направо. Но, по его словам, здесь оно бесполезно, поскольку зеркала имеют свойство становиться проходами и, возможно, наоборот. Не говоря об этом Шарлю напрямую, мы все относились к его рассказам более чем скептически. И продолжали придерживаться правила.
Софи поинтересовалась, знает ли Шарль какие-нибудь параметры Лабиринта? Площадь, суммарную длину коридоров? Профессор ответил, что искал подобные сведения везде, где мог, но ничего не нашёл. Создатель Лабиринта держал свой замысел в полном секрете. Похоже, что даже не существует сколь-нибудь правдоподобной схемы коридоров. Полная неизвестность.
Меня, честно говоря, это не очень вдохновило. Как-то всё уж очень странно, всё с неким налётом безумия. Что создатель Лабиринта, что его смотритель, что сам профессор – производили впечатление не совсем нормальных. Не говоря уже о сбежавшем бедняге. Получается, что мы ходим в некоем доме для умалишённых, где из-за каждого угла может появиться безумец с острыми ножницами.
От этих мыслей мне было немного не по себе, и я понял, что вымотан. Не столько физически, столько нервно. Поэтому, рискуя навлечь насмешки, я, тем не менее, предложил командиру сделать-таки привал и как следует выспаться. Удивительно, но никто не поднял меня на смех. Казалось, все только и ждали, кто первый это предложит.
Мы снова нашли просторный угол, где все могли бы расположиться так, чтоб иметь большой обзор, боясь не столько мифических «зеркалоидов», сколько бродящего по лабиринту сумасшедшего.
Я уснул сразу, будто провалился. Разбудила меня Софи. Невольно. Она тихонько переступала через меня. Я встретился с ней взглядом и вопросительно показал свой пистолет, предложив сопроводить её. Но она помотала головой и бесшумно пошла по коридору. Я всё-таки сквозь полуопущенные веки наблюдал за ней. Софи шла на цыпочках и собиралась повернуть в левый коридор, как я сам на предыдущей ночёвке. Но внезапно она уперлась руками в зеркало, спутав его с проходом. Она посмотрела на меня и скептически развела руками. Как она догадалась, что я наблюдаю?! Софи пошла дальше и свернула в следующий левый проход. Я старался не слышать её журчание.
Через минуту Софи вернулась и, переступая через меня, шепнула, что все в порядке и чтобы я спал. И я уже почти уснул, но тут встал командир. Он пошёл в ту же сторону, куда ходила Софи. Так же наткнулся на зеркало и направился дальше. Потом я уснул.
Пробуждение опять было тревожным и вынужденным. Шум и возня. Все были на ногах и все вооружены. Софи и Парнас стояли с оружием, направленным на профессора, а тот прижался к стене и тоже держал пистолет, двумя руками. Ствол смотрел на командира. Эркюль сидел на полу и глядел на профессора с лёгкой усмешкой. Пистолет, видимо, был его, потому что мой оказался на месте. Я спросил, что происходит. Парнас ответил, что пришла очередь профессора сойти с ума. Парнас не смеялся. Парнас был серьёзен. Софи выглядела так, будто ещё не вполне проснулась. Наверное, так же выглядел и я.
Тем не менее, Софи обратилась к профессору и попросила его успокоиться. Она говорила совершенно ровным голосом. В отличие от Шарля. Он, обливаясь потом, с трудом удерживал пистолет Эркюля, и предохранитель, как я заметил, был снят, и это мне не понравилось. Все что-то говорили одновременно. Но профессор внезапно возвысил голос. Он почти закричал. Что мы не понимаем. Что мы слепцы. Что наш скептицизм мешает нам увидеть очевидное. Что наш командир – зеркалоид.
Тут окончательно стало ясно, что профессор тронулся умом, по примеру своего знакомого. Я всё ещё был на полу, полулёжа. Стремительным движением я, опершись на одну руку, бросил всё тело вверх и ногой выбил пистолет из рук Шарля. Оружие отлетело к ногам командира, но он даже не сделал движения, чтоб его поднять. Я не успел подумать, странно это или нет, потому что должен был извернуться и вскочить на ноги, чтобы схватить профессора. Но сумасшедшие бывают, говорят, весьма проворны. Ловки. Быстры. Непредсказуемы. Шарль неожиданно присел и снизу двинул меня кулаком в челюсть. Я рухнул в объятия Парнаса, Софи замешкалась, и профессор рванул вдоль по коридору. Он молниеносно пробежал до первого поворота и исчез за углом.
Я был уверен, что мы бросимся в погоню. Но командир остановил нас, сказав, что профессор, по сути, не опасен. Парнас и я были не согласны, но привычка слушать командира остановила нас. Несмотря на то, что война кончилась. Кончилась, чёрт её дери.
Всё это время Софи стояла неподвижно, глядя вслед убежавшему Шарлю. Потом она медленно пошла по коридору. Я сначала подумал, что она решила нарушить приказ командира (ведь война кончилась!), но она шла слишком медленно для погони.
Софи была уже у зеркала, которое ночью приняла за проход. Вот и Эркюль вслед за ней тоже толкнулся в стекло. Не мудрено спутать, зеркала здесь так похожи на дверные проёмы… Стоп! Но ведь профессор сбежал именно сюда! Он свернул в первый же левый проход, который ещё недавно был зеркалом… выходит, Шарль и его сумасшедший друг говорили правду: зеркала становятся проходами.
Или оно осталось по-прежнему зеркалом, и Шарль прошёл сквозь него, как фокусник в шапито? Но тогда опять же они были правы, и я даже не знаю, что мне легче принять: зеркала, превращающиеся в двери, или зеркала, пропускающие людей в зазеркалье. Пожалуй, всё-таки первый вариант. Ведь тут можно предположить какую-нибудь техническую уловку. Скажем, полотно зеркала в какой-то момент задвигается в стену, и на его месте возникает новый проход – с той же рамой. Ничего сложного. Никакой мистики.
Я догадался, что Софи идёт к зеркалу (или проходу?) с намерением получить ответы на те же вопросы, и двинулся к ней. Потом побежал. К зеркалу мы приблизились одновременно. Я до последнего надеялся, что увижу проход, куда и свернул Шарль. Но мы стояли у зеркала, у чёрто-вого зеркала, и пялились в собственные отражения. Надо сказать, вид у отражений был тот еще идиотский. Мы переглянулись с Софи и, не договариваясь, коснулись зеркала пальцами. Обычное стекло. Ровное, слегка прохладное. Пройти сквозь него невозможно, как и сквозь любое другое зеркало. Или сквозь стену. Невозможно.
Но Шарль прошёл. Это невероятно. Безумие. Идиотизм. Бред. Чепуха. Мы в доме умалишённых и, следом за другими гостями, постепенно сходим с ума. Эта мысль, видимо, была написана на моём лице. Софи улыбнулась и подмигнула. Она сказала, что мы обязательно разберёмся во всем. И куда делся профессор, и что тут вообще происходит.
Парнас закричал, что его не волнует, что тут происходит, и что он не намерен разбираться с безумными профессорами. Он, Парнас, считает, что нам всем надо срочно сваливать отсюда. Ему, Парнасу, не нравится это место, это долбанное чудо света.
Я хотел было напомнить Парнасу, кто именно втянул нас в эту историю, но раздумал. Потому что посмотрел на командира. Жан-Ги стоял с очень решительным видом, держа пистолет в ПРАВОЙ руке. А левая болталась на перевязи. Это было непонятно. Нереально. Невозможно.
Эркюль медленно и с расстановкой сказал, что совершенно согласен с Парнасом. Что нам действительно надо сваливать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Нам. Но не ему. Он остаётся. И на то у него, Эркюля, или Жана-Ги, или кем он там был теперь, со своей левой раненой рукой, есть основания. Которые нас совершенно не касаются.
Поэтому сейчас он медленно и спокойно возьмёт свой заплечный мешок, медленно и спокойно пройдёт мимо нас, и никто его не тронет, не остановит и ни о чём не спросит. Он говорил всё это своим командирским голосом, с которым не принято было спорить, которому не принято было возражать. Поэтому мы молча смотрели, как наш командир, или уже не наш командир, собирает вещи в мешок, накидывает его на плечо и приближается к нам. Проходит мимо Парнаса (тот стоит с пистолетом, но оружие смотрит в землю, а сам Парнас смотрит на Эркюля широкими глазами, никогда я не видел у Парнаса таких широких глаз), проходит мимо Софи (и Софи не смотрит на командира, а смотрит на Парнаса и смотрит на его оружие), проходит мимо меня (и я не знаю, куда именно я смотрю, и мне даже кажется, что у меня на глазах слёзы, оттого я и не знаю, куда смотреть, потому что – кто ж последний раз видел на моих глазах слёзы), проходит мимо зеркала, проходит мимо поворота налево, где была ночью Софи, и идет дальше по коридору. Я оборачиваюсь к Парнасу, потому что он сделал резкое движение. Он поднял своё оружие и направил его вслед уходящему командиру. Но командира уже нет. Его нет. Он ушёл. Исчез.
Несколько часов мы блуждаем по Лабиринту.
Сначала мы шли за Парнасом, еле поспевая. Он почти бежал. И в какой-то момент повернул не по правилу – в левый коридор. Мы закричали ему об этом, но Парнас только рявкнул в ответ, что плевал на все правила и на все правые руки. Ничего не оставалось делать, как идти за ним. Он не останавливался и не сбавлял шага. Он сжимал в руке пистолет, и затылок его был покрыт капельками пота.
Наконец, Парнас утомился, он тяжело дышал, замедлял ход и вдруг рухнул на пол, сотрясаясь в рыданиях. Софи сделала мне знак, и я отошел за угол. Я посмотрел влево и вправо, прогулялся по коридору до первого поворота в одну сторону, затем в другую.
Появилась Софи. Она сказала, что нам надо отдохнуть. Я не стал ложиться, а сел, подперев спиной стену, так, чтобы видеть и Парнаса и Софи. Пистолет лежал у меня под рукой.
Но это не помогло.
Утром я исчез. Испарился. Пропал. Меня нигде не было.
Софи и Парнас звали меня, обошли ближайшие тупики, но не нашли. Они шли, уже забыв о всяких правилах, поворачивая на развилках по наитию. Они шли целую вечность. Парнас забыл завести часы, и они встали. У них кончилась вода. Осталось полдюжины галет и одна плитка шоколада. Они часто делали привалы. Они почти не разговаривали, шли молча. Иногда Парнас отставал, и Софи ждала его. Но когда отставала она, Парнас даже не оглядывался и шёл с прежней скоростью. Они съели галеты. Безумно хотелось пить. Однажды Парнасу показалось, что он слышит неясный крик. Они замерли и стояли так, не дыша, несколько минут. Тишина.
Они шли и шли дальше, плутая по коридорам, оказываясь вновь и вновь в тех местах, где уже бывали, находя следы своего пребывания: фольгу от шоколада, пустую флягу. Они шли и шли. А меня нигде не было. Совсем. Абсолютно. Кардинально. Не было.
Ужин
Стоило костру разгореться, и окружающий полумрак как будто стал ещё темнее. А когда вода в котелке закипела, была уже настоящая ночь. Рыжий всыпал в котелок крупу и помешивал её, я резал на маленькой доске овощи. Мы продолжали наш бесконечный спор. Сначала появились звуки – треск сучьев, невнятные голоса, чей-то хохот (наверное, близнецов), а затем к костру вышел учитель, и с ним все наши. Андрей нёс ворох сучьев, хотя дров у нас было достаточно.
– Как раз вовремя, – сказал Рыжий, – уже почти готово.
Учитель первым уселся у костра и вытащил из мешка стопку мисок. Ребята разбирали миски и рассаживались по кругу. Учитель внимательно посмотрел на Рыжего и спросил:
– О чём вы тут так оживлённо спорили, когда мы подходили?
Рыжий замялся:
– Да так… о грехе!
Пётр всхохотнул баском, прыснули близнецы.
– Ну вы нашли тему, – засмеялся Андрей.
– Тема как тема, – сказал учитель. – О каком-то конкретном грехе или вообще?
Я подошел к костру с большой миской с наломанным хлебом:
– Вообще и в частности…
Рыжий глянул в мою сторону и сказал:
– Вот он говорит, что обжорство не грех.
– Чревоугодие, – поправил учитель.
– Ну, чревоугодие. Не важно. Ну, ест человек много, аппетит хороший, может себе позволить. Кому он вредит? Нет, если уж совсем много, то, конечно, вредит своему здоровью, а так-то больше никому…
Забавно, что в это время все активно орудовали ложками – похлёбка нам явно удалась.
– А вы что думаете? – спросил учитель парней.
Андрей облизал ложку:
– Если вкусно, то что ж здесь плохого? Конечно, мог бы поделиться с кем-то, не всё ж одному съедать…
Пётр пробасил:
– Может, он и делится! Откуда ты знаешь? Мы ж не про жадность говорим, а про обжорство.
Учитель снова поправил:
– Про чревоугодие.
– Чревоугодие, – согласился Пётр, – какая разница!
Учитель взял из миски кусочек хлеба:
– В том-то и дело, что разница есть. Обжорство это категория, скажем, так, количественная. Человек ест слишком много. Может, что-то не в порядке с организмом, может, много голодал раньше. Не важно. Чревоугодие – это другое. Человек живёт, угождая своему чреву, животу своему. То есть, всё, что он делает – всё для брюха, всё во имя брюха. Своё время, свои душевные и физические силы он тратит только ради еды. Еда для него – ценность абсолютная. Вот что такое чревоугодие.
Близнецы толкали друг друга в бок, шепча:
– Ты, брюхо!.. Сам ты брюхо!..
Рыжий наморщил лоб:
– То есть, чревоугодие не потому грех, что кто-то много ест, а потому, что он только о еде и думает? Ни о близких, ни о долге, ни о душе, только о еде!
Учитель кивнул, улыбаясь:
– Примерно так. Кстати, о долге. Кто моет посуду?
Близнецы горестно вздохнули и начали собирать миски в стопку.
– Ну, а с другими грехами что? Разобрались? – спросил нас с Рыжим учитель.
– Не со всеми, – пробормотал я.
– С какими еще не разобрались? – чересчур резко вскинулся Рыжий.
– Например, с предательством, – сказал я и серьёзно посмотрел на учителя.
– А с предательством-то чего не ясно? – пророкотал Пётр. – Тут уж всё однозначно. Это вам не черве… чрево… угодие! Предательство – оно и есть предательство!
Рыжий заступился:
– Нуу, тебе всегда всё ясно!
Пётр приподнялся:
– Зато вам, умникам, всегда чего-то не ясно! – и посмотрел на учителя.
Учитель вздохнул:
– Когда всё ясно и всё однозначно – это хорошо. Но когда что-то неясно – это тоже хорошо.
Потому что, только задавая вопросы, человек учится. Сомнения – ворота к мудрости, – так говорят. И возможно, иногда полная ясность говорит не о глубоком понимании, а всего лишь о неумении задавать вопросы. Это ведь тоже умение – сомневаться. Вот ведь и огня бы у человека не было, – он махнул рукой на костёр, – если б какой-то, как ты говоришь – умник, не засомневался бы. Не задал себе вопрос: а можно ли не дожидаясь, пока молния ударит в сухое дерево, сделать огонь самому? Спросил себя – и начал пробовать, мучиться. Тер палочки друг о друга. А потом увидел, как кто-то высек искру, ударив камень о камень, и подумал: «Да вот ведь она, маленькая молния!» Положил сухой мох, взял два камня, и – оп! – развёл первый в истории костёр. Так что, благодаря сомнениям и вопросам, человек и стал человеком.
Близнецы, вернувшиеся с реки, смотрели на учителя, как на сказочника, раскрыв рот, Пётр согласно кивал своей огромной кудрявой головой, Андрей наморщил лоб, открыл было рот, но Рыжий его опередил:
– Это понятно. Но нельзя же сомневаться во всём. Есть ведь вещи, ну, незыблемые, которые нужно просто принимать или не принимать, но не надо в них сомневаться! Сомнения могут быть губительными…
Учитель, довольный, кивнул:
– Совершенно верно. Для ума неподготовленного сомнения могут быть губительными. Это и созидательная, но и разрушительная сила. Как и любым орудием, им надо уметь пользоваться. И я бы хотел, чтобы вы этому научились. Подготовили свой ум, свою душу. Были крепкими в своих убеждениях и не боялись сомнений. Для этого нужно задавать себе и другим вопросы – иногда странные, неожиданные, даже неудобные. Рискованные. Задавать – и учиться находить ответы. Как вашим мышцам нужна тренировка, так и вашему уму, иначе он захиреет, ослабнет.
Пётр улыбнулся:
– Я понял. Вот вы зачем нам всякие ваши каверзные загадки всё время загадываете!
Учитель склонил голову, вздохнул и улыбнулся Петру:
– Не загадки. Мне не нужно, чтобы вы угадали ответ. Ведь в жизни редко бывает так, чтоб верный ответ был лишь один. Мне нужно, чтоб вы думали над ответом, размышляли, искали его. Эти поиски в каком-то смысле уже и есть ответ…
Он достал кожаную флягу, вынул пробку и припал к воде. Утолив жажду, учитель протянул флягу перед собой, вопросительно глядя на нас. Андрей кивнул и взял флягу, но перед тем, как попить, сказал:
– Это всё так. Но… по поводу предательства. Ведь с ним-то всё-таки всё понятно. Предательство – это плохо. Значит, это грех. В чём тут сомневаться?
Учитель поднялся, разминая и потягивая затёкшие мышцы:
– Всё понятно, говоришь? Но вот что сказал мне как-то один очень неглупый знакомый… он сказал: мы все предатели, а потому не можем никого обвинять в предательстве.
Ребята забормотали, переглядываясь:
– Как это – все предатели? Почему?
Рыжий тоже возмущался вместе со всеми. А учитель продолжал:
– И я, друзья мои, среагировал точно так же. Но собеседник объяснил мне, что имел в виду. «Каждый из нас, – сказал он, – предаёт надежды и ожидания наших родителей, становясь не тем и не таким, каким и кем они нас представляли и хотели бы видеть». Мы говорим: «У нас собственная жизнь, и мы вправе распоряжаться ею по своему усмотрению». Это так. Но дали эту жизнь нам наши родители. Они наши создатели, и тоже вправе желать, чтоб их создание отвечало их планам. Но их творение отворачивается от них и уходит в «свою собственную жизнь», тем самым предавая своих создателей. И это не всё. Мы и собственные ожидания и надежды тоже предаём. В детстве мечтаем об одном, а в юности потешаемся над этими мечтами, считая их наивными, нереальными. Но, когда повзрослеем, то уже и юношеским мечтам приходит конец, и у нас совсем другие цели и устремления. Так мы предаём сами себя. И не один, не два раза в жизни, а на всём её протяжении. Мы покидаем родной дом, предавая его. Мы уезжаем в чужие края, предавая свою родину. А если возвращаемся, в конце концов, обратно, то ещё раз предаём – ту землю, что была нам второй родиной. Неблагодарные предатели. Мы предаём свои способности и таланты. Ведь ими, поверьте мне, одарён каждый. А реализовали их лишь единицы, остальные – предатели, наплевавшие на имеющийся у них дар, – ради выгоды или ради спокойствия. Или просто от лени. Мы заводим собак или кошек, или лошадей, – не важно. Большинство животных умирают гораздо раньше человека. И вот они уходят от нас, посвятив нам всю свою жизнь без остатка. Уходят, а мы остаёмся. Предаём их, и видим это в их гаснущих глазах. А затем заводим новых любимцев, предавая старых повторно. И уж конечно – предаём людей, которые тоже умирают прежде нас. Обещаем помнить их вечно, зная, что предадим и это обещание. И таким обещаниям нет счёта в нашей жизни. Кому мы только не раздаем всяких авансов, заверений и обещаний! И сдерживаем лишь ничтожную часть из них, предавая остальные и предавая тех, кому обещали. Мы предаём влюблённых в нас, когда не отвечаем им взаимностью. Мы предаём наших учителей, забывая всё или почти всё, чему они нас учили. Мы предаём также и наших учеников, когда перестаём понимать их и понимать, чему же мы их учим. Мы предаём своих друзей, когда становимся богаче их, вызывая в них зависть, и когда становимся беднее их, вызывая в них смятение. Мы предаём здравый смысл, когда поступаем нелогично, и предаём совесть, когда поступаем в соответствии со здравым смыслом. Любовь заставляет нас забыть о долге, предавая его. Либо чувство долга берёт верх, и мы предаём любовь. Мы ежедневно вредим собственному телу, изнуряя его или балуя, предаём его – то вредной пищей, то излишествами, то, напротив, голодом. Мы предаём нищих, когда не подаём им. Но, подавая, мы развращаем их, то есть опять же предаём. Когда едим, предаём голодных, когда пьём, предаём жаждущих. Делимся с одним, предаём всех остальных. Так говорил мне этот мудрец. И это еще не всё. Мы предаём своих детей, отпуская их во взрослую неизвестную жизнь, а может, предаём их ещё при рождении, потому что знаем изначально, что наступит день, и мы отпустим их. Мы предаём даже нашу старую одежду, когда выбрасываем её за негодностью. А ведь она годами верно служила нам. Мы предаём книги, которые не читаем, и предаём те, что прочли и забыли. Больной предаёт врача, когда умирает, это так. Но он предаёт его и когда выздоравливает, потому что перестаёт быть больным, и больше не нуждается в лекаре. Мы предаем того, кто метёт улицы, когда сорим. Но и не соря, мы лишаем его работы, предавая его тем самым. Мы предаём ученых и всю науку своим незнанием или полузнанием. Мы предаём власть, презирая её или подозревая её, а власть с удовольствием предаёт нас ежедневно. Мы предаём язык свой, не умея им толком пользоваться, говоря косноязычно и смутно. Мы предаём своих предков, не помня, кем они были и как их звали. Мы предаём своих потомков, не оставляя им наследства. А оставляя – лишаем их свободы, а значит, предаём. Мы предаём само время, растрачивая его попусту, убивая дни и часы, распоряжаясь им бездумно и расточительно. И даже нашу жизнь мы предаём, когда жалуемся или когда несчастливы, когда злимся или обижаемся. Мир соткан из предательств, взаимных и переплетённых, ежеминутных и растянутых длиною в жизнь. И все мы предатели. Все без исключения… вот что сказал он мне. И я долго молчал, как сейчас молчите вы. Все действительно молчали, в разной степени потрясённые. Никогда мы не слышали от нашего учителя ничего подобного. Обычно все его монологи дышали оптимизмом и душевным здоровьем. Но сейчас будто сдернули ткань, укрывающую бронзовый памятник, и стало видно, что он весь в трещинах и сколах.
Рыжий первым подал голос:
– Но ведь так говорил он? Вы ведь так не думаете?
Учитель очень серьёзно поглядел на него:
– Важно, что думаешь ты.
Андрей робко заговорил из полумрака:
– Но вы говорили, что мир соткан из любви. А теперь… как же это уживается? Любовь и предательство?
В глазах учителя появилась лукавинка:
– Оказывается, мы с тобой очень похожи, Андрей! Ведь я сказал ему то же самое. Но у странного мудреца был ответ и на это. «Любовь? – спросил он. – Что ж, любовь – это тоже предательство. Ведь, полюбив, мы выделяем единственного человека из всего мира. Ради него мы готовы на многое, в том числе на ужасные вещи. И если на одной чаше весов будет наш любимый, а на другой кто угодно, для нас выбор очевиден. То есть, любя кого-то, мы предаём всех остальных, скопом, сразу! Так что любовь, возможно, самый ужасный вид предательства – массовый и безоговорочный».
Рыжий задумчиво повторил:
– …Когда любишь кого-то… кого-то одного… значит… значит, надо просто любить всех!! – и с торжеством взглянул на учителя, будто разгадал очередную его сложную загадку.
– Верно, если любить всех-всех и всё без исключения: людей, животных, птиц, землю, пищу, воздух, песни, жалобы, сандалии, камины, весь мир – только так можно разорвать порочный круг предательства. Это ты хотел сказать?
Рыжий потупился:
– Ну да.
Близнецы облегчённо вздохнули, как будто слушали страшную сказку, и она наконец кончилась.
– Ну а поцелуй? – вдруг спросил Андрей, залившись румянцем. А может, это просто показалось в свете костра.
– Что – поцелуй? – спросил учитель.
Близнецы прыснули, но тут же стушевались. Пётр с преувеличенным удивлением повернулся к Андрею.
– Ну вот, поцелуй как проявление любви. Если я люблю кого-то, то своим поцелуем я даю ему понять это. Но, как говорит этот ваш мудрец, целуя одного, я отказываю в этом всем остальным, и значит, предаю их?! Какая-то странная логика, нечеловеческая.
Учитель сделал страшные глаза:
– А кто вам сказал, что это был человек?.. Ха-ха! Пётр, не пугайся так, я шучу.
Но Андрей не поддержал шутку:
– Так как же получается? Либо я должен целовать всех и всё, раз уж я люблю всех и всё. Ходить и целовать без разбора: людей, животных, птиц, землю… что там ещё вы говорили?
Близнецы давились от смеха:
– Целуй землю, целуй землю!..
Но Андрей не обращал внимания, продолжал: – Или, что гораздо нормальней, я буду целовать лишь одного человека, которого искренне люблю. Но этот поцелуй почему-то превращает меня в предателя!
Учитель молчал. Наступила тишина, даже близнецы перестали повизгивать. Все переводили взгляды с учителя на Андрея.
А учитель вдруг повернулся ко мне и спросил: – А ты что молчишь? Что ты думаешь? Это было так странно и неожиданно, что я буквально опешил. И ещё страннее было лицо учителя. На нём был не обычный для него пытливый мыслительный процесс или не привычная улыбка, а страдание. Почти мука. Он смотрел мне в глаза и будто испытывал боль, необъяснимую и страшную. Я открыл рот, но не успел ничего сказать. Из темноты вдруг показались смутные фигуры. Мы, увлёкшись спором, не слышали, как они подошли, и потому вздрогнули, как от выстрела. Люди вошли в освещённое пространство, и стало видно, что на них военная форма. Сначала показалось, что их пятеро или шестеро. Но вот один из них командирским жестом махнул рукой назад, и из мрака выступили ещё фигуры, ещё и ещё. Солдаты плотным кольцом обступали наш кружок со всех сторон. И молчали. Андрей попытался встать, но учитель мягко положил ему руку на плечо, и Андрей остался сидеть. Пётр, весь разговор поигрывавший ножичком, теперь зажал его в кулаке и, постепенно перебирая пальцами, прятал в рукав. Командир военных подошел ещё ближе, почти к самому огню. Он оглядел всех по кругу с выражением лица вполне миролюбивым. Затем прокашлялся в кулак, как оратор перед выступлением, но ничего не стал говорить. Вместо этого вздохнул и развёл руками, причём жест получился мирным и даже каким-то извиняющимся. Напряжение у костра от этого его вздоха и этого жеста, да и от совсем не грозного лица немного ослабло. Правда, ножичка Пётр из руки не выпустил. Теперь учитель открыл рот и даже издал уже какой-то звук, но на этот раз я остановил его, положив руку на его худое плечо. Я поднялся на ноги, не убирая руку с плеча учителя, даже, кажется, похлопал его слегка. Зайдя ему за спину, я и вторую руку положил на другое плечо, а затем нагнулся и поцеловал учителя в щёку, или точнее – куда-то возле виска. Поцеловал долго, затем выпрямился и прикрыл глаза. Мне незачем было смотреть. Я и без того знал всё, что произойдёт. Знал, что Пётр вскочит со своим смешным ножичком, но командир военных красноречиво и убедительно обнажит свой меч. Знал, что близнецы Иоанн и Иаков врастут в землю от страха, что солдаты по кивку своего командира стремительно метнутся к тому, кого я поцеловал, и схватят его. Знал, что Андрей будет пытаться что-то кому-то объяснять, спорить. Знал, что Рыжий Фома будет неподвижно сидеть и смотреть не на солдат, и даже не на Учителя, а только на меня. Будет смотреть, с неожиданной для него самого ненавистью повторяя моё имя. Имя, которое с тем же выражением лица и с той же интонацией будут произносить самые разные люди на протяжении тысячелетий.
Роль
Я произношу свою последнюю реплику, зал заходится от смеха. Раздаются аплодисменты – сначала на галёрке, затем охватывают и весь партер. Я кланяюсь и делаю приветственно-благодарный жест рукой. Глупый запрет на поклоны в середине действия в нашем театре снят. В чём смысл этого запрета, который ввёл, как мне кажется, сам Станиславский? Якобы аплодисменты прерывают связность действия. Отвлекают актеров от их сверхзадач. Разрушают «четвёртую стену», отделяющую сцену от зрительного зала. Никчёмные аргументы! Желаете непрерывность действия и четвёртую стену? Отправляйтесь в кинематограф! Там актёры старательно делают вид, что не замечают смотрящей на них кинокамеры. Может быть, поэтому «глазок» камеры и называется объективом? Он – безличен, объективен, это инструмент фиксации. Понятно, что и в самом финале фильма актёры, участвовавшие в нем, не выходят на поклон, объективность действия сохраняется до конца. Таким образом, зритель выступает здесь в роли тайно подсматривающего. Его не замечают, зато он видит всё.
Иное дело – на подмостках. Мы откровенно называем спектакль – представление. Мы представляем различные ситуации, эпохи, места. Если персонажи фильма переходят пустыню, то и камера со своим Объективом должна отправиться в пустыню и наблюдать там, среди настоящих песков, за актёрами. На сцене же достаточно представить пустыню, то есть – вообразить. Мы можем обозначить её одинокой хилой пальмой на заднике, а можем просто сказать об этом, упомянуть в диалоге персонажей, что находимся в пустыне. И всё. Этого достаточно. Дальше – лишь воображение. Представление.
Сумасшедший в лечебнице тоже воображает себя в различных местах и эпохах, но окружающие не разделяют его представления с ним. В театре же в акте воображения участвуют все: актёры, музыканты и – зрители! Без их участия, без их фантазии театр не состоится. Они, придя в зал, выразили своё согласие в додумывании реальности, свою готовность соучаствовать в представлении. Так, совместными усилиями, суммой всех воль и фантазий и возникает Волшебство Театра.
Я произнес свою финальную реплику. Она очень удачна. И сама по себе смешна. А вкупе с придуманным образом всегда производит положительный эффект. Придумать образ, конечно, задача режиссера. Он задаёт рамки и границы. И в этом, вроде бы, фиксированном пространстве актер волен импровизировать безгранично. Вы скажете – парадокс? Вовсе нет. Ведь мы сами в нашей жизни ограничены множеством факторов: местом рождения, средой обитания, национальностью, врождёнными качествами. Но в этих рамках мы свободны выбирать из великого числа возможностей. Из одной и той же стартовой точки расходится веером множество вероятных путей, биографий. Мы же выбираем лишь одну из мириад, и этот выбор – наш. Так что свобода – это выбор в ограниченных рамках. Когда ограничений нет вовсе, это не свобода, а хаос.
Режиссер в театре – тот, кто из хаоса бесконечных возможностей вычленяет некие определённые, превращая их в правила. Он как бы расставляет флажки по периметру поля, на котором предстоит совершенно свободно, но не заступая за ограждения, передвигаться актёрам. Или другая аналогия – он создает азбуку, из которой актёры составляют слова.
Эта роль коротка. Но персонаж мой чрезвычайно яркий и запоминающийся. Почти все реплики – афоризмы. Конечно, играет свою роль и костюм, он выполнен с выдумкой и некоторым даже вызовом. Кроме того, для этой роли я сам придумал оригинальный грим. Парик здесь я не использую – просто взлохмачиваю собственные волосы так, чтобы они представляли собой этакую копну. Все это вкупе, дополненное моими скромными, но пользующимися популярностью у зрителя актёрскими способностями, делает настоящую роль из проходного вроде бы эпизода.
Я вообще люблю эпизодических персонажей. По нескольким причинам. Во-первых, это как бег на короткие дистанции. Можно выложиться за малое время с большой силой. Во-вторых, проходные роли, как правило, прописаны не так детально, как главные, а значит – оставляют гораздо больше возможностей для импровизации. Еще одна причина моей привязанности к эпизодическим ролям кроется в особенности нашего театра. Труппа у нас невелика, и почти в любом спектакле актёрам приходится исполнять по нескольку персонажей. Конечно, тем, кто играет главные роли, этого сделать невозможно – они почти непрерывно на сцене. Но мы – исполнители эпизодов – лишь только покидаем действие, можем перевоплотиться в другого персонажа, чьё пребывание на сцене столь же кратковременно. В некоторых постановках я играю четыре, пять, а то и больше ролей. И это, конечно, гораздо интереснее, чем пробыть всё сценическое время в одной маске. Ведь актер, – любой актер, – мечтает испробовать как можно больше всевозможных образов, сыграть как можно больше ролей. У меня, короля эпизода, именно это и получается.
В этой смене образа прямо во время спектакля есть отдельное удовольствие, свой специфический азарт. И дело не только в том, что надо так продумать свой костюм и грим, чтобы успеть поменять их за ограниченное время – хотя и это тоже задача очень творческая, и потому привлекательная. Но и тот факт, что ты выходишь в те же декорации, к тем же партнерам, которые только что кланялись тебе как князю, а теперь отдают тебе, солдату, приказы, или минуту назад слушали твою мессу, а сейчас подают тебе милостыню – само это быстрое перевоплощение весьма возбуждает и манит. Будто игра твоя обретает «второе дно». Это как шкатулка с секретом – её открываешь, а там новая дверца. Получается, что ты играешь не только для зрителя, но и для актёров, которые не уходили со сцены. И тех и других ты как бы водишь за нос. В театральном, конечно, смысле. Снова появляясь на сцене, уже в другом костюме, будто призываешь своих собратьев по ремеслу включить воображение вдвойне: представьте, что я не тот, кого вы знаете в своей обыденной жизни, но и не тот, кого вы только что представляли на его месте, а уже некто снова иной, не имеющий отношения к тому, первому и, может быть, даже не знающий о нём. Хотя это всего лишь я, все тот же я.
Вот эта игра в игре, театр-матрёшка, мне и нравятся больше всего в моей работе. Я рад, что у нас не огромная труппа, которая смогла бы сыграть любую постановку, с каким угодно количеством персонажей, где каждый актер исполнял бы всего одну роль. Наша «экономность» мне очень по нутру.
И вот я отвешиваю свой поклон – всё ещё наполовину в образе – и специально придуманной для этой роли походочкой удаляюсь в правую кулису. Это снова вызывает смех в зале, и опять – аплодисменты. Но я, конечно, не возвращаюсь. Таковы правила. Свою порцию зрительского внимания и одобрения я получил, надо уступать место другим.
Я сбегаю по узенькой лестнице в свою гримерку. Это комната на четверых, моё зеркало слева от двери. В проходе я почти сталкиваюсь с моим товарищем. Он тоже только что переоделся в другого персонажа, но, по моим расчетам, немного задержался. Я не должен был его встретить. Заметно – мы ведь знаем друг друга не один десяток лет – что он раздражён своим опозданием. Коллега коротко показывает мне на свои приклеенные усы, правый ус отходит. Я понимающе киваю ему. Сколько раз мы говорили администратору, что клей никуда не годится! И если у твоего персонажа усы или борода, приходится повозиться. Понятно, почему мой товарищ задержался. Я ободряюще хлопаю его по плечу, и он бежит к лестнице.
У меня времени достаточно – до конца первого акта. Мой следующий герой появляется лишь после антракта, и то не сразу. Так что я спокойно снимаю с лица грим, не торопясь умываюсь и расчёсываю волосы. Раздеваюсь и аккуратно вешаю костюм, на что не всегда хватает времени, порой приходится уже после спектакля собирать разбросанные впопыхах вещи. Снимаю с вешалки новый костюм. Этот образ я придумал целиком, от начала до конца. Без лишней скромности говорю – режиссёр тут ни при чём. Это моё дитя. Каждая деталь, каждый мелкий элемент я создавал сам. Мой персонаж лыс. Так что я начинаю с парика. Он заготовлен на моём столике, на деревянной болванке, которой кто-то забавы ради пририсовал усики. Я надеваю парик, закрепляю его, и вот я – облысел. Замазываю гримом те места, где кончается парик, слегка обозначаю мешки под глазами. Немного подумав, наношу на нос чуть-чуть красного. Пусть сегодня мой герой будет немного навеселе. Ну, буквально, пару бокалов пива. Это – чистой воды импровизация. Я могу себе это позволить. В отличие от главных героев, образы которых выверены до мельчайшей детали, и уже не меняются годами, мои персонажи – более живые. Они могут на одном из представлений вдруг заболеть и начать чихать, или погрузиться в меланхолию. Кто-то из них вдруг резко постареет, как это и в жизни иногда случается, другой вдруг удачно женится – и это так и будет читаться на его счастливом лице. Особенно свободен я, когда играю персонажей без слов, такие роли дают массу возможностей для метаморфоз!
Но сегодняшний мой герой не особо меняется от спектакля к спектаклю. Просто потому, что он мне нравится таков, каков есть. В строгом, но не очень чистом костюме, с обшарпанными часами на цепочке, с бровями, приподнятыми в вечном удивлении, со своей мягкой походкой. Он всегда ступает так… я всегда ступаю так, будто боюсь кого-то разбудить. И эта постоянная готовность извиняться неизвестно за что! Это неплохой человек, немного несчастный, немного мечтательный. Не слишком ловкий, совсем не талантливый, но не способный на подлость. Я обуваюсь. Ботинки слишком чисты. Не беда, по пути около лестницы я смогу их немного присыпать пылью.
Время. Я слышу звонок, призывающий после антракта ко второму акту. Сейчас зрители покидают буфетную и проходят в зал. Мне нужно выждать совсем немного. Ведь мой герой нерасторопен, он часто опаздывает. Я вхожу в зал, когда большая часть зрителей уже на местах. Я смущён своим опозданием и тем, что нужно теперь пробираться по ряду, наступая на ноги дамам, вынуждая вставать мужчин. Я непрерывно бормочу извинения, и в то же время – ведь я актёр! – успеваю примечать, как реагируют на моего персонажа люди в зале. Вот пожилая дама, когда я с трудом пробираясь к своему месту, непроизвольно прижимаюсь к её коленям, смотрит на меня не с раздражением, а с интересом. «Ух, старая развратница!» – весело думаю я. Но виду, конечно, не подаю. Это тоже импровизация. Раньше она всегда смотрела на меня с видом оскорблённого достоинства, а сегодня решила добавить немного кокетства. Что ж, вполне удачная находка. И сыграно великолепно, на мельчайших нюансах. Вот высокий господин поднимается, давая мне пройти. Он коротко взглянул на меня и вдруг как будто узнал. Во взгляде его читается затруднение, он не вполне уверен и оттого не знает – кивнуть мне сухо, как незнакомцу, или поздороваться. Я быстро принимаю решение, что мы с ним действительно немного знакомы. Улыбаюсь со своим вечно извиняющимся выражением и преувеличенно радостно здороваюсь. В ответ здоровяк тоже расплывается в улыбке и тепло пожимает мне руку. Я пробираюсь дальше, к своему месту. Вот и оно. Рядом с милой дамой, которая коротко кивает мне. В одном из спектаклей мы играем с ней супругов, и между нами разыгрываются настоящие баталии, это очень смешная пьеса. Но сейчас мы с ней незнакомы. Просто случайные соседи по театральным креслам. Я никого, ну да – почти никого (вспомнил о высоком господине) н-не знаю в этом зале. По пьесе, разумеется. Но, когда спектакль окончится, мы выйдем из зала, отыграв свои роли до финала – до гардероба или выхода на улицу. Одни будут идти группками, изображая семьи или компании друзей. Они будут обсуждать спектакль (о! сколько тут возможностей для импровизации!), игру на сцене или уже переключатся на другие темы, например – предстоящий ужин. Другие, как мой герой, пойдут в одиночку. Я немного задержусь у гардероба, ведь моему персонажу слегка грустно покидать театр, выходить на промозглую улицу, брести одиноко до своего крошечного холостяцкого жилища. Ему так хочется ещё немного, ещё совсем чуть-чуть побыть здесь, в ярком свете, в теплом окружении незнакомых людей. И я замешкаюсь у зеркала, не спеша выходить из здания.