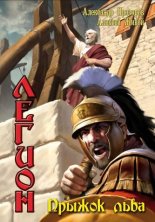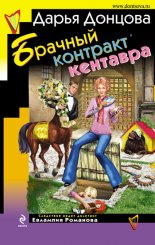Метро 2034 Глуховский Дмитрий

Пролог
2034 год.
Весь мир лежит в руинах. Человечество почти полностью истреблено. Радиация делает полуразрушенные города непригодными для жизни. А за их пределами, по слухам, начинаются бесконечные выжженные пустыни и дебри мутировавших лесов. Но никто не знает наверняка, что там.
Цивилизация угасает. Память о былом величии человека обрастает небылицами и превращается в легенды. Со дня, когда последний самолёт оторвался от земли, минуло больше двадцати лет. Изъеденные ржавчиной железные дороги ведут в никуда. Стройки века, так и не доведенные до конца, превратились в развалины. Радиоэфир пуст, и связисты слышат только унылое завывание, в миллионный раз настраиваясь на частоты, на которых раньше вещали Нью-Йорк, Париж, Токио и Буэнос-Айрес.
Минуло всего двадцать лет с того, как это произошло. Но человек больше не хозяин Земли. Создания, рожденные радиацией, приспособлены к новому миру куда лучше него. Эпоха человека подошла к концу.
Тех, кто отказывается в это верить, совсем немного – всего несколько десятков тысяч. Они не знают, спасся ли кто-то еще, или они – последние люди на планете. Они живут в Московском метро – самом большом из когда-либо построенных противоатомных бомбоубежищ. В последнем убежище человечества.
Все они оказались в метро в тот день, и это спасло им жизнь. Герметические затворы защищают их от радиации и чудовищ с поверхности, изношенные фильтры очищают воду и воздух. Собранные умельцами динамо-машины вырабатывают электричество, на подземных фермах выращивают шампиньоны и свиней.
Центральная система управления распалась уже давно, и станции превратились в карликовые государства. Люди на них сплачиваются вокруг идей, религий или просто фильтров для воды.
Это мир без завтрашнего дня. В нём нет места мечтам, планам, надеждам. Чувства здесь уступают место инстинктам, главный из которых – выжить. Выжить любой ценой.
Предысторию событий, описываемых в этой книге, читайте в романе «Метро 2033».
Глава первая
Оборона Севастопольской
Они не вернулись ни во вторник, ни в среду, ни даже в четверг, оговоренный как крайний срок. Первый блокпост нес дежурство круглосуточно, и если бы дозорные услышали хоть эхо призывов о помощи, заметили бледный отблеск луча на влажных темных стенах туннеля, вперед, к Нахимовскому проспекту был бы немедленно выслан ударный отряд.
Напряжение нарастало с каждым часом. Лучшие бойцы, превосходно экипированные и специально подготовленные именно для таких заданий, не смыкали глаз ни на секунду. Колода карт, за которой короталось время от тревоги до тревоги, уже вторые сутки пылилась в ящике стола в караулке. Обычная болтовня сменилась тихими встревоженными разговорами, те – тяжелым молчанием: каждый надеялся первым услышать эхо шагов возвращающегося каравана. Слишком уж многое от него зависело.
Севастопольская была превращена ее жителями, любой из которых – от пятилетнего мальчишки до древнего старика – умел обращаться с оружием, в неприступный бастион. Ощетинившаяся пулеметными гнездами, шипами колючей проволоки, даже сваренными из рельсов противотанковыми ежами, эта станция-крепость – казалось бы, совершенно неуязвимая, – могла пасть в любую минуту.
Ее ахиллесовой пятой была постоянная нехватка боеприпасов.
Столкнувшись с тем, что приходилось ежедневно выдерживать обитателям Севастопольской, жители любой другой станции наверняка и не подумали бы ее оборонять, бежав оттуда, как крысы из затапливаемого туннеля. Даже могущественная Ганза – союз станций Кольцевой линии, – подсчитав все расходы, вряд ли решилась бы бросить необходимые силы на защиту Севастопольской. Да, ее стратегическое значение было велико, но все же игра не стоила свеч.
Электроэнергия действительно была очень дорога. Достаточно дорога, чтобы севастопольцы, построившие одну из самых крупных гидроэлектростанций в метро, на доходы от ее поставок Ганзе ящиками заказывали боеприпасы и все-таки оставались в прибыли. Однако многим из них приходилось расплачиваться не только патронами, но и своими искалеченными, оборванными жизнями.
Грунтовые воды, благословение и проклятие Севастопольской, обтекали ее со всех сторон, словно воды Стикса – утлую барку Харона. Они вращали лопасти десятков водяных мельниц, сооруженных местными самоучками в туннелях, гротах, подземных руслах – всюду, куда могли добраться инженерно-разведывательные группы, давая свет и тепло самой станции и еще доброй трети Кольца.
Они же неустанно подтачивали опоры, разъедали цемент спаек, убаюкивающе журчали совсем близко за стенами главного зала, пытаясь усыпить бдительность обитателей. Наконец, не позволяли взорвать лишние, неиспользуемые перегоны, откуда на Севастопольскую непрестанно, словно бесконечная ядовитая многоножка, заползающая в мясорубку, двигались орды кошмарных созданий.
Жители станции, команда этого несущегося по Преисподней призрачного фрегата, были навечно обречены искать и заделывать все новые пробоины, потому что их корабль давно дал течь, но пристани, где он мог бы обрести покой, просто не существовало.
И одновременно они должны были отражать атаку за атакой шедших на абордаж с Чертановской и Нахимовского проспекта чудовищ… Ползущих из вентиляционных шахт, просачивающихся вместе с мутными стремительными ручьями сквозь канализационные стоки, рвущихся из южных туннелей.
Казалось, весь мир ополчился против севастопольцев, не жалея никаких усилий для того, чтобы стереть их пристанище с карты метро. А они до последнего цеплялись за свою станцию, будто, кроме нее, у них ничего во Вселенной не оставалось.
Но какими бы искусными ни были местные инженеры, каких опытных и безжалостных бойцов ни воспитывала бы Севастопольская, они не могли уберечь свое жилище без патронов, без ламп для прожекторов, без антибиотиков и бинтов. Да, станция вырабатывала электричество, и Ганза была готова платить за него хорошую цену, но у Кольца были и другие поставщики, и собственные источники, а севастопольцы без подпитки извне вряд ли продержались бы даже месяц. А страшнее всего было остаться без боеприпасов.
Хорошо охраняемые караваны уходили к Серпуховской каждую неделю, чтобы на открытый у ганзейских купцов кредит закупить все необходимое и, не задерживаясь ни на час, отправиться домой. И пока вращалась Земля, пока текли подземные реки и держались возведенные метростроевцами своды, порядок не должен был меняться.
Но на этот раз караван задерживался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно: произошло нечто ужасное, непредвиденное, от чего не сумели защитить ни закаленные в боях тяжеловооруженные конвоиры, ни годами налаживавшиеся отношения с руководством Ганзы.
И все бы ничего, если бы действовала связь. Однако с идущим к Кольцу телефонным проводом что-то случилось, сообщение прервалось еще в понедельник, а отправленная на поиски поломки бригада вернулась ни с чем.
Лампа под широким зеленым абажуром свисала совсем низко над круглым столом, освещая пожелтевшие листы бумаги с нарисованными карандашом графиками и диаграммами. Лампочка была слабая, ватт сорок, но не потому что приходилось экономить электричество, а оттого что хозяин кабинета не любил яркий свет. Пепельница, переполненная окурками дрянных местных самокруток, сочилась едким сизым дымом, собиравшимся под низким потолком комнаты в ленивые вязкие клубы.
Начальник станции потер лоб и, вскинув руку, посмотрел единственным глазом на циферблат – в пятый раз за последние полчаса. Потом хрустнул пальцами и грузно поднялся.
– Надо принимать решение. Оттягивать дальше нет смысла.
Крепкий старик в пятнистом бушлате и истертом голубом берете, сидевший за столом напротив, открыл было рот, но закашлялся и замахал рукой, разгоняя дым. Потом, недовольно морщась, отозвался:
– Ну, давай я тебе еще раз повторю, Владимир Иванович: с южного направления мы никого снять не можем. Блокпосты под таким натиском, что еле держатся. За последнюю неделю там трое раненых, один тяжелый – и это несмотря на укрепления. Ослабить юг я тебе не дам. Туда же еще постоянно нужны и две тройки разведчиков – патрулировать шахты и межлинейники. Ну, а север – кроме тех бойцов из встречающей бригады, свободных нет, извиняйте. Ищи, где хочешь.
– Ты командир периметра, ты и ищи, – огрызнулся начальник. – А я своими делами заниматься буду. Но через час группа уже должна выйти. Ты пойми, мы с тобой разными категориями мыслим. Нельзя же решать только сиюминутные задачи! А если там что-то серьезное?
– А я думаю, Владимир Иванович, ты порешь горячку. Калибра 5.45 в арсенале два цинка невскрытых, на полторы недели точно хватит. И у меня дома под подушкой завалялось еще, – старик усмехнулся, обнажая крепкие желтые зубы, – ящик точно наскребу. Беда не в патронах, а в людях.
– Давай-ка лучше я тебе скажу, в чем беда. Через две недели, если не наладить поставки, придется перекрывать гермозатворы в южных туннелях, потому что без боеприпасов мы их не удержим. Значит, не сможем осматривать и ремонтировать две трети наших мельниц. Еще через неделю они начнут выходить из строя. Перебои с электричеством в Ганзе никого не обрадуют. В лучшем случае они начнут искать других поставщиков. В худшем… Да что там электричество?! Туннели пустые уже пять дней почти, ни человека! А если там обрушение? А если прорыв? Если мы отрезаны теперь?
– Брось! Силовые кабели в норме. Циферки на счетчиках бегут, ток идет, Ганза потребляет. Было бы обрушение, ты бы сразу узнал. Даже если, положим, диверсия – нам бы не телефон обрезали, а провода наши. А насчет туннелей – кто сюда пойдет? К нам и в лучшие времена никто не захаживал. Чего один Нахимовский проспект стоит… Одиночке там не прорваться, а чужие торговцы к нам уже не суются. Ну и бандиты, ясное дело, наслышаны, недаром же мы каждый раз одного живым отпускали. Я говорю, не паникуй.
– Хорошо тебе рассуждать, – проворчал Владимир Иванович, поднимая повязку над пустой глазницей и вытирая со лба выступивший пот.
– Тройку дам. Пока больше нельзя, правда, – уже мягче сказал старик. – И хватит курить. Знаешь же, что и мне этим дышать нельзя, и сам травишься! Давай лучше чаю, что ли…
– Это всегда пожалуйста, – начальник потер руки. – Истомин у аппарата, – буркнул он в телефонную трубку, – чая мне и полковнику.
– И дежурного офицера вызови, – попросил командир периметра, снимая с головы берет. – Я распоряжусь по поводу тройки.
Чай у Истомина был всегда свой, с ВДНХ – особого, отборного сорта. Мало кто мог себе такое позволить – доставленный с другого края метро, трижды обложенный ганзейскими пошлинами, любимый чай начальника станции становился таким дорогим, что он и сам не стал бы потакать своим слабостям, если бы не старые связи на Добрынинской. С кем-то он там когда-то вместе воевал, и с тех пор раз в месяц командир возвращающегося от Ганзы каравана непременно привозил с собой яркий сверток, за которым Истомин всегда приходил сам.
Год назад с чаем этим начались перебои. До Севастопольской долетели тревожные слухи о новой, страшной угрозе, которая нависла над ВДНХ, а может, и надо всей оранжевой веткой: с поверхности туда спускались неизвестные и невиданные раньше мутанты, по слухам, умевшие читать мысли, почти невидимые и к тому же практически неистребимые. Поговаривали, что станция пала, и что Ганза, опасаясь вторжения, подорвала туннели за Проспектом мира. Цены на чай взлетели, потом он совсем было пропал, и Истомин был не на шутку встревожен. Однако через несколько недель страсти сами собой улеглись, и караваны, возвращавшиеся на Севастопольскую с патронами и лампами, снова повезли и знаменитый душистый чай. А что могло быть важнее?
Наливая командиру отвар в фарфоровую чашку со сколотой местами золотой каймой и вдыхая ароматный пар, Истомин от удовольствия даже зажмурил на миг свой глаз. После нацедил и себе, тяжело уселся на стул и зазвенел серебряной ложечкой, размешивая таблетку сахарина.
Оба молчали, и с полминуты это меланхоличное позвякивание было единственным звуком, раздававшимся в затянутом табачным дымом полутемном кабинете. А потом его перекрыл, почти попадая в такт, летящий из туннелей надрывный колокольный набат.
– Тревога!
Командир периметра с невероятной для своих лет стремительностью сорвался с места и выскочил из комнаты. Где-то вдалеке хлопнул одинокий ружейный выстрел, потом его подхватили автоматы – один, другой, третий, по платформе загрохотали подкованные солдатские сапоги, и уже откуда-то издалека донесся зычный полковничий бас, раскидывающий приказы.
Истомин тоже было потянулся к висящему у шкафа лоснящемуся милицейскому автомату, но потом схватился за поясницу, охнул, махнул рукой, вернулся за стол и прихлебнул чая. Напротив него дымилась, остывая, брошенная полковником чашка и валялся забытый впопыхах голубой берет. Начальник станции скорчил ему гримасу и вполголоса заспорил с бежавшим командиром, возвращаясь к прежним темам с новыми аргументами, о которых не догадался вспомнить во время перебранки.
На Севастопольской ходило немало мрачных шуток о том, почему соседняя Чертановская так называлась. Хотя мельницы электростанций были разбросаны далеко в туннелях между двумя станциями, никто и не помышлял о том, чтобы для удобства занять и освоить пустующую Чертановскую, как была присоединена до этого смежная Каховская. Инженерные группы, под прикрытием подбиравшиеся к ней для установки и осмотра дальних генераторов, не решались приближаться к платформе ближе чем на сто метров. Выходя в такой поход, почти все, кроме самых отъявленных безбожников, украдкой крестились, а некоторые на всякий случай даже прощались с семьями.
Станция была нехорошая, и это чувствовал каждый, кто подходил к ней хотя бы на полкилометра. Тяжелые ударные отряды, которые севастопольцы по незнанию направляли раньше на Чертановскую, еще надеясь расширить свою территорию, возвращались потрепанными, ополовиненными, но чаще не возвращались вовсе. Бывалые бойцы, перепуганные до икоты, до стекающих по подбородку слюней, были не в силах справиться с ознобом, даже сидя так близко к костру, что начинала тлеть одежда. Они с трудом вспоминали то, что пришлось пережить, и никогда их воспоминания не были похожи друг на друга.
Считалось, что где-то за Чертановской боковые ответвления от основных туннелей ныряли вниз, вплетаясь в грандиозный лабиринт природных пещер, по слухам, кишевших всяческой нечистью. Это место на станции условно называли «Вратами» – условно, потому что никто из живых обитателей Севастопольской его никогда не видел. Правда, известен был случай, когда еще на заре освоения линии сами Врата вроде бы обнаружила большая разведгруппа, преодолевшая Чертановскую. Группа несла с собой передатчик – что-то наподобие проводного телефона. По этому телефону связист и сообщил на Севастопольскую, что разведчики стоят на входе в уходящий почти вертикально вниз неширокий коридор. Больше он ничего передать не успел, но еще несколько минут, пока не порвался кабель, сгрудившееся вокруг переговорного устройства командование Севастопольской слушало, как один за другим обрываются истошные, полные ужаса и нечеловеческой боли вопли бойцов разведгруппы. Стрелять никто из них даже не пытался, словно каждому из погибающих было ясно, что обычное оружие не в состоянии защитить их. Последним замолк командир группы, наемник-головорез с Китай-города, собиравший коллекцию мизинцев своих врагов. Он, видимо, находился на некотором расстоянии от уроненной радистом трубки, поэтому разобрать, что он говорил, было непросто; но, вслушавшись в его предсмертные всхлипывания, начальник станции узнал молитву – из простых, наивных, которым верующие родители учат маленьких детей.
После этого случая все попытки пробиться за Чертановскую были оставлены; собирались даже покинуть Севастопольскую и отходить к Ганзе. Однако проклятая станция, похоже, была тем самым пограничным столбом, который отмерял в метро пределы человеческих владений. Проникавшие за него создания порядком досаждали обитателям Севастопольской, но их хотя бы было можно убить, и при грамотно организованной обороне эти нападения отражались относительно легко и почти бескровно – покуда хватало боеприпасов.
Изредка к блокпостам подползали такие чудища, остановить которых удавалось только при помощи разрывных пуль и ловушек с высоковольтными разрядами. Но чаще дозорным все же приходилось иметь дело с тварями не столь пугающими, хотя и крайне опасными. Звали их здесь как-то по-гоголевски домашне: упырями.
– Вон еще один! Сверху, в третьей трубе!
Прожектор, сорвавшийся с потолочного крепления, дерганно, как висельник, болтался на одном проводе, поливая жестким белым светом пространство перед блокпостом, – то выхватывал притаившиеся в тенях скрюченные фигуры крадущихся мутантов, то снова прятал их во мраке, то заглядывал, слепя, в глаза дозорным. Вокруг гуляли, сжимаясь и тут же пружиня, перекашиваясь, кривляясь, неверные тени: люди отбрасывали звериные, чудовища – человеческие.
Блокпост был очень удобно расположен. Туннели в этом месте сходились – незадолго до последней войны Метрострой затеял реконструкцию, которая так и не была доведена до конца. На этом узле севастопольцы соорудили настоящую маленькую крепость: две пулеметные точки, полутораметровой толщины укрытия из мешков с песком, ежи и шлагбаумы на рельсах, электрические ловушки на ближних подходах и тщательно продуманная система сигнализации. Но когда мутанты шли такой волной, как в тот день, казалось – еще немного, и оборона рухнет.
Пулеметчик что-то нудно бубнил, пуская носом кровавые пузыри и удивленно разглядывая свои мокрые багровые ладони. Воздух вокруг его заклинившего «Печенега» подрагивал от жара. Потом, всхрапнув, стрелок доверчиво уткнулся лицом в плечо своего соседа, могучего бойца в закрытом титановом шлеме, и притих. Через секунду впереди раздался душераздирающий визг: упырь атаковал.
Боец в шлеме приподнялся над бруствером, отодвинув навалившегося на него окровавленного пулеметчика, вскинул автомат и дал долгую очередь. Мерзкая жилистая бестия, обтянутая матово-серой кожей, уже метнулась вперед, расправив узловатые передние лапы и планируя сверху вниз на натянувшихся кожных складках. Двигались упыри с совершенно невообразимой скоростью, не оставляя замешкавшимся ни малейших шансов, поэтому дежурство в этом дозоре несли только самые ловкие и умелые.
Свинцовый хлыст перебил визг, но по инерции уже мертвый упырь продолжил падение: стокилограммовая туша глухо ударила в бруствер, выбив из мешков с песком облако пыли.
– Вроде все…
Казавшийся бесконечным поток тварей, всего пару минут назад хлеставший из подвешенных под потолком огромных спиленных труб, и в самом деле, иссяк. Дозорные стали осторожно выбираться из-за укреплений.
– Носилки сюда! Доктора! На станцию его срочно!
Убивший последнего упыря здоровяк прикрепил к стволу автомата штык-нож и неторопливо пустился в обход раскиданных по зоне огня убитых и раненых созданий, придавливая зубастую пасть каждой из них сапогом и нанося короткий, выверенный удар штыком в глаз. Потом устало прислонился спиной к мешкам, отвернулся лицом к туннелям, поднял, наконец, забрало шлема и приложился к фляге.
Подкрепление со стороны станции подоспело, когда все уже было решено. Добрался, трудно дыша и проклиная свои болячки, и командир периметра в расстегнутом солдатском бушлате.
– Ну, вот где я ему тройку достану? От сердца оторву?
– О чем вы, Денис Михайлович? – чуть не заглядывая командиру в рот, спросил один из дозорных.
– Истомин требует срочно отправить тройку разведчиков к Серпуховской. Беспокоится за караван. А откуда я ему еще тройку возьму? И вот ведь именно сейчас…
– О караване так ничего и не слышно? – не оборачиваясь, поинтересовался утолявший жажду.
– Ничего, – подтвердил старик. – Но ведь и времени еще не так много прошло. Что опаснее, в конце-то концов? Если мы юг сегодня оголим, через неделю этот караван будет некому встречать!
Боец качнул головой и замолчал. Не отозвался он и когда командир, поворчав еще несколько минут, спросил у оставшихся на посту дозорных, не хочет ли кто добровольцем войти в ту самую тройку, которую все же придется отрядить к Серпуховской, – иначе начальник станции, чтоб ему было неладно, проест старику всю плешь.
Трудностей с набором желающих не возникло – многие дозорные засиделись на месте, а представить себе что-то еще более опасное, чем оборона южных туннелей, им было нелегко.
Из шестерых вызвавшихся в этот поход полковник отобрал тех, в ком, по его мнению, Севастопольская на тот час нуждалась меньше всего. Мысль оказалась удачной, потому что из отправленной на Серпуховскую тройки на станцию больше никто никогда не вернулся.
Вот уже три дня, с тех самых пор, как разведчики ушли на поиски каравана, полковнику казалось, что за спиной у него шепчутся, и повсюду виделись косые взгляды. Даже самые оживленные беседы стихали, когда он проходил мимо разговаривавших. И в напряженном молчании, воцарявшемся везде, где бы он ни появлялся, ему чудилось невысказанное требование: объяснить и оправдаться.
Он просто делал свою работу: обеспечивал безопасность оборонного периметра Севастопольской. Он тактик, а не стратег. Когда каждый солдат был на счету, полковник просто не имел права разбрасываться ими, рассылая на сомнительные, если не бессмысленные задания.
Три дня назад полковник был в этом искренне убежден. Но теперь, когда всякий испуганный, неодобрительный, сомневающийся взгляд стегал его по спине, его уверенность пошатнулась. Идущей налегке разведгруппе не потребовалось бы и суток, чтобы проделать весь путь к Ганзе и обратно – и это с учетом возможных боев и ожидания на границах независимых полустанков. Значит…
Приказав никого к себе не пускать, полковник заперся в своей комнатушке и забормотал себе под нос, в сотый раз перебирая варианты того, что могло случиться с торговцами и разведкой.
Людей на Севастопольской не страшились, разумеется, за исключением армии Ганзы. Дурная слава о станции, многократно перевранные истории нескольких очевидцев о том, какой ценой ее обитателям дается выживание, подхваченные челноками и любителями послушать их байки, распространялись по метро, делая свое дело. Быстро сообразив, какая от этой репутации польза, начальство станции приложило к ее укреплению свою руку. Информаторы и караванщики, путешественники и дипломаты были официально благословлены врать, да пострашнее, про Севастопольскую, и вообще про весь начинавшийся за Серпуховской отрезок линии.
Разглядеть за этой дымовой завесой привлекательность и истинную значимость станции могли лишь единицы. Всего пару раз за последние годы несведущие бандиты пробовали силой прорваться через блокпосты, но превосходно отлаженная севастопольская военная машина без малейших сложностей перемалывала разрозненные отряды.
Как бы то ни было, ушедшая в разведку тройка была четко проинструктирована в случае выявления угрозы не вступать с противником в столкновение, а как можно скорее возвращаться назад.
Была, конечно, Нагорная – место не такое скверное, как Чертановская, но все же очень опасное, зловещее. И Нахимовский проспект, заклинившие верхние гермозатворы которого не позволяли полностью оградить станцию от проникновений с поверхности. Подрывать выходы севастопольцы не хотели: нахимовским «подъемом» пользовались местные сталкеры. В одиночку через Проспект, как его звали на станции, никто ходить не отваживался, но не бывало еще случая, чтобы тройка не могла дать отпор водившимся там тварям.
Обрушение? Прорыв грунтовых вод? Диверсия? Необъявленная война с Ганзой? Теперь он, а не Истомин, обязан был дать ответ женам пропавших разведчиков, приходящим к полковнику, чтобы тоскливо и ищуще, словно брошенные собаки, заглянуть ему в глаза в надежде увидеть в них обещание, утешение. Он должен был все объяснить не задающим лишних вопросов, пока еще верящим в него солдатам гарнизона. Успокоить всех встревоженных, собирающихся вечерами, после работы, у станционных часов, которые засекли время выхода каравана.
Истомин говорил, что в последние дни у него все чаще спрашивали, отчего на станции приглушили освещение, и требовали включить лампы на прежнюю мощность. А ведь ослаблять напряжение никто и не думал, светильники и так горели в полную силу. Тьма сгущалась не на станции, а в человеческих душах, и даже самые яркие ртутные лампы не могли ее разогнать.
Восстановить телефонное сообщение с Серпуховской так и не удалось, и за ту неделю, которая прошла со дня выхода каравана, полковник, как и многие другие севастопольцы, потеряли очень важное, редкое для обитателей метро чувство близости к людям.
Пока работала связь, пока караваны ходили регулярно и до Ганзы было меньше дня пути, каждый из живущих на Севастопольской был волен уйти или остаться, каждый знал, что всего в пяти перегонах от их станции начиналось настоящее метро, цивилизация… Человечество.
Так, наверное, раньше чувствовали себя заброшенные в Арктику полярники, ради научных изысканий или высоких заработков добровольно обрекавшие себя на долгие месяцы борьбы с холодом и одиночеством. До большой земли – тысячи километров, и все же она где-то рядом, покуда действует радио, а раз в месяц над головами слышится гул моторов самолета, сбрасывающего на парашютах ящики с тушенкой.
Но теперь льдина, на которой стояла их станция, откололась, и ее с каждым часом уносило все дальше – в ледяную пургу, в черный океан, в пустоту и неизвестность.
Ожидание затягивалось, и смутное беспокойство полковника за судьбу посланных к Серпуховской разведчиков постепенно превращалось в мрачную уверенность: этих людей он больше никогда не увидит. Снимать с оборонного периметра трех новых бойцов, чтобы точно так же швырнуть их навстречу неведомой опасности, а вполне возможно – и верной гибели, так и не найдя при этом выхода из положения, он просто не мог себе позволить. Опускать гермоворота, перекрывать южные туннели и собирать большую ударную группу ему все же казалось преждевременным. Если бы только кто-нибудь принял сейчас решение за него… Решение, которое обречено оказаться неверным.
Командир периметра вздохнул, приоткрыл дверь и, воровато оглянувшись, подозвал часового.
– Папироской не угостишь? Но эта – крайняя, больше мне не давай, как бы ни просил! И не говори никому, ладно?
Надя, кряжистая говорливая тетка в дырявом пуховом платке и измазанном переднике, принесла горячую кастрюлю с мясом и овощами, и дозорные оживились. Картошка и огурцы с помидорами считались здесь самым изысканным деликатесом: кроме Севастопольской, овощами могли попотчевать разве что в паре лучших ресторанов Кольца или Полиса. Дело было не только в сложных гидропонических установках, необходимых для выращивания сбереженных семян, но и в том, что мало кто в метро мог растрачивать киловатты электричества, чтобы разнообразить солдатское меню.
Даже на стол к начальству овощи попадали лишь по праздникам, обычно же ими баловали только детей. Истомину пришлось изрядно поспорить с поварами, чтобы убедить их добавить вареной картошки и по помидору к полагающейся по нечетным числам свинине – для поддержания боевого духа.
Затея сработала: стоило Наде, по-бабски неловко скинув с плеча автомат, приподнять крышку кастрюли, как морщины на лицах дозорных стали разглаживаться. Под такой ужин продолжать набившие оскомину разговоры о сгинувшем караване и задерживающейся разведгруппе не хотелось.
– Сегодня вот целый день почему-то о Комсомольской вспоминаю, – сказал, разминая картошку в своей алюминиевой миске, седой старик в ватнике с метрополитеновскими лычками. – Вот бы попасть, посмотреть… Какая там мозаика! На мой вкус, самая красивая станция в Москве.
– Да брось, Гомер, небось, ты просто жил там, вот и любишь ее до сих пор, – немедленно отозвался небритый толстяк в ушанке. – А на Новослободской витражи? А на Маяковской – колонны такие воздушные и фрески на потолке?
– Мне Площадь революции всегда нравилась, – стеснительно признался снайпер, тихий серьезный мужчина в годах. – Сам знаю, что глупости, но вот все эти суровые матросы и летчики, пограничники с собаками… С детства обожал эту станцию!
– А чего это глупости? Там очень даже симпатичные мужички в бронзе изображены, – поддержала его Надя, соскребая остатки со дна кастрюли. – Эй, бригадир, смотри, без ужина останешься!
Сидевший особняком высокий плечистый боец неторопливо приблизился к костру, забрал свою порцию и вернулся на прежнее место – поближе к туннелю, подальше от людей.
– Он вообще на станции появляется? – шепотом спросил толстяк, кивая на тонущую в полумраке широченную спину.
– Больше недели безвылазно здесь сидит, – так же тихо ответил снайпер. – Ночует в спальнике. Как у него только нервы выдерживают… Хотя, может, ему просто нравится это дело. Три дня назад, когда упыри чуть Рината не загрызли, он потом ходил и добивал их. Вручную, минут пятнадцать. Возвращается – сапоги все в кровище, автомат тоже… Довольный.
– Не человек, а машина… – вставил долговязый пулеметчик.
– Я с ним даже спать рядом побаиваюсь. Видел, что у него с лицом? Я ему и в глаза посмотреть-то не могу.
– А я, наоборот, только с ним себя спокойно и чувствую, – пожал плечами старик, которого называли Гомером. – Да что вы к нему привязались? Он хороший человек, покалеченный только. Это в станциях красота важна. А Новослободская твоя, кстати, полная безвкусица! Такие витражи на трезвую голову смотреть невозможно… Тоже мне, витражи!
– А мозаика на колхозную тему в полпотолка – не безвкусица?!
– И где ты нашел на Комсомольской такие панно?
– Да все это чертово советское искусство либо про колхозную жизнь, либо про летчиков-героев! – разошелся толстяк.
– Сережа, не трогай летчиков, – предупредил снайпер.
– И Комсомольская – дрянь, и Новослободская – дерьмо, – послышался глухой низкий голос.
От неожиданности толстяк поперхнулся заготовленными словами и уставился на бригадира. Остальные тоже сразу затихли, ожидая продолжения: тот почти никогда не принимал участия в их разговорах, даже на прямые вопросы отвечая совсем коротко или не отвечая вовсе.
Он так и сидел к ним спиной, не спуская глаз с жерла туннеля.
– На Комсомольской своды слишком высокие, колонны тонкие, вся платформа с путей простреливается – как на ладони, и переходы перекрывать неудобно. А на Новослободской все стены в трещинах, сколько они их ни замазывают. Одной гранаты хватит, чтобы похоронить всю станцию.
И витражей там уже давно нет. Полопались.
Хрупкая штука.
Возразить никто не осмелился. Помолчав немного, бригадир бросил:
– Я иду на станцию. Гомера беру с собой. Смена будет через час. Артур остается за старшего.
Снайпер зачем-то вскочил и кивнул, хотя бригадир этого видеть не мог. Старик тоже поднялся и стал суетливо собирать разложенные вокруг пожитки в вещмешок, так и не доев свою картошку. К костру боец подошел уже при полном походном снаряжении, в своем непременном шлеме и с объемистым рюкзаком за плечами.
– Удачи.
Глядя на две удаляющиеся по освещенному перегону фигуры – могучую бригадирскую и сухонькую Гомера, снайпер зябко потер руки и поежился.
– Что-то похолодало. Подкиньте угольку, а?
За всю дорогу бригадир не проронил почти ни слова, уточнил только – правда ли, что Гомер раньше был помощником машиниста, а до того – простым обходчиком путей. Старик посмотрел на него подозрительно, но отпираться не стал, хотя на Севастопольской он всем всегда говорил, что дослужился до машиниста, а про свою работу обходчиком вообще предпочитал не распространяться, считая ее того недостойной.
В кабинет начальника станции бригадир вошел без стука, сухо отдав честь расступившимся караульным. Ему навстречу удивленно поднялись из-за стола Истомин и полковник – всклокоченные, усталые, растерянные. Гомер робко замер у входа, переминаясь с ноги на ногу.
Бригадир стащил и поставил прямо на истоминские бумаги свой шлем, провел рукой по выбритой наголо макушке. В свете лампы стало видно, как страшно обезображено его лицо: левая щека перепахана и стянута огромным шрамом, словно от ожога, глаз превратился в узкую щель, к уголку губ от уха ползет, извиваясь, толстый лиловый рубец. Хотя Гомер и считал, что привык уже к этому лицу, сейчас, как и впервые, когда он его увидел, изнутри защекотал противный холодок.
– Я сам пойду к Кольцу, – не здороваясь, выстрелил бригадир.
В комнате повисло тяжелое молчание. Гомер и раньше слышал, что бригадир, будучи незаменимым бойцом, имел особые отношения с начальством станции. Но только теперь он начал понимать, что, в отличие от всех остальных севастопольцев, бригадир дозора, кажется, вообще не подчинялся руководству.
Вот и сейчас он словно не ждал одобрения от этих двух пожилых, утомленных мужчин, а отдавал им приказ, который они обязаны были выполнить. И Гомер, – в который раз – спросил себя: что же это за человек?
Командир периметра переглянулся с начальником, насупился, собираясь возразить, но лишь обреченно махнул рукой.
– Решай сам, Хантер… Тебя все равно не переспоришь.
Глава вторая
Возвращение
Жавшийся у входа старик насторожился: этого имени ему раньше на Севастопольской слышать не приходилось. Не имя даже, а кличка – как и у него самого – никакого, разумеется, не Гомера, а самого заурядного Николая Ивановича, нареченного именем греческого мифотворца уже тут, на станции, за свою неуемную любовь ко всяческим историям и слухам.
…«Ваш новый бригадир», – сказал полковник дозорным, с хмурым любопытством оглядывавшим плечистого новичка в кевларе и тяжелом шлеме. Тот, пренебрегая этикетом, равнодушно отвернулся от них: туннель и укрепления, похоже, интересовали его куда больше, чем вверенные ему люди. Подошедшим знакомиться подчиненным протянутые руки сдавил, но сам представляться не стал. Молча кивал, запоминая очередное прозвище, и пыхал в лицо синей папиросной гарью, обозначая дистанцию. В тени приподнятого забрала мертвенно, тускло поблескивал окантованный шрамами глаз-бойница. Настаивать никто из дозорных ни тогда, ни позже не отважился, и вот уже два месяца его называли просто «бригадиром». Решили, что станция раскошелилась на одного из тех дорогостоящих наемников, что вполне обходятся без прошлого и без имени.
Хантер.
Гомер беззвучно пожевал странное слово на губах. Больше подходит для среднеазиатской овчарки, чем для человека. Он тихонько сам себе улыбнулся: надо же, помнит еще, что были такие собаки. Откуда это все в голове берется? Бойцовая порода, с куцым обрубленным хвостом и срезанными под самый череп ушами. Ничего лишнего.
А имя, если повторять его про себя долго, начинало казаться неуловимо знакомым. Где же он мог слышать его раньше? Влекомое бесконечным потоком сплетен и баек, оно некогда зацепило его чем-то и осело на самое дно памяти. А сверху уже нанесло толстый слой ила: названия, факты, слухи, цифры – все эти бесполезные сведения о жизни других людей, которые Гомер с таким любопытством слушал и так усердно старался запомнить.
Хантер… Может быть, рецидивист, за голову которого Ганза объявила награду? Старик бросил пробный камень в омут своего склероза и прислушался. Нет, мимо. Сталкер? Не похоже. Полевой командир? Ближе. И, вроде бы, даже легендарный…
Гомер еще раз исподтишка глянул на бесстрастное, будто парализованное лицо бригадира. Его собачье имя ему все же удивительно шло.
– Мне нужна тройка. Возьму Гомера, он знает здешние туннели, – не оборачиваясь к старику и не спрашивая его согласия, продолжал бригадир. – Еще одного можете дать по своему усмотрению. Ходока, курьера. Пойду сегодня же.
Истомин суетливо дернул головой, одобряя, потом, опомнившись, вопросительно поднял глаза на полковника. Тот, насупленный, тоже буркнул, что не имеет ничего против, хоть все эти дни и сражался так отчаянно с начальником станции за каждого свободного бойца. С Гомером советоваться, похоже, никто не собирался, но он и не думал спорить: несмотря на свой возраст, старик никогда еще не отказывался от подобных заданий. И на это у него были свои причины.
Бригадир оторвал от стола свой пудовый шлем и двинулся к выходу. Задержавшись на миг в дверях, бросил Гомеру:
– С семьей попрощайся. Собирайся надолго. Патронов не бери, я выдам, – и канул в проеме.
Старик подался, было, за ним, надеясь хотя бы в общих словах услышать, к чему предстоит готовиться в этом походе. Но когда он показался на платформе, Хантер был уже в десятке своих широких шагов, и догонять его Гомер не стал, а только покачал головой, провожая взглядом.
Вопреки обычному, бригадир остался с непокрытой головой: забыл, задумавшись о другом, или, может, сейчас ему не хватало воздуха. И когда он миновал стайку бездельничающих в обеденный перерыв молоденьких свинарок, вслед ему брезгливо зашуршало: «Ой, девочки, надо же, какой урод!».
– Где ты его только выкопал? – облегченно обмякнув на стуле и протягивая пухлую ладонь к пачке нарезанной папиросной бумаги, спросил Истомин.
Говорят, листья, которые с таким удовольствием курили на станции, сталкеры собирали на поверхности где-то чуть ли не в районе Битцевского парка. Как-то раз полковник шутки ради поднес к пачке «табака» дозиметр; тот и вправду принялся нехорошо пощелкивать. Старик бросил курить в одночасье, и кашель, терзавший его по ночам, стращая раком легких, стал понемногу отступать. Истомин же в историю о радиоактивных листьях верить отказался, не без резона напомнив Денису Михайловичу, что в метро в той или иной степени «светится» все, за что ни возьмись.
– Старые знакомства, – нехотя отозвался полковник; помолчав, довесил: – Раньше он таким не был. Что-то произошло с ним.
– Да уж, судя по его физиономии, что-то с ним определенно произошло, – хмыкнул начальник и тут же оглянулся на вход, словно Хантер мог задержаться и случайно его подслушать.
Командиру защитного периметра грех было жаловаться на то, что бригадир нежданно вернулся из холодного тумана прошлого. Едва появившись на станции, он превратился чуть ли не в главную точку опоры этого периметра. Но до конца поверить в его возвращение Денис Михайлович не мог до сих пор.
Известие о гибели Хантера – страшной и странной – туннельным эхом облетело метро еще в прошлом году. И когда два месяца назад он возник на пороге полковничьей каморки, тот поспешно перекрестился, прежде чем отпереть ему дверь. Подозрительная легкость, с которой воскресший преодолел блокпосты – будто пройдя сквозь бойцов, – заставляла сомневаться в том, что чудо это было благое.
В запотевшем дверном глазке виднелся вроде бы знакомый профиль: бычья шея, выскобленный до блеска череп, чуть приплюснутый нос. Но ночной гость отчего-то застыл вполоборота, опустив голову и не делая попыток разредить загустевшую тишину. Укоризненно посмотрев на откупоренную бутыль браги, стоявшую на столе, полковник вдохнул поглубже и отодвинул засов. Кодекс предписывал помогать своим – не проводя различий между живыми и мертвыми.
Хантер оторвал взгляд от пола, только когда дверь распахнулась; стало ясно, отчего он прятал вторую половину своего лица. Боялся, что старик его просто не узнает. Даже навидавшийся всякого полковник, для которого командование гарнизоном Севастопольской было просто почетной пенсией в сравнении с прежними бурными годами, увидев его, поморщился, словно обжегшись, а потом виновато рассмеялся – прости, не сдержался.
Гость в ответ даже не улыбнулся. За прошедшие месяцы жестокие шрамы, обезобразившие его лицо, успели немного поджить, но прежнего Хантера он старику все равно почти ничем не напоминал.
Объяснять свое чудесное спасение и последующее отсутствие он наотрез отказался, и на все вопросы полковника попросту не откликался, будто не слыша их. Хуже того, попросил Дениса Михайловича никому о своем появлении не сообщать – предъявил к оплате старый долг. Тому пришлось придушить здравый смысл, требовавший немедленно известить старших, и оставить Хантера в покое.
Впрочем, справки старик осторожно навел. Гость его ни в чем замешан не был, и никто его, давно оплаканного, уже не разыскивал. Тело, правда, так и не было обнаружено, но, выживи Хантер, он непременно дал бы о себе знать, уверенно сказали полковнику. Действительно, согласился он.
Зато, как это часто случается с бесследно пропавшими, Хантер, а вернее, его размытый и приукрашенный образ, всплыл в добром десятке полуправдивых мифов и сказаний. Похоже, эта роль его вполне устраивала, и разубеждать похоронивших его заживо товарищей он не спешил.
Помня о своих неоплаченных счетах и сделав верные выводы, Денис Михайлович утихомирился и даже стал подыгрывать: при посторонних Хантера по имени не называл, и, не вдаваясь в детали, приобщил к тайне Истомина.
Тому было, в общем, все равно: свою похлебку бригадир отрабатывал с лихвой, днюя и ночуя на передовой, в южных туннелях. На станции его почти не было заметно: приходил раз в неделю, в свой собственный банный день. И пусть даже он забрался в это пекло только ради того, чтобы спрятаться там от неведомых преследователей – Истомина, никогда не брезговавшего услугами легионеров с темной биографией, это не смущало. Лишь бы только дрался; а уж с этим все было в порядке.
После первого же боя роптавшие дозорные, недовольные высокомерием нового командира, примолкли. Единожды увидев, как он методично, расчетливо, с нечеловеческим холодным упоением уничтожает все дозволенное к уничтожению, каждый из них что-то для себя о нем понял. Сдружиться с нелюдимым бригадиром больше никто не пытался, но подчинялись ему беспрекословно, так что свой глухой, надорванный голос он никогда не повышал. Было в этом голосе что-то гипнотическое, и даже начальник станции принимался покорно кивать каждый раз, когда Хантер к нему обращался – даже не дослушав его до конца, просто так, на всякий случай.
Впервые за последние дни воздух в истоминском кабинете стал легче – будто здесь только что разразилась и миновала беззвучная гроза, принеся долгожданную разрядку. Спорить больше было не из-за чего. Лучшего бойца, чем Хантер, не существовало; если и он сгинет в туннелях, севастопольцам останется только одно.
– Я распоряжусь о подготовке операции? – первым предложил полковник, зная, что начальник станции все равно заговорит об этом.
– Трех суток тебе должно хватить, – Истомин чиркнул зажигалкой, прищурил глаз. – Больше мы их ждать не сможем. Сколько народу понадобится, как думаешь?
– Один ударный отряд ждет приказов, займусь другими, там еще человек двадцать. Если послезавтра о них, – полковник мотнул головой в сторону выхода, – ничего не будет слышно, объявляй всеобщую мобилизацию. Будем прорываться.
Истомин приподнял брови, но вместо того, чтобы возразить, глубоко затянулся еле слышно потрескивающей самокруткой. Денис Михайлович загреб несколько валявшихся на столе исчерканных листов и, близоруко склоняясь к бумаге, принялся чертить на них таинственные схемы, вписывая в кружочки фамилии и клички.
Прорываться? Начальник станции смотрел поверх седого стариковского затылка, сквозь плывущую табачную дымку на большую схему метро, висящую у полковника за спиной. Пожелтевшая и засаленная, испещренная чернильными пометками – стрелками марш-бросков и кольцами осад, звездочками блокпостов и восклицательными знаками запретных зон, схема эта была летописью последнего десятилетия. Десяти лет, из которых ни дня не прошло спокойно.
Вниз от Севастопольской пометки обрывались сразу за Южной: на памяти Истомина оттуда не возвращался никто. Долгая, ползущая вниз ветвистым корневищем линия оставалась девственно чистой. Завоевание Серпуховской линии оказалось севастопольцам не по зубам; здесь вряд ли хватило бы и всех натужных сил беззубого от лучевой болезни человечества.
Теперь же белесый туман неизвестности окутывал и тот обрубок их ветки, что упорно тянулся вверх, к Ганзе, к людям. Никто из тех, кому полковник завтра велит готовиться к бою, не откажется. На Севастопольской война на истребление человека, начавшаяся более двух десятилетий назад, не заканчивалась ни на минуту. Когда много лет живешь бок о бок со смертью, страх умереть уступает место равнодушию, фатализму, суевериям-оберегам и звериным инстинктам. Но кто знает, что ждало их впереди, между Нахимовским проспектом и Серпуховской. Кто знает, можно ли было вообще прорвать эту загадочную преграду и было ли там куда рваться.
Он припомнил последнюю свою поездку на Серпуховскую: базарные лотки, лежанки бродяг да ветхие ширмы, за которыми спят и любят друг друга те жители, что посостоятельней. Своего там ничего не выращивали, не было ни теплиц, ни загонов для скота. Вороватые, юркие серпуховчане кормились спекуляцией, перепродавая лежалый товар, за бесценок купленный у опаздывающих караванщиков, и оказывая гражданам Кольцевой услуги, за которые дома тех ждал бы суд. Не станция, а гриб-паразит, нарост на мощном стволе Ганзы.
Союз богатых торговых станций Кольцевой линии, Ганзой метко окрещенный в последнюю память о своем германском прообразе, оставался оплотом цивилизации в погружающемся в трясину варварства и нищеты метро. А Ганза… Ганза – это регулярная армия, электрическое освещение даже на самом бедном полустанке и гарантированный кусок хлеба каждому, у кого в паспорте стоял заветный штемпель о гражданстве. Паспорта такие на черном рынке стоили целое состояние, но если обладателя фальшивки удавалось уличить ганзейским пограничникам, платить ему приходилось головой.
Богатством и силой Ганза была обязана, конечно, своему расположению: Кольцевая линия опоясывала пучок остальных веток, пересадочными станциями открывая доступ к каждой из них и спрягая их воедино. Челноки, везущие чай с ВДНХ, и дрезины, доставляющие патроны из оружейных дворов на Бауманской, предпочитали сгружать свой товар на ближайшем ганзейском таможенном посту и возвращаться домой. Лучше уж дешевле отдать, чем в погоне за выгодой пускаться по всему метро в странствие, которое могло оборваться в любой миг.
Ганза иногда присоединяла смежные станции, но чаще они были предоставлены сами себе и превращались, при ее попустительстве, в серую территорию, где велись те дела, в причастности к которым ганзейские бонзы не хотели быть уличены. Радиальные станции, разумеется, были наводнены ее шпионами и на корню скуплены ее дельцами, но формально оставались независимы. Такова была и Серпуховская.
В одном из ведущих к ней перегонов навеки остановился состав, не успевший добраться до соседней Тульской. Обжитый сектантами и потому отмеченный на истоминской схеме сухим католическим крестиком, поезд превратился в затерянный посреди черной пустоши хутор. Если бы не рыщущие по соседним станциям миссионеры, падкие на заблудшие души, Истомин против сектантов и вовсе ничего бы не имел. Впрочем, до Севастопольской божьи овчарки не добирались, а проходящим мимо путникам они особых препятствий не чинили – разве что чуть задерживали их своими душеспасительными беседами. К тому же, второй туннель от Тульской к Серпуховской был чистым и пустым, им и пользовались местные караванщики.
Истомин снова скользнул взглядом вниз по линии. Тульская? Постепенно дичающий поселок, которому перепадают крохи от марширующих мимо севастопольских конвоев и ушлых серпуховских торгашей. Живут, чем бог пошлет: кто починяет разнообразный механический хлам, кто ходит на заработки к ганзейской границе, сидя целыми днями на корточках в ожидании очередного прораба с рабовладельческими замашками. «Тоже бедно живут, но ведь нет у них в глазах склизкой серпуховской жуликоватости, – подумал Истомин, – и порядка там куда больше. Опасность, наверное, сплачивает».
Следующая станция, Нагатинская, на его схеме была отмечена короткой черточкой – пусто. Полуправда: подолгу на ней никто не задерживался, но, случалось, копошился разномастный сброд, ведущий сумеречное, полуживотное существование. В кромешной тьме сплетались сбежавшие от чужих глаз парочки. Иной раз разгорался меж колонн чахлый костерок, у которого роились тени туннельных душегубов, собравшихся на тайную сходку.
Но на ночевку здесь останавливались только несведущие или самые отчаянные: далеко не все из посетителей станции были людьми. В шепчущем, желеобразном мраке, которым была заполнена Нагатинская, мелькали иногда, если приглядеться, подлинно кошмарные силуэты. И время от времени, ненадолго распугивая бездомных, раздирал спертый воздух истошный вопль бедолаги, которого утаскивали в логово, чтобы там неторопливо сожрать.
За Нагатинскую бродяги ступать не отваживались, и до самых оборонных рубежей Севастопольской простиралась «ничья земля». Название условное: у нее, разумеется, были хозяева, которые блюли свои границы, и даже севастопольские разведгруппы предпочитали избегать встреч с ними.
Но сейчас в туннелях появилось нечто новое. Невиданное. Поглощающее всех, кто пытается пройти давно, казалось бы, изученным маршрутом. И как знать, сможет ли его станция, даже призвав к оружию всех боеспособных своих жителей, выставить достаточное воинство, чтобы побороть его… Истомин тяжело поднялся со стула, прошаркал к карте и отчертил химическим карандашом отрезок, шедший из точки с надписью «Серпуховская» в точку с надписью «Нахимовский проспект». Рядом поставил жирный вопросительный знак. Хотел нарисовать его у Проспекта, а получилось ровно напротив Севастопольской.
На первый взгляд Севастопольская казалась необитаемой. На платформе не было заметно и следа привычных армейских палаток, в которых обычно жили на других станциях. Здесь, еле очерченные несколькими тусклыми лампами, темнели лишь муравьиные кучи окопов, сложенных из мешков с песком. Но огневые позиции были пусты, а на скупых квадратных колоннах густо лежала пыль. Все было сделано так, что, случись попасть сюда постороннему, он непременно решил бы: станция давно заброшена.
Однако если бы непрошеному гостю взбрела в голову мысль задержаться хоть ненадолго, он рисковал остаться здесь навсегда. Круглосуточно дежурившие на смежной Каховской пулеметные расчеты и снайперы занимали свои места в окопах за считанные секунды. Вместо слабых лампочек под потолком вспыхивали безжалостные ртутные светильники, выжигая глазную сетчатку привыкшим к туннельной тьме людям и чудовищам.
Платформа была последним и самым тщательно продуманным оборонным рубежом севастопольцев. А их жилища размещались в утробе этой станции-обманки, в подплатформенных коллекторах. Под гранитными плитами пола, скрытый от чужих глаз, находился еще один этаж, площадью не уступавший основному залу, но разбитый на множество ячеек. Хорошо освещенные, сухие и теплые комнаты, мерно гудящие аппараты для очистки воздуха и воды, гидропонические теплицы… Ощущение безопасности и уюта приходило к обитателям станции, только когда они забивались еще глубже под землю.
Гомер знал, что решающее сражение ждет его не в северных туннелях, а дома. Пробираясь по узкому коридору мимо приоткрытых дверей чужих квартир, он плелся все медленнее и медленнее по мере того, как приближалась его собственная. Надо было еще раз обдумать тактику и отрепетировать свои реплики; времени оставалось все меньше.
– Что поделать? Приказ… Сама знаешь, какая ситуация. Меня даже не спросили. Ну что ты как девочка? Просто смешно! Да не напрашивался я! Не могу. Что ты! Не могу, конечно. Уклоняться? Это же дезертирство! – бормотал он себе под нос, то примеряя возмущенную, решительную интонацию, то уходя в минор и пытаясь ласково уговорить кого-то.
Добравшись до порога своей комнаты, забубнил все заново. Нет, слез было не миновать, но отступать он не собирался. Нахохлившись и приготовившись к бою, старик потянул дверную ручку вниз.
Из девяти с половиной квадратных метров – великой роскоши, которой он в свое время прождал в очереди пять лет, мыкаясь по общежитиям – два занимала солдатская двухъярусная кровать, метр – обеденный стол, застеленный нарядной скатеркой, а еще три – огромная, до потолка кипа ветхих газет. Живи он бобылем, в один прекрасный день эта гора непременно обрушилась бы на него и погребла под собой. Но пятнадцать лет назад он встретил женщину, которая готова была не только терпеть присутствие такого количества пыльной макулатуры в своем крохотном домике, но и бережно подравнивать ее, не позволяя превратить свой очаг в бумажные Помпеи.
Она вообще была готова терпеть многое. Бесконечные газетные вырезки с тревожными заголовками вроде «Гонка вооружений набирает обороты», «Американцы испытали новую противоракету», «Наш ядерный щит крепнет», «ПРОвокации ПРОдолжаются» и «Терпение лопнуло», которыми словно обоями были сверху донизу обклеены стены комнатушки. Его ночные бдения с изгрызенной шариковой ручкой над кипой школьных тетрадей при электрическом свете – о свечах с таким ворохом бумаги в их доме и речи не могло идти. Его полушутливое-полушутовское прозвище, которое он сам носил с гордостью, а остальные выговаривали со снисходительной улыбочкой.
Многое, но не все. Не его мальчишеское стремление всякий раз забираться в самый эпицентр урагана, чтобы посмотреть, как там оно все на самом деле, – это почти в шестьдесят лет! И не легкомыслие, с которым он соглашался на любые поручения начальства, забывая о том, что после одного из недавних походов еле выкарабкался с того света.
Не мысль, что она может потерять его и снова остаться совсем одна.
Проводив Гомера в дозор – его черед дежурить выпадал раз в неделю, – она никогда не сидела дома. Скрываясь от тревожных мыслей, шла к соседям, на работу не в свою смену. Мужское равнодушие к смерти казалось ей глупым, эгоистичным, преступным.
Дома он застал ее по случайности – забежала переодеться после работы. Продела руки в рукава заплатанной шерстяной фуфайки, и так и осталась – волосы, темные с уже хорошо заметной проседью, хоть ей не было еще и пятидесяти, встрепаны, в бледных карих глазах – испуг.
– Коля, что-то случилось? У тебя же дежурство допоздна?
И Гомеру вдруг расхотелось сейчас говорить ей о принятом решении. Он заколебался: может, успокоив ее пока, сообщить между делом за ужином?
– Только врать не вздумай, – перехватив его блуждающий взгляд, предупредила она.
– Понимаешь, Лен… Тут такое дело, – начал он.
– Никто не?.. – она спросила сразу о главном, о страшном, не желая даже произносить вслух слово «умер», словно веря, что ее дурные мысли могут материализоваться.
– Нет! Нет, – Гомер замотал головой. – С дежурства меня просто сняли. К Серпуховской посылают, – буднично добавил он.
– Но ведь, – Елена запнулась. – Ведь там… Разве они уже вернулись? Там же…
– Да брось, ерунда какая. Ничего там нет, – заспешил он.
Елена отвернулась, подошла к столу, переставила зачем-то с места на место солонку, расправила складку на скатерти.
– Я сон видела, – она кашлянула, счищая хрипотцу.
– Ты все время их…
– Нехороший, – упрямо продолжила она и вдруг жалко всхлипнула.
– Ну что ты? Что я могу… Это же приказ, – сбиваясь, понимая, что все его подготовленное выступление гроша ломаного не стоят, мямлил он, поглаживая ее пальцы.
– Вот пусть одноглазый сам и идет туда! – зло, уже сквозь слезы, бросила она, отдергивая руку. – Пусть черт этот полосатый туда идет, со своей береткой! А то они только приказывать… Ему-то что? Он всю жизнь с автоматом под боком проспал вместо бабы! Что он понимает?
Доведя женщину до слез, утешить ее, не перешагнув через себя, нельзя. И стыдно было Гомеру, и по-настоящему жаль ее, но так просто было сломаться сейчас, пообещав отказаться от задания, успокоить, высушить слезы – чтобы потом раскаиваться, жалея об упущенном шансе? Последнем, может быть, шансе, который выпадал ему в жизни, по нынешним меркам и так уже порядком затянувшейся.