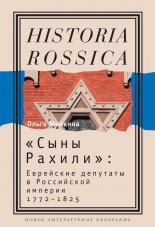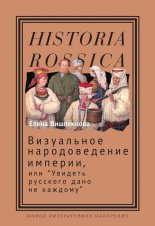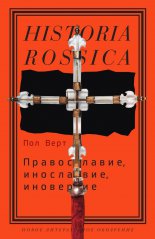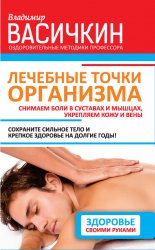Сага о стройбате империи Боброва Лариса
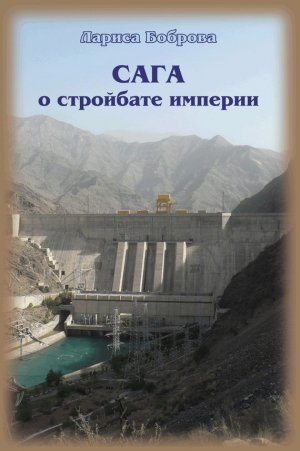
– Пять лет.
Ей объяснили: Кызыл-Таш сейчас другой, почти завод, бетон в три смены, от того, что было, мало чего осталось, молодость, в общем-то, прошла…
Она притихла, внутри всё как бы затаилось.
5. Давай вернёмся на семь лет назад
Музтор начинался одним махом, огромной приливной волной – строители, уже справившиеся с возведением первой ГЭС Нарынского каскада, поставили палатки и били дорогу к створу, равняли террасы в пойме левобережного притока, ставили первые щитовые дома и двухкомнатные «педеушки», собиравшиеся из двух, похожих на вагончики блоков, сложенных вместе широкой стороной. А из проектов не было ничего – ни проекта самой ГЭС, ни посёлка, ни дорог, ни даже, кажется, геологического обоснования. И на Музтор нагнали народу из проектных организаций всего Союза – киевляне проектировали промбазы; малый бетонный завод и гравийный – ленинградцы, куйбышевцы – организацию производства работ, дороги – тбилисцы, прекрасно певшие по вечерам… И только посёлок и плотину оставили Ташкенту, упустившему два года и уже не могущему справиться со всем. Естественно, ничего не было и по туннелям, даже на уровне технического обоснования. В Спецпроекте тут же была сколочена ударная группа рабочего проектирования, и Шкулепову отправили туда прямо из Нурека, даже не вызвав на перекомандировку в Москву. Был конец октября, в Нуреке стояла по-летнему теплая осень, в Душанбе лил дождь, в аэропорту всем отлетающим, независимо от направления, делали противохолерные прививки… В Ташкенте лепил мокрый снег, а Шамалды-Сай, поселок первой ГЭС Нарынского каскада, ставший в ту осень перевалочной базой и проектным центром, встретил морозом и едва прикрывшим землю снегом. Промерзшая, в светлом плащике, Алиса добежит до почты и даст телеграмму маме: «Срочно вышли пальто, здесь настоящая зима!» Мама с перепугу вышлет и валенки…
Кресла из актового зала Нарын ГЭС были вынесены, а сам зал, с наклонённым в сторону сцены полом – сплошь заставлен письменными столами, но их всё равно не хватало, и за некоторыми сидели по двое, лицом друг к другу или с торцов. Была какая-то весёлая странность в этих наклонённых столах, а на сцене стояли две большие школьные доски и рояль, на котором иногда играли те, кого в детстве учили музыке.
Народу было много, был он, в основном, молодой, собран со всех концов страны, с разным опытом, с разными подходами, информацией и даже типом мышления, и многие сложные вопросы – узловые, на стыке интересов и территорий, и те, с которыми никогда и никому не приходилось иметь дела, часто решались в порядке трепа или общего «мозгового удара». Кто-то взбирался на сцену, рисовал на доске свои проблемы и обращался к залу: «Товарищи!» Все предложения с мест, даже самые нелепые, выслушивались, и всегда находилось единственно оптимальное на сегодняшний день решение. Это рождало удивительно радостное ощущение – мы можем всё! Так было и с отводным строительным туннелем – его почти решено было бить на левом берегу – и достаточно длинным – ташкентцы не исключали вероятности широкой насыпной плотины. Но приехавший из Кызыл-Таша красавец главный инженер в два счета доказал её невозможность из-за отсутствия больших карьеров щебня в округе, перечислил автозаводы и их мощности на перспективу не могущие обеспечить транспортом и половины начатых строек, и т. д. и т. п. Длина туннеля при бетонной плотине сокращалась метров на триста, и уже была нарисована на доске излучина реки, охватывающая правый берег, и, кажется, первыми сказали тбилисцы: «А что, если?» Потому что развязка дороги на левом берегу, совершенно отвесном у створа, требовала больших проходческих работ, высокого скола склона. И строительный туннель, замкнув излучину, перенесли на правый берег, где дорога уже была, едва пробитая, осыпающаяся и узкая, но все-таки была…
В воскресенье Карпинский показывал Алисе новый Ташкент, ставшее, застывшее в архитектуре время, знаки богатства, а не жизни. Восстановленный после землетрясения глинобитный Ташкент превратился в современный город с подчеркнуто восточным колоритом от множества голубых изразцовых куполов, венчающих не только мечети. А она помнила год землетрясения, стойкий запах беды, запах гари и глины разрушенных очагов, тонкую пыль этой пересохшей за века глины в воздухе, палатки вдоль улицы Чайковского; большие, типа асфальтовых, котлы с пловом – запах общей еды и беды… Плакаты в коридорах САО Гидропроекта – «Трясёмся, но не сдаёмся» и ещё что-то вроде: «И вытри сопли, ты в Ташкенте, а не в Скопле»; и перекрытия этих коридоров, под которые они вставали при очередном толчке… И огромным шрифтом, через всю газетную полосу: «Ташкентцы, дети мои…» – обращение какого-то аксакала, сочетание слов, от которого до сих пор сдавливало горло.
Был конец февраля, ледяная корочка заморозка на асфальте и неожиданный ночной снег, утром он под напором солнца валился огромными комьями с деревьев, стремительно таял, оседал, тёк ручьями и рушился с крыш, воздух был прохладен и резок, и только тогда осознался, принялся новый Ташкент – напористой благодатью погоды, непокрытой головой, замёрзшими без перчаток руками… А в Москве не течёт, не тает, не светит так жарко, не звенит от капели, не знобит от резкого воздуха… Они зашли в кассы Аэрофлота, и она взяла билет на следующий день, хотя поначалу собиралась лететь вместе с Карпинским и Кайдашем; но билет был, и она уехала на день раньше, чтоб не выбивать «барабанную дробь хвостом» еще один день… И даже успела на последний двенадцатичасовой автобус, который шёл из Оша в сторону Кызыл-Таша.
В «Верхней» гостинице, возле которой останавливался автобус, мест не было, но с завтрашнего дня для Алисы заказано место в нижней, построенной архитектором Мазановым замечательной «Бастилии», получившей своё название из-за средневекового вида лестничной башни и дренажного рва со стороны озера.
Какое значение имело наличие или отсутствие места в гостинице, когда над головой всеми своими полутора тысячами метров вздымался родной хребет, снившийся ей с внятностью яви. На седловине блестела какая-то игла, а дальше выглядывал двугорбый силуэт следующего хребта, уже за Нарыном, и весь абрис, как единый росчерк, расписывался в своем существовании и постоянстве… Поселок всё также спускался к реке террасами, мостовые и тротуары с арыками выписывали знакомые виражи, а одна из улиц называлась улицей Бокомбаева, оставалось только найти дом 5а и постучать в дверь.
И незачем звонить заму начальника по быту Шепитько, как ей советовали в «Верхней», пусть кто-нибудь другой звонит, он и сам двигался ей навстречу, знакомо припадая на правую ногу. Но дом 5а отыскался раньше, калитка отпиралась самым простым способом: «Матрёна, проводи гостей и запри дверь на щеколду». Алиса поднялась на крылечко и перевела дыхание, а мэр города приостановился, стараясь рассмотреть её в сумерках через огромно разросшийся, сквозящий куст сирени. Дверь оказалась незапертой, за дверью стояла девочка в голубой ленточке и шоколадный куртцхаар.
– Инка, – сказала Алиса, куртцхаар залаял, а девочка обернулась в комнаты:
– Мама, тут какая-то тётя…
И все. Можно расслабиться и, прислоняясь к косяку, ждать, когда к тебе выйдут и узнают. Светланино «здраст…» за миг до узнавания, а ты уже видишь её бледность и неожиданную худобу, лыжные брюки и голубую ленточку дочери, поддерживающую надо лбом такую же массу светлых волос…
– Ой, Люся! – охнула Светлана, – и тут же, сразу: – Я так и знала, что ты приедешь, возьмёшь и приедешь! Инка, это же тётя Алиса, лиса Алиса!
Светлана взялась двумя руками за отвороты её пальто, помогая раздеться, не удержавшись, ткнулась лицом в шею.
– Люська! – Они обнялись, прижались друг к другу.
– Светка! Ты что ж такая худышка?
Светлана вешала пальто тонкими руками, шла впереди на кухню.
– Да вот второго собиралась родить, да не вышло ничего… Больше и пытаться не буду только Инку сиротой оставлю… Мальчишка был бы…
И бабья теплота друг к другу – пили чай на кухне, потом сидели рядышком, вспоминали прошлое, рассказывали о прожитом врозь и о теперешнем.
– А Володька как?
– Да все также, приедет – увидишь! На работе никогда голоса не повысит, дома пар выпускает. Увидишь ещё… Выдали вы меня замуж, ничего не скажешь!
– А ты и ни при чем была!
– Конечно. Вышла бы за Лёву, чего там.
– Ну да! Котомин бы тогда всю общагу разнёс! И так… все ручки от дверей поотрывал!
– А ручки-то когда?
– Ну, снаружи – это в комнату ломился, а внутри, наоборот, из комнаты… Отлетел вместе с ручкой и растянулся. Это когда они с Юркой, поддатые, дружески хлопали друг друга по плечу, «Ты, ты!» Все сильней и сильней, пока не сцепились. И Котомин вывихнул большой палец. Я его затащила в комнату и закрыла дверь на ключ. А эти гаврики ходили под дверью и вопили: «Выходи, Котома, все одно побьём!» Я вправляла ему палец, а он то рыдал: «Шкулепова, больно», то рвался морды бить. Ой, он тогда сшиб с тумбочки ведро с водой, сидит в луже, а я вокруг него воду тряпкой собираю.
– Что-то я не помню про ведро.
– А тебе не рассказывали. Смягчали.
Светлана смеётся:
– А помнишь, как Юрка, чтобы сократить дорогу из туалета, полез через забор и повис на штакетине – «Котома, сыми меня, я немного забалдел!» А мы в этот туалет ходили в дождь в большой соломенной шляпе, вместо зонта, помнишь? А Малышка долго её надевала, отправляясь в туалет… Господи, дурь из нас лезла, но как же мы хорошо жили! Иногда говорят – счастье, счастье… А я, когда про счастье говорят, вспоминаю, как мы втроем дома сидим и хохочем. И чего мы тогда всё смеялись, а? Даже архитектор Мазанов говорил – «пойти в общагу, послушать, как девки смеются…» Я с Володькой и смеяться разучилась.
– Малышка как-то позвала меня во ВГИК курсовую работу посмотреть. Там в перерывах пленку крутили – Малышка смеётся – и все ходят как под кайфом.
– Я думала, она хоть там затеряется!
– Она затеряется, как же. Заходишь, везде красотки, красотки, а потом Малышка летит, глаза от любопытства на полметра впереди лица…
– Точно!
Котомин действительно пришёл хмурый, разделся, не глядя, кто там с «бабой» его сидит, пока Светлана не сказала:
– Ты хоть с гостями поздоровайся, что ли!
И он пошёл к ним в носках, нехотя, исподлобья вглядываясь. А потом как рассвет, медленно светлеющее лицо:
– Люся? – легко выдернул её из дивана на середину комнаты. – Ты откуда взялась?
Рванул в гостиницу за чемоданом.
– Сейчас привезу! С Инкой в комнате будешь спать, а ты даже и не предложила, телка!
Быстро натянул сапоги, хлопнула дверь, заурчал, укатил газик.
– Вот так всю жизнь, – улыбается Светлана, – упреки, подозренья…
6. Котомин – ныне главный взрывник и постыдные фейерверки молодости
…На груди у Котомина шрам – пырнул себя ножом. Шкулепова тут ни при чём, разве что спасала – перевязывала, сев ему на ноги, чтоб не брыкался. Но когда она уехала, и говорили «Шкулепова», он сразу чувствовал этот шрам, словно по нему царапали. Дурак, конечно, приехал сюда – сплошной зажим, сплошной волдырь самолюбия, только нутром знаешь, уверен в потенциальных своих возможностях и силах, за неимением выхода ударявших в голову. И наследственное, от отца – честолюбие, и болезненное, до потери чувства юмора, самолюбие от матери… Светку, с этой массой светлых волос, беспечным смехом, он ещё раньше в поселке засёк и очень обрадовался, когда она тоже оказалась здесь, в ИТРовской общаге, – «Врёшь, теперь не уйдёшь». – А она каблучками цок-цок до Левиных дверей. «Чего ты все смеёшься-то?» – «А что мне, плакать?» Тон-то поначалу девки задавали, вот эта троица. Он даже сразу не понял, что к чему, потом изумился – большая фонотека, книги во всю стену, откуда, с собой навезли, что ли? Навезли и все окрестные кишлаки объездили, тогда в кишлаках что хочешь можно было купить. Новалиса, например. Или подарочное издание Дон Кихота, или собрание сочинений Томаса Манна. Они хохотали у себя в комнате, и постоянно у них кто-то торчал, кто-то ставил крепления на лыжи, что-то приколачивал, москвичи, альпинисты, чёрте кто… Его тянуло туда, где за дверью можно было услышать тихую музыку и среди ночи, после третьей смены. И он стучал, придумывая, что нет хлеба или ещё чего. Но в первый раз действительно хлеба не было, а были колбаса и кефир, и только у девчонок из-под двери пробивалась полоска света. Светка спала, а обе Люськи сидели друг против друга, и Шкулепова пальцами убирала со щёк дорожки слез. Тогда он так и не понял, как можно плакать над этой радостью, которая было все-таки радостью – радостью несмотря и радостью через. И это слилось навсегда – тихая музыка, слезы Шкулеповой и светящиеся Светкины волосы – на её подушке, а не на Левиной, такая печаль и радость.
Потом Светлана объяснила ему, что Шкулепова всегда рыдала над «1812 годом» Чайковского и каким-то концертом Рахманинова безотносительно личных переживаний, а тогда он подумал, что у неё что-то связано с этой пластинкой, что она что-то уже пережила, и, видимо, старше, чем выглядит. Но они были одногодки, вот Светка оказалась постарше, почти на два года, а Шкулепова ровесница, в месяц разница, в февраль. А самая младшая – Люська маленькая.
У Шкулеповой самоуверенность – до полного отсутствия желания нравиться кому бы то ни было, во всяком случае, мужикам. Все или почти все в те времена подкрашивались, ходили по коридору в бигудях, начесывали волосы, выстраивали у себя на головах халы всякие или как там у них это называлось. А тут – ни краски, ни прически – ровно отрезанные прямые волосы, которые она, небрежно собрав, затыкала шпилькой на затылке, машинально, не говоря уж о том, чтобы смотреться при этом зеркало. Постоянно падающая на глаза прядь, постоянно рассыпающиеся по плечам волосы и поиски выпавшей шпильки с отсутствующим видом. Но слушает внимательно, а глаза твердые, серьёзненькие глаза с белком в синеву, в которые не так-то просто смотреть. И ты спотыкаешься об этот взгляд, сбиваешься. А она отворачивается, волосы завешивают лицо. И всё, привет! Дальше вас слушать не будут Неинтересно. И ты злишься, да слушай же, я ведь что хотел сказать! А что ж я собственно хотел сказать? И вразнос – ты думаешь, ты одна такая умная? Тебе говорят, так ты выслушай, а потом нос вороти! И её удивление, даже виноватость во взгляде, и уже смотрит в глаза, заглядывает в лицо – Ну что ты, что ты! И бесящее сочувствие. Но всегда было немного не по себе, вдруг посмотрит через плечо и отвернется – дальше вас слушать не будут! Как она умеет это делать, он видел. А Малышка сидит при этом и таращит глаза, словно под тобой вот-вот взорвется стул, и ей неслыханно интересно, как это будет. Ну, «Малышка» – это так, для смеха, и младшенькая опять же, сразу после техникума, и Малышева, а на самом деле – будь здоров, ростом со Шкулепову да здоровяк, и талия широковата, будто смазана. Это, говорит, расти перестала, и спорт бросила. Все на диете сидела – целый день не ест, а вечером натрескается – пропади всё пропадом! Даже таблетки какие-то ела для похудения, её подначивали – Малявка, ты, видно, больно много этих таблеток ешь…
Поначалу он хотел застрелиться из ружья, причем самым классическим способом, уже ботинок снял… Ружье выбил ввалившийся следом Юра Четверухин, грохнул выстрел. Котомин рванул со стены охотничий нож, но Юрка успел подхватить его под локти, выворачивая руки за спину, и они покатились. Юрка норовил прижать его к полу, но он все-таки приподнялся и сунул нож между грудью и полом. Нож попал на ребро и соскочил, выкраивая кусок тела, и уже со стыда, наверное, Котомин постарался, чтобы этот кусок был побольше. И тут только Светка закричала. И отчетливое – что ж я, дурак, делаю?
И не вспомнить теперь уже, что ж нам было такого, почему «дурак ты, Вова», сказанное Светкой, оказалось последней каплей. Она беременная была тогда и, осторожно ступая, шла по наледи, держась за его рукав. Он вырвался, держалась-то она слабо. Ах, дурак, чего ж ты с дураком-то живёшь? Но теперь он знал, что вспоминать не вспомнишь, не во «вспомнить» дело, дело было в «понять». А понять он тогда ещё не мог. Если б мог, то стал бы спокойным и уверенным, как тот же Багин, скажем. Но тогда ему не хватало именно навыка соотносить себя и окружающих, себя и мир. И отсюда стрельба и прочие фейерверки. Было только ощущение почти подсознательное, клеточное, своей самости…
И объяснение было одно – «по пьянке». Ему и трезвому адреналин так шибал в голову, что ничего не видел, кроме красного тумана. Когда по самолюбию. По пьянке, по молодости, по самолюбию… Эмоции заливают мозги, и ничего не можешь объяснить или доказать, только орёшь какую-то корявую глупость.
А до этого и вовсе темно: ну, Новый год, ну, компания человек двадцать, их уже слишком много для одной компании, и все это у архитекторов Мазановых. И почему-то там оказались Багин с женой, и Шкулепова с Багиным пляшут какую-то несусветную цыганщину. Шкулепова в шали и босиком, а её новенькие туфли на шпильках кто-то ставит на тарелке на стол. И багинская жена, перекрывая всех и вся, насмешливо и сипло: «Ох, ох, любишь же ты, Шкулепова, покрасоваться!»
И как ни прокручивай в памяти этот танец, всё ещё так чисто, светло, так открыто для всех и завидно радостно друг к другу, что пока что между Шкулеповой и Багиным…
А потом какой-то спор, обычный, хлебом не корми, а дай поговорить о мировых проблемах И Светлана одергивает его, но он ещё не заводится, нет Потом – продолжение уже на кухне, что-то об однопартийной и двухпартийной системах. Кто-то говорит, что зачем нам, скажем, в Кызыл-Таше две партии? К примеру, партия Тереха и… Нет, говорит Шкулепова, две партии, и пусть они между собой разбираются, а Тереха и всех нас оставят в покое. Правильно, соглашается Котомин, и мы будем пахать, как пахали, и ещё лучше. И давайте за это выпьем. Кто-то заявляет, что внутри партии могут организоваться какие-то порядочные силы, а циничный Мазанов выдает громогласное: Ха! Что порядочные силы по мере карьерного роста или отсеиваются, или перестают ими быть. А Багин говорит, что таковые вообще не идут на партийную работу. И уже хороший Котомин хватает его за рубашку на груди: А ты зачем в партию вступил? И Багин спокойно отдирает его от себя: «Чтобы иметь право голоса».
Котомин мог с полным правом ухватить Багина за грудки года через полтора, когда Шкулепова зеркалку выдала – чертёж в зеркальном исполнении. А кому бы тогда пришло в голову проверять Шкулепову которая всегда работала, как две очень хорошие вычислительные установки и даже лучше? Сама по себе ошибка не дала бы такого эффекта и, скорее всего, попала бы в разряд казусов, редко, но всё же случающихся, не совпади она по закону подлости с тектоническим разломом. И Котомин заделал такой вывал – месяц латали. Багин к тому времени стал начальником технадзора, прибежал на горяченькое, как же. Вот тогда Котомин мог ухватить его за грудки и с полным правом приложить к стенке, к арке, к чему угодно! Но он только сказал: катись-ка ты отсюда, а? Подобру-поздорову. И даже не оглянулся. Знал, что через минуту Багина здесь не будет И его не стало.
А тогда кровавое пятно расплывалось по рубашке, ахнувшая Малышка бросилась вон – за «скорой», Юра приподнял Котомина за руки, за плечи, почти посадил, Шкулепова говорила: «Всё, Володя, всё» и прижимала котоминские ноги к полу руками и коленками. «Света, простыню!» И почти села коленками на его мослы при очередной попытке взбрыкнуть. Он и сам понимал, что всё, но дернулся ещё разок, хотя у Шкулеповой лицо было, как простыня, и такие же губы. Когда она задрала на нем рубашку, кровь совсем ушла с её с лица, и он вдруг начал канючить: «Шкулепова, не говори Багину». Она кивнула и, разодрав простыню вдоль, туго перетянула его по ребрам, а он все канючил: «Шкулепова, только не говори Багину».
Багин прибежал на следующий день, когда у них сидели только свои – Юра, обе Люськи, ну, и они со Светланой. Прибежал и сразу быка за рога: «Я вот раз скажу, а потом – кто старое помянет, тому глаз вон». Котомин успел только глянуть на Шкулепову и тут Люська Маленькая заныла: «Володя, это я сказала, я не знала, что ты просил не говорить». «Очень хорошо, что сказала». Багинский голос звенел, что он говорил? Видимо, что-то о ценности жизни и подлости смерти, да и неважно, что говорил, но голос, но почти крик, но убеждение и просьба… Котомин тогда как-то понял, почему именно Багина любит Шкулепова, а что любит, он понял вчера, что они любят друг друга, и что возможно, сами не знают и не узнают никогда. И в том, что прибежал, и в том, что говорил и как, было столько любви и заботы, и всё это через Шкулепову, или, наоборот, через него к ней, что Котомин подумал, что Шкулепова очень хорошо к нему, Котомину относится, хотя до сих пор не понимал, за что. И хотя убеждал, снимал стыд и тяжесть и отпускал грехи Багин, он тогда подумал ещё, что если есть у него впереди тяжелая минута, то дай, Господи, чтобы в эту минуту рядом оказались Шкулепова и Люська маленькая. Или хотя бы одна Шкулепова. Но лучше, чтоб и Люська маленькая. А Светлана чтоб дома ждала. И только сейчас удивился, почему он тогда подумал про девок «если будет трудная минута», а не о Юрке Четверухине, скажем. Ведь Юрка свой до потрохов, со школы, и сюда вместе приехали, и такой надежный, а девки, ну что с них взять, да и уехали одна за другой. Но вот приехала Шкулепова, сидит, кутается в шарф, с бабой его треплется, и будто всё в жизни встало на свои места. И до чего он Шкулеповой рад! А Саня Птицын как обрадуется, у него ведь день рождения сегодня!
Котомин ввалился в администраторскую.
– Где чемодан? – увидел клетчатый чемодан и сумку в углу, – это, что ли, шкулеповские?
Дома газик загнал в ограду, вещи поставил на порог, слил воду. Ночами еще подмораживало. За шепитьковским штакетником чем-то шуршал хозяин, бледное в сумерках пятно лица обращено во двор Котоминых.
– Гости приехали?
– Ну.
И уже дома:
– Люсь, надевай красивое платье, длинное и красивое, я тебя к Птицыну в подарок отведу. Не взяла красивого платья? А юбка хоть есть?
– У меня есть красивая косынка, я её бантом на шею повяжу.
– Ну хоть бантом, подарок же! Мы сейчас по посёлку пройдём и соберём всех. Бабы наверно, давно там салаты режут. Нет, мы к Веберам не ходим, к Веберам Манукяны ходят. У Юрки вторая дочь, три месяца. А у Шамрая второй сын. Обойдем всех. – И Светлане: – А ты с Инкой вперёд иди, только про Шкулепову ни-ни!
Лицо Шепитько все белело за оградой.
– Вы теперь соседи?
– Ну! Вся жизнь, как видишь, под неусыпным оком! Пошли, Алиса Львовна, Пошли!
7.[5] Пётр Савельевич Шепитько, зам. начальника по быту, он же – «мэр города», он же – «пионер Петя»
Светлана с дочерью через калитку вышли на улицу, Котомин с женщиной через въезд для машины позади двора, а Пётр Савельевич Шепитько смотрел им вслед. К гостинице не пошли, дальше двинулись, Котомин женщину за плечи обнимает, длинные полы охлёстывают ноги, а у Петра Савельевича в сознании взлетает чёрный флажок тревоги, взлетает и взлетает. Вот оно что, вспомнил он, девица эта раньше здесь работала, в одной комнате со Светланой жила, в ИТРовском общежитии. И флаг-то – чёрный, пиратский – на этом общежитии был водружен, вот откуда флажок! Он тогда не только словам не поверил, глазам не поверил! Подъехал, смотрит – так и есть, чёрный пиратский флаг с черепом и костьми, а вместо номерного знака табличка – «ИТРовский тупик». Вот на что образование пошло! Не зря он огорчился, увидев долгополую фигуру прямо по курсу: ну вот, ещё одна моду показывает. Петра Савельевича раздражало всякое отклонение от привычного, как-то уже забылось, что лет пять назад его также возмущали «мини» и сверкающие коленки девиц, а теперь и на колени толстых бабищ не обращает внимания. Забылось, что в своё время боролся он с женскими брюками и с узкими – на парнях, восхищаясь, что где-то, как он слышал, эти брюки вспарывали модникам прямо на улицах. Боролся он в своё время и с крашеными волосами, даже заметку в многотиражку написал – о красоте натурального волоса. Долгополая фигура расстроила его как очередная напасть, с которой бороться ему не дадут, и походка была вольная, но не так, чтоб уж очень уверенная, а оно вон ведь что…
Ох, и измотали они его тогда! Ну, флаг приказал снять, табличку оторвал собственноручно, благо для его роста ничего не высоко, так ведь не одно, так другое. Смотришь – ночь на дворе, а весь дом в огнях, бродят из комнаты в комнату, не поймешь, кто где живет То спинки от кроватей снимут – спинки им, видите ли, помешали, то самодельную афишу на центральной площади повесят, он ведь не понял тогда, упустил эту афишу, думал, настоящая афиша, вот как подделали! А потом носили Птицына на руках по всему посёлку, вместе с этой хоругвью. И не тронь их – Зосим Львович Терех вместе с Карапетом, который тогда по совместительству парторгом управления был, – не дали дело до конца довести – «они же руководители производства, мастера, прорабы, нельзя их перед рабочими срамить!» А надо бы. Чтоб стыдно было перед рабочим классом. Да и с моральным обликом не все там было благополучно. Правда, как ни старались комсомольские патрули, ни разу с поличным не поймали. Только не бывает дыма без огня, ох, не бывает! Эта вот, в длинной шубе, еще выдержанная была, а третья с ними жила! То бутылку в нос суёт нюхать, а в ней бензин вместо предполагаемого спиртного, то тапочками в комсорга запустит или воспитательницу дверью прищемит, а Карапет – «Кого вы им в воспитатели поставили! Им же… академика надо!» Сам-то хорош. Нынче поутихли, конечно, и Птицын, и Котомин, а только все равно – несолидные люди занимают солидные должности. И наоборот. Что наоборот, рассердился Пётр Савельевич сам на себя, ничего не наоборот, время всему своё место укажет, а Зосим Львович ещё наплачется с ними, помянет мое слово! И чувствуя, как стынет лицо от обиды на неуправляемость жизни, Пётр Савельевич отправился в дом, в свой кабинет, где не позволял жене ничего трогать. Сел к столу, положил перед собой белый лист бумаги и вечное перо. Долго сидел, прежде чем вывести первую строчку: «сегодня у строителей ГЭС праздник.» И отпустило, прошло, сердце радостно отсчитывало в груди вдохновенные, просветленные минуты творчества, и он наконец чувствовал себя тем, кем и должен быть – газетчиком. У него и на титульном листе трудовой книжки написано – «газетчик», с шестнадцати лет написано! И ничего, что в книжке – шофер третьего класса, механик, завгар, парторг и так – до Зама начальника строительства по быту. Так сложилась жизнь, на все более ответственные посты выдвигала его, и не сбылась мечта в том объёме, о котором мечталось. Разве маленькая заметка выйдет, да и то урежут, сократят – однажды так сократили, что вместо компрессорного агрегата – ГЭС запустили. Очень Зосим Львович рассердился тогда, сгоряча совсем писать запретил. А только свой брат корреспондент все равно выделяет его, первым делом к нему идут, первая информация – из его рук. Да и о нём расспрашивают, о жизненном пути и вообще. Не удержишься, расскажешь что-нибудь, а они и напишут, значит, интересна его жизнь для широкого читателя. А Зосим Львович опять сердится. В последний раз спросили у него, не фронтовик ли, нога вот… Не удержался, рассказал, как пионером не побоялся, сообщил куда надо про кулака, прячущего хлеб, и повесить его враги хотели, как Павлика Морозова, но он сорвался с петли, и вот, нога… Про ногу он зря, конечно, Ах, сюжеты, сюжеты, каких он только не примерял на свою жизнь!
Он достал из бокового ящика тетрадку, в которую заносил все важнейшие события, а также всё полезное и поучительное, что слышал от Зосима Львовича, со своими комментариями. Возможно, когда-нибудь он напишет книгу об этом грандиозном строительстве и о Зосиме Львовиче Терехе, его начальнике. Пётр Савельевич открыл тетрадку. Прежде чем приступить к новой записи, он читал что-нибудь наугад. «Велик и могуч советский народ!» сказал на это не верящим Зосим Львович, и такая сила прозвучала в его словах, что все поверили – «сможем!»
Петр Савельевич не удержался, всю тетрадь прочёл, от корки до корки – ах, какая основа! Какая книга может получиться! Он напишет все с самого начала, как все начиналось, как мужал коллектив, как… И тут услышал, вдалеке Птицын вопит на всю улицу: «Отелло, мавр венецианский, один домишко посещал! И следом грянул хор: «Шекспир узнал про ето дело и водевильчик написал!»
Шуму будто человек сто идет. А поселок уже спит, между прочим, людям на работу завтра. Пётр Савельевич погасил настольную лампу. Выглянул в окно – действительно, толпа. Выйти бы, приструнить, но они сами притихли, остановились у его калитки, только хихикают и громыхают чем-то. То ли калитку на цепь замкнут, то ли еще чего сотворят. Погромыхали и перестали, к котоминскому дому направились. Прощаются. Разошлись, слава Тебе, Господи!
Ну так и есть, афиша от кинотеатра! Не поленились, притащили! «Блеск и нищета куртизанок!»
8. Саня Птицын во всей своей красе
Алиса с Котоминым зашли по дороге за Юрой, теперь уже Юрием Андреевичем Четверухиным, начальником участка плотины, но «куда мне до Котомы», который теперь главный инженер управления туннельных работ. Ерничающий Котомин встал в позу памятника: «Я с детства знал, что меня ждет должность!»
У манукяновских детей точеные отцовские лица, а волосы и глаза светлые, мамины… Шамраевский Акселерат вымахал выше отца, это в восьмом-то классе – «В девятом! – он приветливо взглянул на Алису. – Что-то я вас не припоминаю… – вдруг вспомнил, – А, вы подруга тети Люси Малышевой! У вас еще были длинные волосы! Зря вы их отрезали…» Повернулся к ней шамраевским профилем овна. Отец вынес на согнутом локте младшенького, Пацифиста, стал уговаривать его «стукнуть» тетю. Акселерат улыбался, младшенький что есть сил заводил за спину руку со сжатым кулачком. «Ты бы лучше папу стукнул», – сказала Алиса. Но малыш не желал «стукать» и папу, хотя Шамрай и пытался проделать это насильно – Пацифист, одним словом. А потом её вели закоулками к дому Сани Птицына, и Котомин кричал ехидным голосом: «А, это та Шкулепова, за которой мужики табуном ходили?» – и ссылался на жену пионера Пети, как на первоисточник. А Шкулепова никак не могла припомнить, когда это за ней мужики табуном ходили, и никак не могла взять в толк, кто такой пионер Петя. А это, оказывается, теперь партийная кличка Петра Савельевича Шепитько.
А у Птицыных уже и стол накрыт, и бабоньки в сборе, дети в спальне визжат, а упарившийся в хлопотах именинник стребовал себе рюмку водки, от которой совсем сомлел и прилег на диванчик. А бабоньки крутят бутылку и по очереди целуют его. Саня похож на ангела, но объятия открывает исправно.
Алиса прикладывает палец к губам, ловит за горлышко крутящуюся бутылку. И целует его. Саня же никак не может понять, кто это ещё пришел, и, не желая выпадать из кайфа и роли, продолжает лежать с закрытыми глазами, но лицо его с длинными белёсыми ресницами становится озабоченным и как бы даже обиженным. Наконец он приоткрывает один глаз.
– Саня, здравствуй! – смеётся Алиса, и Птицын резко садится.
– Откуда ты, родная, взялась? – он снова хватает Алису в объятия. – Люсь, родная, откуда ты взялась?
Саня это Саня. Он кончал их институт годом раньше, и когда Алиса с Колей Пьяновым тоже распределились в Спецпроект, он как бы взял их под свою опеку, тем более, что Коля пришел в их группу на третьем курсе – год проболел, было у него что-то с сердцем, а на первых двух курсах Саня с Колей учились вместе и были практически неразлучны. И здесь они поначалу держались вместе, но уже втроем. Это потом их прежний руководитель группы, Харрис Григорьевич Пулатходжаев, решив уехать из Кызыл-Таша, послал представление на Птицына вместо себя. И Птицын уехал в Москву, в родную контору за назначением. Харрис Григорьевич остался ждать, все также форель ловил и кормил ухой весь «Кошкин дом», как звали Спецпроект за три небольших пожарчика, и группой руководил. А в Москве всё сомневались и тянули. Птицын успел и в отпуск смотаться, и слух пошел, что вместо него кого-то другого назначат. Все приуныли и стали уговаривать Харриса Григорьевича остаться, а у него пятеро детей, наштопал – когда успел, разъезжая по командировкам? И жена с гипертонией, которой нельзя сюда из-за высоты. А потом всё-таки утвердили Саню Птицына, и на радостях на площади была вывешена афиша – росчерк хребта, а над ним солнышко с соломенным чубчиком и в очках – вылитый Саня. И подпись аршинными буквами: «Только у нас! Инженер-эксцентрик Федор Птицын». Хотя он конечно Саня. Но, что интересно, сына Федей назвал. А далее всякие глупости программы, как и положено. Шкулепова с Колей Пьяновым очень старались, хотя «глупости» сочиняли всем коллективом. Птицын по приезду аккуратно отколол афишу, свернул её в трубку и с чемоданом, прямиком отправился в родную группу. Они тогда большую комнату занимали, в пол щитового дома. Саня, ни на кого не глядя, прошел вперёд, к столу начальника, развернул афишу сурово спросил: «Кто это сделал?»
Все онемели. Вот это да! Шкулепова опомнилась первая, робко пискнула с места: «Это я».
Птицын расплылся до ушей: «Ну, спасибо, мать! Уважила! А можно, я её себе на память возьму?» и полез к ней целоваться.
Тут все завопили, парни подхватили Птицына на руки, на плечи и понесли на улицу и дальше – мимо почты, мимо гостиницы, мимо роддома и магазина к зелёному вагончику обмывать должность. А потом в обратном порядке, мимо магазина, роддома, управления строительства назад, на должность, а Птицын сидел и размахивал бутылкой.
Можно, конечно, вспомнить, и как Птицына снимали с этой должности, вернее, как он сам себя с неё низложил, потому что «народу стало много, за всеми не уследить», и вообще. Он всю жизнь хотел породу рубить, а потом в баню ходить с веником, детям книжки читать. А на должности ни сна тебе, ни отдыха, ни субботы, понимаешь, ни веника.
Но это конечно, отговорка. А причины, Бог знает, где зарыты. Надо вспоминать еще оттуда, когда Птицын женился, но не оженился, как хохол Хоменко говорил. Это теперь он на Жене своей женат, а женился, но не оженился он на Наталье, была тогда такая – вся мягкая, женственность и слабость, руки-ноги какие – не передать. А в те времена ещё мини носили, так и вовсе с ума сдвинешься. Но Птицын головы не терял, жениться собирался основательно, тем более, что пора, и Наталья хозяйственная и строгая, и ей пора – не маленькая. Очень они тогда основательно собирались, на Саню смотреть – так смех брал, а Наталья трогала до слёз. Птицын ухаживал по всем правилам – вечерами в кино водил, потом чаи у невесты распивал, потел, никаких тебе романсов вместе с Шаляпиным, Шаляпин на пластинке крутится, а Саня на полу лежачи, подпевает. Так вот, ничего такого, всё о жизни будущей. И напугал ведь. Наталья поначалу горе-любовь свою к женатому Фариду Амиранову верёвочкой завила, а потом тоска в глазах появилась и страх. Сидит, вся мягкая такая, ласковая, руками мягкими себя обхватила, а лицо как бы отдельно – испуганное, потемневшее и маленькое даже. А девки, что с Натальей жили, шу-шу да и за порог, а Птицын всё про то, как жить будут. Собирался «взвалить всё это и понести». Весь уж в очень большой ответственности. А она ему – в грехе каяться. Тут он и вовсе засуровел. И Наталья как на плаху собралась. Принесли бланки заявлений из поссовета, раньше было как: сегодня заполнили бланк, можно и на дому, а завтра и расписались, чтоб в поссовете не томиться. Ну, принесли бланки, он жене будущей, знамо дело, фамилию менять, а она возьми да и упрись: «Куда уж теперь, не маленькая».
Пошли к Шкулеповой – «Мать, рассуди». Впереди Малышка бежит, об одном тапочке. А Шкулепова после всей этой истории с Багиным, да ребенка скинула, лежит, сама не помнит, на каком свете. На табуретке во весь рост архитектор Мазанов – полку перевешивает, чтоб не клонилась, интерьер упорядочивает – зашёл проведать. И тут Птицын: «Рассуди». – «Да чего вы, – говорит Шкулепова, – какая разница». «Нет, – говорит Саня, – надо, чтоб одно целое». А Наталья: «Он так и всю жизнь будет на меня давить». А он: «Уступи, родная, я тебе потом сто раз уступлю! Надо так». – «Что надо, почему надо-то?» – «Вот чувствую, а объяснить не могу. Надо».
И молчание тяжёлое какое-то, Саня подвернувшейся мочалкой лоб остужает. А потом всё старается в карман её запихнуть, а она не влезает. И вдруг на колени перед Натальей встал, шут гороховый, – «Уступи, а?» И Мазанов, сидевший в углу на стопке книг, привстает с неё: «Ну, вас! Я пошел, у вас тут такая достоевщина идёт, у меня волосы на голове шевелятся». И все видят: точно, у него волосы дыбом стоят.
И тут Шкулепова решается: «Уступи, Наталья, раз он так чувствует, уступи, а?»
Наталья пишет фамилию, давится слезами: «Ты всегда его любила больше, чем меня!» Да и за дверь. А Птицын стоит посреди комнаты, как пень, в одной руке заявление, в другой – мочалка.
А Шкулепова лежит и думает о Наталье – ведь сейчас точно к Фариду побежит. Встает, тащится за Птицыным, и где-то далеко впереди на дороге видно, как Натаха ткнулась лицом в пиджак Амиранову что, как ворон, последние дни по посёлку кружил. Как вран.
А Птицын то ли сослепу ничего не видел, то ли и вовсе не знал, кто есть кто. Шкулепова всё боялась, как бы он к Наталье не потащился – «Иди домой, хватит, не наседай больше». А потом и вырубилась. Прислонилась к дереву и поползла вниз.
Саня перекинул её на плечо и домой притащил. Расстегнул пальто, а она в крови вся. Тут только он и трухнул как следует.
А потом что, потом пьянка была, весь посёлок собирался у Сани на свадьбе гулять, и весь посёлок напился по случаю отмены свадьбы.
А с должности ушёл, когда Шкулепова зеркалку выдала. Прикрыл. Только она всё равно уехала. Чтоб совсем не помереть, от любви-то.
А Багин что, Багин к тому времени на машине свежеприобретённой по посёлку и окрестностям раскатывал, и зуб уже выбил, и золотой вставил, и дверку сменил: «Променял он тебя, Люсь, на железку, на волгу-матушку». Хотя понятно – машина – утешение слабое.
Птицын же к Котомину в забой подался да с песней: «Я был батальонный разведчик». И так наладился – вечером с сыном вместе по полу ползает, и в баню с веником по субботам ходит. И ежели забурить чего – так это, пожалуйста, хотя Котомин быстро его, как ценный кадр, в прорабы перевёл. И с любимым Шаляпиным поёт после смены, на полу лежачи, а Шаляпин наверху, на пластинке крутится. А в забое в основном собственного сочинения – «Я тебя бурю, моя порода! Я люблю твой здоровый силикоз!» и так далее. Специалист.
А теперь сидит Шкулепова на именинах у Птицына и думает: может, и хорошо, что так всё получилось, уж очень всерьёз Наталья его принимала, душу его, понимаешь, русскую, чего она хочет?.. И все эти обряды с жениханием да как жить собирается. Он, может, стращал только, чтобы ответственность за семью чувствовала, по сторонам не смотрела, только чего там, в основном на неё пялились.
А Женя Птицына всерьез не принимает. Живут вон – рассказывают и сами смеются. И в грехе не каялась, ещё чего – я же у тебя не спрашиваю про твои грехи. А вот фамилию сменила.
Бывает, конечно, доведёт – Женя ну чемоданы собирать. Однажды, пока она, задумав уехать, отзыв из командировки оформляла, билет, Птицын быстренько домой смотался, все собранные вещички в ванну, водой залил. Женя пока сушила – отошла. Цирк, смех и слезы. Так и живут. И тост за Женю, что подобрала, отмыла, замуж взяла, «не побрезговала». И Женя сияет своим большеглазым лицом. И у Феди такие же глаза, в пол лица, и оттого, что детского лица – глаза беззащитны особенно. Даже внутри что-то сжимается. И Женя такая была? А с виду обыкновенная интеллигенточка, руки-ноги как у людей.
Птицын всё-таки не удержался, спросил:
– А Наталью-то видела, нет?
– А что Наталья. Вышла замуж за своего Диму из Мостостроя, три года помоталась за ним – Казарман, Ош, Ташкент, чуть что – Витюшку в охапку, приболеет или что, а до Оша доберется, и уже легче и Витюшке, и на душе. Ползунки-пелёнки между рейсами развесит на кустах, а потом дальше. А теперь Дима большой начальник в Ташкенте. Уже не мотаются по Казарманам и Тюпам. И Наталья там. Знаешь ведь, раз спрашиваешь. И сынуля окреп. – И смеётся, – Она бы и тебя большим начальником сделала, точно! Упустил ты, Саня, своё счастье! – Шкулепова вдруг жалобно так, виновато спрашивает, – Не жалеешь, что не начальник?
– Что ты, Люсь, ты что? Ты это брось, даже в голову не бери! Мне тогда во как надоело всё, с души воротило. А тут повод такой! Удобный. Не было б причины, так и повода не найти. Ты даже не сомневайся, слышишь? Что это ты в голову взяла?.. Ты лучше расскажи, что там Малышка делает, скоро ли ВГИК свой окончит и нас приедет снимать? Все на диете небось сидит?
– Нет, сейчас по принципу: запас карман не тянет. Когда это студенческая жизнь была сытой, да ещё в чужом городе? Приедет – увидите: селёдочка! К следующему лету и объявится. Она уже договорилась – как только фильм о вас задумают снимать, её ассистентом режиссера возьмут.
– И Малявка приедет, значит! Молодец, Малявка!
Оттого, что и Малышева приедет, и обе Люськи будут здесь, Котомину стало не по себе, и с чего вдруг вспомнилось давнишнее – «если трудная минута, то чтоб обе были рядом?» Светланка вон чуть на тот свет не ушла. Но, слава Богу, выкарабкалась… Слабенькая пока, но ничего, были бы кости. Он даже забыл Манукяну ответить, и теперь тот апеллирует к Шкулеповой:
– Люся! Завтра поедем на створ, посмотришь на их дырки и на нашу плотину и скажешь. Прямо с утра.
– После обеда, – говорит Котомин, – я ей резиновые сапоги привезу.
Гарик высокомерно взглядывает на него:
– Я её и так не испачкаю.
– Шкулепова наша ведь, а, Манукян?
– Теперь она наша, – говорит Гарик, – раз плотинами занимается. Но мы же говорим, чтоб на честное слово.
Самая обидная фраза для туннельщиков – «Собрались мыши на конгресс» – из какого-то анекдота. Анекдот забылся, фраза осталась. Чуть что – «Ха! Собрались мыши на конгресс!»
– Эх, Шкулепова! – говорит Котомин. – Дались тебе эти плотины, занялась делом, что и мужику не поднять! Тебе бы детишек родить да хозяйкой дома быть, за широкой спиной сидеть! А плотины пусть мужики ворочают.
– Так нету широкой спины, – говорит Алиса и, помолчав, поднимает на него глаза. – Ты уже как-то говорил об этом. Когда мы с Малышкой оставались на Карасуйских озерах, потому что мне вздумалось посмотреть, как устроена перемычка, отделяющая верхнее озеро от нижнего. А вы уходили. И тогда ты говорил что-то в этом духе. Что баба должна слушаться и подчиняться, и не лезть никуда без спросу…
– И оттуда всё и началось, да? Связать надо было тебя, да на ишака. И гнать его до самой автотропы…
– А ишаки тогда сбежали, – смеётся Алиса, – Ещё утром!
9. Естественные озера и плотины
Впервые они пришли на озеро, откуда берёт своё начало левобережный приток, на майские праздники, увидели озеро с завала – неожиданно, до черноты синее. Побежали вниз по острым камням к его чернильной под горячим солнцем синеве. Первой, конечно, добежала Малышка, на ходу снимая с себя одежду, первой кинулась в воду. И вылетела – как пробка. Вода оказалась ледяной, языки льда еще сползали в неё по южному склону. Потом всё равно все купались – солнце жгло немилосердно. Два ослепительных дня и две продрогшие ночи – начало мая и высота около двух тысяч метров сказывались…
А второй раз они пришли туда уже в начале июля и почти все тридцать километров от автотропы прошли ночью, спотыкаясь, чуть ли не на ощупь угадывая слабо белеющую под звездами тропу В их распоряжении был всего один день, а Котомину больше всего хотелось порыбачить на утренней зорьке. Их и взяли довеском к компании рыбаков, и мнения женской половины никто не спрашивал. Светланка уже у самого перевала несколько раз норовила посидеть, но Котомин поднимал её и снова уходил вперед. И ишаки тогда в самом деле были, «мичуринские зайцы», они паслись там, на дороге, то ли далеко ушли от дома, то ли и вовсе были ничьи. На них навьючили девчачьи рюкзаки, и поэтому идти было легко – ночью, тридцать три километра, по каменистой тропе под звездами, в смене воздушных потоков. То влажный воздух реки с запахом мыльника, когда тропа спускалась к воде, расступалось ущелье или излучина опоясывала влажный, в высокой траве луг; то тропа снова становилась шершавой, каменистой, поднималась вверх, и скалы горячо дышали дневным теплом с запахом чабреца и сухих трав. И ошеломляющим было узнавание, чуть не на ощупь, когда-то пройденного пути, по запахам, по воздушным потокам, по едва угадываемой излучине и шапкам трёх чинар на другом берегу.
И рыба тогда ловилась Бог знает как, время отнимала только насадка червей, пока Котомину это не надоело и он, поплевав на крючок, не бросил его пустым. Но рыба хватала и пустой крючок, и Котомин еле остановил разохотившихся рыбаков. Это был странный, какой-то нереальный день после ночи пути, а вечером нужно было уходить назад, вниз, куда за ними должна была прийти заказанная Гариком Манукяном машина. Они просто ничего не соображали, пребывая в каком-то взвешенном состоянии. Спали понемногу, час-два, где как придется. Алиса тоже поспала, искупалась и, от нечего делать, пошла вниз через завал, посмотреть, как вытекает речка. Она вытекала двумя мощными рукавами, пробиваясь сквозь толщу завала, один выход был повыше, а другой, слева, – пониже и помощнее. Конечно, была и донная фильтрация – у основания казалось, звенит вода в глубине, но, может, это было только обманом слуха.
Она лазала по стыкам того, что летело справа и слева, и вдруг поняла, что всё это сделано не за один раз.
Торопясь, она пробиралась через навал ломаных глыб – углы, поверхности сломов не успели даже заветриться, какая-нибудь тысяча-другая лет всего. Под ними – слой мелкой гранитной щебёнки, сцементированный песком и глиной и уплотнённый верхним набросом. По острым сломам камней было трудно идти даже в кедах.
Прибрежная полоса озера оттого, что спала вода, обнажилась мертвенным лунным поясом, но серый цвет острых камней был налетом органической жизни, такой скудной на этой высоте, при холоде и глубине озера. И она долго отмывала один из камешков, чтобы выяснить, что же он такое на самом деле. Такие темно-серые, в синеву граниты шли по левому, южному склону и распадку Волчьих ворот, забитому моренами от не успевающих таять лавин. Под ними, образуя мосты и гроты, бежит Волчий ручей, и ошеломляюще пахнет елями, теми, голубыми, что растут выше Волчьих ворот, тогда уже выпустившими зелёные побеги с оранжевой кисточкой на конце. Южный склон – это не точно, то есть он, конечно, южный, но южный – тёплое слово, а здесь всё наоборот, южный склон более суровый. У киргизов все гораздо точнее: северный – Кунгей Ала-Тоо – обращенный к солнцу. А южный – Терскей Ала-Тоо, даже не знаешь, как это сказать по-русски.
Тропа вдоль озера шла по северному, обращенному к солнцу склону, с хорошо видимым отсюда, за одиннадцать километров по воде, мягким, кажущимся песчаным бережком второго завала, как говорили, отделяющего нижнее озеро от небольшого верхнего. По южному же берегу тропа была только до Волчьих ворот, до последнего летнего выпаса, где стояла юрта. А дальше – уже скалы, и там могли пройти разве элики, в те времена водившиеся там стадами, и их даже можно было заметить на снежных склонах по крошечным снизу галочкам рогов…
Значит, толчка было три, но как могло получиться, что вторым был осыпной, уже сцементированный слой? Случайность, тысячелетние игры природы, так похожие на разумный, хорошо рассчитанный замысел…
Ей очень хотелось посмотреть, как «сделана» перемычка, отделяющая верхнее озеро от нижнего. А перемычки, скорее всего, образовалась параллельно-одновременно, и можно будет увидеть, как сложён берег. Это было сильнее неё – взвешенное ли состояние после бессонной ночи и пути под звездами, нетерпение ли и боязнь, что она не скоро попадет сюда?.. И хотя никого из всей честной компании нельзя было поднять с места, а Малышка ещё не вернулась с Волчьего ручья, – Алиса всё-таки пошла по северной тропе к истоку, прихватив ковбойку – на случай встречи с местным населением и мелкашку – неизвестно для чего.
Одиннадцать километров – это по воде, тропа же вдоль озера была изматывающей – вверх-вниз, экономящая не расстояние и высоту, но близость к воде. Берег изрезан, почти фиорды, за полтора часа Алиса не прошла и четверти пути, хотя это километров шесть-семь. На очередном, самом высоком подъеме тропы, идущей здесь по краю обрыва, она остановилась и огляделась. Озеро лежало глубоко внизу, по его густой синеве тянулась от устья золотая рябь, а там, куда уже падала тень хребта, синева сгущалась до черноты и была неровной, клубящейся бездонным провалом. Красота озера казалось отрешённой и почти зловещей.
Озеро, созданное неведомо для чего, почти недоступное и поднятое к небу. И неожиданность мысли, что это зрелище не для человека, что это – не положено видеть. И порыв ветра, всего один, шум кустов боярышника и шиповника, накатившийся и удаляющийся за спиной. И ледяной холод, стянувший череп. И мелкашка, бесполезная в таких случаях.
Вечером все ушли вниз, к автотропе, а она осталась «выяснять отношения с Богом». С нею осталась Малышка. Вот тогда-то, когда они оставались, Котомин кричал, что у него нет оснований относиться к ней, как к женщине. Женщину он одну бы на озере не оставил. До того он был взбешён. Каприз он ещё мог понять и, если надо, выбить, но тут было другое, с её нетерпением он ничего поделать не мог. А Малышка только смотрела на него умоляющими глазами и пыталась успокоить: «Володя, Володя, у нас ружьё, с темнотой мы ляжем спать и не будем жечь костёр, Володя успокойся». Она боялась, что он скажет что-нибудь непоправимое.
Пройдя совсем немного, примерно половину того, что Шкулепова прошла одна, они едва успели поставить палатку-серебрянку в сае с небольшим ручьём, почти иссякавшим ночью – тучи уже закрывали небо, и первые капли дождя забарабанили по палатке. Оттого, что небо было закрыто тучами, ночь была очень теплой, они мгновенно уснули под шорох дождя и проснулись от голода среди ночи, в темноте, в тишине, с редкими звуками тяжело падающих капель. Хлеба было всего с полбуханки, сырая картошка и с полведра уже очищенной рыбы. Они разожгли небольшой костер, который можно было увидеть разве с того места, где не было никаких троп, и жарили рыбу, насаживая её на прутья. Вокруг сияли мокрые кусты, и не было никакого страха. Потом мылись у озера, пытаясь глиной смыть сажу с рук. В той стороне, где они останавливались днём, горел большой костёр, в его свете бродили большие ломкие тени, видимо, очередные рыбаки пришли порыбачить. От большого костра на берегу озеро, укрытое, как крылом, облачным покрывалом, казалось обжитым и почти уютным.
Они отправились в путь с рассветом, взяв с собой только хлеб и нож. Алиса надеялась, что там вдруг окажется какой-нибудь обрыв, и можно будет посмотреть, как устроена перемычка. Обрыв в самом деле был – в том месте, где оторвался ледяной припай, и по вертикальному срезу было видно, что перемычка образовалась за счет ледниковых морен и селей, а нижняя – скорее всего образована более ранним, мощным селевым сдвигом, вызвавшим местное землетрясение и обвалы… Они съели хлеб, макая его прямо в озеро, а к верхнему озеру так и не спустились, только посмотрели на него с гребня перемычки. Озеро было светло-зелёным, видимо, неглубоким, промерзало зимой до дна и ещё не совсем оттаяло. Назад они почти бежали, тем более что за нижним озером тропа шла под уклон. Они прошли тогда, наверное, километров семьдесят – тропа вдоль озера никем не меряна, а они прошли её в оба конца, да те тридцать километров, что отделяли озеро от автотропы… Рюкзаки были лёгкие – серебрянка, два одеяла, стеклянная банка с жареной рыбой, пяток картофелин.
К дороге вышли в сумерки, небо светлело только на западе, в разрыве ущелья, но машины, обещанной Гариком Манукяном, не было. У обеих распухли щиколотки, и только это заставило их спуститься к реке и немного подержать ноги в холодной воде. Малышка старалась скормить ей рыбу из банки и не ела сама, уверяя, что она и так не помрёт, а Шкулеповой каждый грамм веса дорог. Что-то без конца шуршало в старом сене, и они все светили спичками, пока не убедились, что это мыши. Одна из них сидела в щели между камней и смотрела оттуда бесстрашными черными бусинами глаз. Речка шумела совсем рядом, в её шуме слышались голоса, они обе различали оклики, даже отдельные слова, голос Гарика и шум машины, выскакивали из кибитки, боясь, что их не найдут. Но всё это был обман слуха и шум речки.
Утром они испекли картошку и съели её без соли. Не было и мыла – ногти в черной рамке, потрескавшиеся, в саже от печеной картошки губы. Они прошли оставшиеся до тракта двенадцать километров автотропы, а потом долго сидели под мостом у самого подъёма на перевал. Машины шли вверх, но не было ни одной в сторону посёлка. Идущие с Чуйской долины могли появиться только к вечеру, но они продолжали сидеть под мостом, в непосредственной близости от дороги, больше спрятаться от солнца было негде.
А потом со стороны поселка свернул на автотропу и, пыля, запрыгал по колдобинам небольшой грузовичок. Они не сомневались, что это за ними, и побежали следом, крича и размахивая руками. Но в кузове сидел Багин с каким-то приезжим человеком, видимо, проверяющим начальником, решившим отдохнуть на рыбалке.
…Даже Багин был намертво привязан к тому дню, к озеру и образовавшему его завалу, всё это сошлось там, завязалось в один тугой узел – вдруг заговоривший завал, озеро, Багин… Которого до того момента и на горизонте не было. Хотя именно там, на горизонте он всегда и маячил, почти вне поля зрения, но мало ли кто там маячил? Только на пионерский вопрос – бывает ли любовь с первого взгляда – она могла ответить совершенно однозначно: любовь – она всегда с первого взгляда. Потом она может состояться или нет, но если её нет с первого взгляда, то, поверьте на слово, уже не будет. Что это – сознание, подсознание или наитие, но это определяется сразу – твой человек или нет. Именно с первого взгляда и даже не обязательно глаза в глаза.
Багин она увидела года за два до озера, ещё на перевалочной базе в Шамалды-Сае, когда Кызыл-Таша как такового и в помине не было. В переполненной гостинице, в большой женской комнате стояло с десяток кроватей, и некоторые спали по двое, как Зоя с Наташей, птицынской незадавшейся женой. А строители ездили на пятидневку вверх, в Кызыл-Таш, вернее, тогда еще в Токтобек-Сай, где были землянки, и били дорогу к створу плотины. Почти все они были с Нарын ГЭС, и семьи их жили в Шамалды-Сае, или попросту в Шамалдах.
Когда выяснилось, что проектировщикам здесь и зимовать, она вместе с Зоей и Наташей сняли времянку у крымских татар (и создавших этот поселок по высылке) и съехали из гостиницы. Кое-как побросали в чемоданы вещи и книги, а что не влезло – в полосатый матрасный чехол. Она перекинула его через плечо, как носят мешки, чувствуя, что Наташа с Зоей нести его стесняются. А еще пришлось тащить в руке на отлете закоптелую сковородку. Кто-то нёс чемоданы, кажется Кайрат с Колей Пьяновым. Это в кайратовском светло-сером ратиновом пальто она блистала, пока не пришла мамина посылка. Получилась весёлая процессия, которую она замыкала своим мешком в розовую полоску. Они шли через посёлок, останавливались передохнуть, а на Алисе была зеленая Наташкина куртка, из которой почти на четверть выглядывали красные рукава свитера – «вечерний ватник, декольте и рукав три четверти»… Было бы разбоем таскать мешки в роскошном кайратовском пальто.
Она подняла глаза на голос, на смех, это тогда за ней водилось – любить голоса, если они хороши и сложны по оттенкам, и избегать людей с голосами невыразительными, бесцветными. И там, впереди, на снегу, под солнцем стоял человек и что-то, смеясь, говорил, обнимая плечи жены и сияя улыбкой. Распахнутая лётная куртка с меховым нутром, шапка, сбитая на затылок. Она запомнила состояние легкого удушья и бесконтрольную мысль: неужели у таких женщин бывают такие мужья? Он был оттуда, с тропы, с будущего Кызыл-Таша, а жена сидела где-то в управлении и иногда попадалась в коридоре – сонные навыкате глаза, прикрытые тяжёлыми веками, оплывающая фигура пингвина, и сиплый голос. Женщина тоже смеялась, хотя и сипло, стеариново светилась и оплывала к ногам.
Бьющее по глазам несоответствие, непарность – и собственное состояние удушья.
Больше она не смотрела и двинулась со своим мешком дальше, под музыку голоса и смеха.
Ей нравился этот человек – это всё, что она знала о нем последующие два года. А знакома с ним была Малышка, у них даже были какие-то свои подначки, понятные только им. «Привет, Настина дочка», – говорил он ей, и Малышка тут же лезла в драку. На дороге с озера он не долго слушал сбивчивые объяснения Малышки, развернул её за плечо, и они отправились к мосту за рюкзаками. Назад он нёс оба рюкзака в руках, они хохотали, а потом, хохоча, он замахнулся на Малышку рюкзаком, и та со смехом отскочила… Картинки с тропы, намертво въевшиеся в память, даже два куска мыла, которое наперегонки доставали для них Багин и приезжий начальник, запомнились лежащими на влажном камне – розовое и зелёное, и удовольствие от этого мыла и вообще мытья: пыль, усталость – всё уходило, просыхали волосы, голова становилась легкой, а волосы пушистыми. Начальство бегало со спиннингом вдоль реки, трещало кустами, а они лежали на одеяле, разомлевшие от купанья и сознания, что о них теперь позаботится этот человек, о котором она знала только, что он чужой муж. Несоответствие пары было подтверждено Малышкой и не имело ровно никакого значения – мало ли таких, которым симпатизируешь по чувству родственности, схожести, которые потенциально свои люди и, тем не менее, чужие или вовсе незнакомые и, естественно, чужие мужья. С ними легко, и сейчас всё выровняется, и он будет относиться к ней также хорошо, как к Малышке. И хотя встречный интерес ударял в лицо, как горячий ветер, это тогда было – старание, стремление к ровности, доброжелательности, открытости. Уровню доброго знакомства и чисто человеческой симпатии. Такой был курс, на отношения типа Малышкиных. И всё так и будет, пока не сломается осенью, когда она приятельски тронет его за плечо: «Привет», и уже что-то начнет говорить, а он отстранится. Не холодно, а не принимая, отвергая приятельство. И вот тогда она испугается, вдруг осознав уже потребность видеть, слышать, улыбаться навстречу этому человеку и знать, что тебе улыбнутся в ответ. Она замолчит на полуслове, а он обернется к ней таким счастливым лицом, и будет городить чепуху дребезжащим от радости голосом и при этом весело и твёрдо смотреть в глаза – понятно? Голос, похожий на мир, отраженный в стекле, вставленном в трепыхающийся брезент какого-нибудь газика, что катит по ухабистой дороге сквозь кусты, заросли, и отражаются и дрожат в окнах небо, скалы, деревья и забиваются солнечными бликами… Откуда это, с той же тропы?
И что теперь вспоминать, надо спать, ведь Гарик Манукян точно поднимет завтра чуть свет и потащит на плотину. Что вспоминать, в каком из домиков под скалой жил любимый, вспоминать то, что длилось лишь год и семь годов, как минуло?
10. Экскурсия на плотину и посиделки в Бастилии
А плотина пока ещё, ну, семьдесят метров, да и триста не будут смотреться в тысячеметровом провале ущелья, вот облако сползало с неё замечательное – дымно-сизое, в синеву, свисало, дымилось… А на самой плотине и вовсе – брезентовый шатёр, толстые гусеницы двух водоводов и одна из них, ещё не сваренная, чуть раскачивается и вздрагивает своими сочленениями, брызги сварки, фонтанчики полива, полосы горячего воздуха от калориферов, гулкие, похожие на туннели паттерны, временные перильца вокруг колодцев лифтовых клеток – срез по внутренностям всего, что когда-то будет плотиной, зябкая сырость еще не ожившего бетона… И так уже четыре года – слой за слоем, метр за метром. Девочки из лаборатории буквально бросающиеся с датчиками под равняющие бетонную жижу электробульдозеры; тут же смешные электротракторы с навесными пакетами вибраторов, как жуки, залезают в бетонную кашу, опуская туда свои хоботки, урча и даже как бы причмокивая… Небольшие, присоединённые гибким кабелем к щитам питания, эти машинки казались несерьёзными, водимыми на верёвочках детскими игрушками…
Гарик Манукян взахлёб рассказывал, как они им достались, эти электрические самоделки – ведь в бетон не должно попасть ни капли бензина, солярки или там, технических масел. Что благодаря этим машинкам на укладке бетона так мало людей – знаешь, сколько народу пришлось бы нагнать при обычной укладке? А чем платить? При нашей-то бедности… И потом, в обычных, «стаканами», блоках бетон уплотняют ручными вибраторами, машину туда не загонишь, а люди это люди, не догляди – пройдутся по контуру блока, доступному проверке, и привет. А что внутри него – Бог весть. Да любой капиталист, увидь эти самоделки, начал бы штамповать их серийно!.. Вон та машинка, что принимает бетон у крана и вываливает его в блок, с кузовом перед кабиной, короткая, маневренная – тоже сделана на здешней автобазе – представь, если б обычный самосвал, проехав двадцать-тридцать метров, кряхтя поднимал кузов, и водитель всю смену работал бы с вывернутой шеей? Аналогов нет, «Оргэнергострой» пять лет телился, а этой осенью привез своё детище – обхохочешься – целое конструкторское бюро работало – плотина рыдала! Детище снесло лифтовое ограждение, дало задний ход, смяло о надолб крыло, потом въехало в лестничный пролёт, еле выволокли его оттуда. Наши тоже опробовали её – тяжёлая машина, неповоротливая. Повезли назад. Говорили им, – срисуйте наш «нарынёнок» и все дела. Нет, он, видите ли, из узлов разных машин собран. А что ж такого, мы же не завод… Зато пашет!
Как всегда неожиданно выкатилось из-за хребта солнце, со стороны въезда на плотину образовался горячий сияющий задник из синего неба и желтых скал, бетон задымился, задышал, брезент шатра, как любая укутанность, создал эффект бережной заботы, трясущейся над этим создаваемым нутром… Выделились ребра железобетонной опалубки, её лебяжий выгиб, то, что Алиса любила в туннелях – совершенство сопряжений…
А невероятно гордый всем здесь происходящим Гарик Манукян тащил её дальше, в левобережные блоки, а там начальство, Лихачёв, так неожиданно отделившийся от общей группы навстречу им, не узнавший её, но не преминувший смутить. И она смутилась, Ну, такой вот мужик, первый парень на деревне и вообще на пятьсот миль в округе, и знающий об этом… Но как хорошо, что характеры не меняются, что прежними остаются глаза, синими, словно слетающими с лица от любопытства и интереса к жизни. И только после видишь налёт долгой усталости, красные от недосыпания веки, темноту под глазами, но это после – после сияющего света глаз. Такие она видела только у троих человек – у Лихачёва, у Малышки, у Багина… Малышка говорила, что если она что-то не узнает или не сделает из того, что ей хочется узнать или сделать, её разнесёт изнутри, от подпора любопытства или энергии… Вот и Лихачёв такой же.
Он придержал Манукяна, а она прошла дальше, поздоровалась со всеми, а увидев Вебера, всё такого же длинного, тощего и очкастого, ухватилась за отворот его тулупа:
– Дима, привет, – и чуть не ткнулась головой ему в грудь.
– Ты когда приехала?
– Вчера, – и почувствовала, как он напрягся, всегда тяжело перенося легкомысленное к себе отношение, отпустила отворот.
Шамрай спросил:
– Головка бо-бо?
– Нет, – для убедительности она потрясла головой, а подошедший Гарик Манукян сообщил с улыбкой про Лихачёва:
– Спросил, где ты у нас работала.
– Пижон, – сказал Шамрай, – у меня группа две недели с консолью мается, а они наконец проснуться изволили! – он ткнул Манукяна в грудь, – А ты что, не видел, что в седьмую секцию разворот вписывается? А ещё хвастаются, понимаешь, своей сообразительностью!
– Моё дело – чтоб бетон без раковин был, что потом кошку не заводить, мышей не отлавливать.
– Вот побегаешь теперь с седьмой секции туда и обратно.
Шкулепова спросила:
– Жалко консоль?
– Времени жалко. – А так мы за решения большей надёжности. Это строителям – как сделать попроще. Они всегда противятся сложному решению и иногда придумывают что-то дельное.
– А сегодня?
– Во! – он показал большой палец.
В середине дня Алиса перебралась в гостиницу замечательную мазановскую «Бастилию». Зеленая ковровая дорожка по-прежнему вела через остеклённую галерею в жилой корпус, вдоль стекол стояли горшки с цветами. А слева от входа и конторки администратора, за сварной металлической решеткой, тоже увитой какими-то растениями и обставленной креслами с двух сторон, простирался обширный, обшитый деревянной рейкой холл, служивший при случае банкетным залом. По-прежнему просторно стояли столы с красной пластиковой поверхностью, а в дальнем конце зала, у самой стойки, несколько столов были сдвинуты, и с десяток постояльцев, обвязанных полотенцами вместо фартуков, похоже, лепили пельмени. Значит, Вера Тимофеевна всё так же кормит приезжих своими обедами, собирая в книгу жалоб похвалы наладчиков и министров куриной лапше и пельменям, которые всегда так и лепились – с помощью постояльцев, чаще всего и подвигавших её на них.
Алиса отнесла вещи в номер, разделась и, вымыв руки, вернулась в холл: «Здравствуйте, а меня накормите? Если я тоже полотенцем обвяжусь?» – «Обвязывайся», – последовал ответ. Вера Тимофеевна нарезала тесто, две женщины раскатывали лепёшки, а мужчины быстро и ловко, будто всю жизнь этим занимались, лепили пельмени и складывали их на посыпанную мукой доску.
Алиса обвязалась полотенцем, пристроилась с краешку и тоже принялась лепить. Вера Тимофеевна несколько раз взглядывала на неё, но припомнить не могла, спросила: «Ты откуда?» – «Из Спецпроекта. Я работала раньше здесь». За чем последовало: «То-то я гляжу…» Но тут за открытой дверью кухни что-то зашипело, Вера Тимофеевна подхватила доску с пельменями и кинулась за дверь.
Лепка пельменей подходила к концу, вытирали столы от муки, мыли руки и снимали полотенца, а Вера Тимофеевна в белом халате, стройная, слегка суховатая в свои пятьдесят с лишним лет, уже стояла за стойкой и патриархально сокрушалась по поводу худобы одного из наладчиков, наливая ему тарелку чуть ли не в край.
Карпинский с Кайдашем приехали тем же рейсом, что и Шкулепова днём раньше, вечером Кайдаш разбирался со здешними геологами в дальнем углу холла, а Алиса с Карпинским сидели в креслах у самой решётки, в ожидании обещавшего подойти Лени Шамрая. К посёлку холл был повёрнут глухой стеной с узким оконным просветом под самым потолком, а противоположная, сплошь стеклянная стена выходила в сторону озера и разрыва долины между хребтами, плакучие ивы подступали к самим стёклам, шевеля голыми ветвями, в них путалась яркая одинокая звезда. Галерея, ведущая в жилой корпус, замыкала освещенное пространство, подчеркивая почти аквариумную отъединённость и хрупкость уюта вообще в этом месте, в этом мире, что вздымался здесь хребтами, царапался голыми ветками в окно и равнодушно глядел одинокой зеленоватой звездой с ещё светлого, холодного неба.
Шамрай задерживался, и Шкулепова зачем-то рассказывала Карпинскому об архитекторе Мазанове, построившем эту гостиницу, и о том, как Мазанов ходил к ней в авторский надзор и для начала развалил ломиком опалубку фундамента, которая выпирала пузом. Строители требовали выявить и наказать хулиганов, а Мазанов спокойно сказал, что это он сломал, из-за пуза, что это гостиница, а не беременная баба. Начальник Жилстроя стал красный весь, казалось, его вот-вот хватит удар. А перед тем на приёмке жилого дома унитаз в санузле оказался смонтированным точно под раковиной, и конечно, Мазанов отказался подписать акт этой самой приёмки. Строители настаивали, и тогда Мазанов сказал, – хорошо, я подпишу, только вы при мне сядьте на него и встаньте…
Подошедший Шамрай сказал, что Мазанов вообще был хулиган – он и штаб перекрытия пытался сломать чуть ли не в день перекрытия, ухватился за ломик и вопил про завалинку, которую приделали строители – эта завалинка оскорбила его больше любого пуза. Лихачёв тогда оттаскивал его и говорил, что на его взгляд, всё очень неплохо получилось.
Вот Мазанов остался здесь навсегда – своей гостиницей, чайханой на створе, гармошкой навесов рынка, повторявшей гармошку гор… Он и представить себе не мог, что здесь сделают с поймой, осушив её и вообще избавив от речки, загнанной в канал под самым хребтом. Не берег, а сплошной завал, нагромождение камней, на которых вряд ли что-нибудь вырастет и через тысячу лет. Пойму в зарослях облепихи, повторяющих змеиный изгиб речки, выровненную до безобразия и заставленную коробками блочных домов и не как-нибудь, а звёздочками соединенных по три четырёхэтажек…
– Ваш Мазанов рванул отсюда сразу, как стройку законсервировали, чего ему с нищими якшаться, – сказал Шамрай.
– Он был архитектор, – сказала Шкулепова, – и не мог только привязывать к местности типовые дома, Он совсем иначе хотел распорядиться поймой, оставить речку как есть, закрепив берега, а общественный центр перенести наверх, на седьмую площадку, замостить площадь плитами и расставить вертикали жилых башен так, чтобы…
– Ага, которые отсюда, снизу, очень хорошо бы смотрелись. Этакий «контрапункт». Это с нашей-то сейсмичностью! Сама-то ты тоже тогда чего-то морщилась.
– Я морщилась на мощеные плитами площади – жарко же, голое пространство, как плац…
Мазанов тогда очень сердился, и они, смеясь, решили поделить посёлок на сферы влияния. А потом делили жителей – Мазанову достались строгие и собранные, вроде Вебера, а им из собранных и строгих достался только Котомин, как Светкин муж. А Саню Птицына они соблазнили должностью придворного акына, только ходи и пой, представляешь? И ему было вменено отрастить до плеч его белобрысые волосы, что по тем временам могло быть принадлежностью только придворного акына… А Малышке разрешалось находиться где вздумается, внизу она ничего не порушит, а у Мазанова оживит пейзаж.
– Ладно, – сказал Карпинский, – с посёлком мы разобрались, теперь разберемся с нашими проблемами.
Шамрай сказал, что с заявкой на опытную плотину у них здесь проблем не будет, заявку напишут и подадут, что проблемы с ней начнутся в министерстве, советовал говорить с Терехом прямо, без всяких экивоков, и добавил, что неплохо бы Лихачёва отвлечь от диссертации и тоже задействовать. Он лучше всех ориентируется в министерской конъюнктуре – до Музтора работал диспетчером министерства, да и связи остались.
– А он согласится? – спросил Карпинский.
– А почему бы и нет? Он женщинам отказывать не умеет, – Шамрай улыбнулся, кивнул на Шкулепову – Сегодня увидел её на створе и сразу стойку сделал, как сеттер.
– Прям, – сказала Шкулепова.
– Да не откажет он, – сказал Шамрай уже серьёзно, – ты же ему ещё ничем не насолил, чтобы он вдруг отказался помочь.
Разобравшийся со своими геологами Кайдаш позвал их пить чай. К ночи похолодало, от аквариумной стены тянуло холодом. Алиса грела руки о стакан, слушала беззлобную перепалку Шамрая с нынешним начальником здешней экспедиции и смотрела на сбиваемые ветром на одну сторону и шевелящиеся, как водоросли, гибкие ветви ив.
Все прошедшие пять лет ей казалось, что у неё, как у каждого, есть своя гипотетическая родина, некое отвлечённое понятие, как абсолют, в природе не существующий и ею условно именуемый Музтор, Музторская ГЭС, вознесённая высоко к небу не только горами, но и несбыточностью, невозможностью своей по сути. Что так смотрела её молодость, так хотела и так называла, слепая в своем желании видеть то, к чему тянулась душой – некое отвлечённое братство, горнее, а не дольнее… А оказывается всё это есть – закинутый высоко в горы посёлок, зелёная и чистая звезда над ним, милые, родные лица, чуть затуманенные временем, и вдруг пришедшее ощущение легкости в сердце, словно невидимая рука, все эти годы сжимавшая его, уже привычная и почти не замечаемая, вдруг отпустила. Отпустила…
И последнее, что запомнится как состояние счастья, пришедшее перед глубоким, как омут, сном: «Господи, я дома!..» на гостиничной кровати Бастилии.
11. Кетмень-Тюбе и первый разговор с Терехом
Два дня они летали над окрестными горами Кетмень-Тюбинской котловины, зависая над всеми ущельями и ущельицами, отмеченными на планшете, как схожие с Кампаратинским створом. Она всё-таки существовала, Кетмень-Тюбе, не котловина – мираж, окруженная нереальными, плавающими в воздухе снежными горами. А там, где снег уже сошел, голубой небесный цвет воздуха был слегка разбавлен зеленым, коричневатым, желтым – размытость акварели, зыбкость едва угадываемого сущего сквозь толщу воздуха и света. И такая же эта долина с вертолета – мираж и свет, и только когда они опускались пониже над очередным распадком, земля обретала реальную плотность, ощетинивалась скалами, деревьями и кустарниками.
Вертолётчики тоже вошли в азарт и чаще всего сами шли в сторону того или иного ущелья, казавшегося им подходящим, и вообще вели себя так, словно им лично было поручено выбрать место будущей плотины. Ещё на Кампаратинском створе штурман внимательно выслушал Кайдаша, перенёс пометки в свой планшет, вытащил пригревшегося и вздремнувшего в углу вагончика пилота, и они все протопали вверх-вниз вдоль реки.
Шкулепова мерзла в вертолёте, и кампаратинские геологи уже перед отлётом забросили в него большой тулуп для неё, попутно ругнув Кайдаша, Карпинского и службу авиации за неджентльменское отношение к женщине. От тулупа пахнуло овчиной, кумысом, Киргизией… И последующие два дня она влезала в вертолёт, закутывалась в тулуп и в полной готовности приникала к окошку хотя от аэрона, который она глотала, боясь качки, собственная голова казалась ей мало пригодной к какому-нибудь умственному усилию, и оставалось полагаться на Кайдаша, Карпинского и штурмана Володю. Но после каждой посадки и остановки винта она тоже спрыгивала на землю, что плыла и качалась под ногами, и шла, цепляясь за кусты, с трудом соображая, чего не хватает тому или иному месту. На третий день они шлёпнулись на небольшое плато в распадке Бурлы-Кии, или Бурды-Кии, в картах были разночтения. Ущелье было схожим с Кампаратинским по своим геологическим характеристикам, плато годилось под лагерь, а терраску чуть повыше можно было приспособить под смотровую площадку. Единственно, было жалко ели, карабкающиеся по склону, которые в ложе плотины придётся вырубить.
В Уч-Тереке, ближайшем к Кампаратинскому створу кишлаке, к вертолету бежали детишки, степенно приблизились старики и старуха на лошади. В магазине прилавки были завалены дорогими вещами, которых днём с огнём не сыщешь в городе, а здесь пылившимися за полной ненадобностью местному населению. Кайдаш купил своим двойняшкам две пары финских сапог, удивив тридцать девятым размером – Шкулепова помнила двух крошечных девочек, одна была разительно похожа на свою белокурую маму, а другая на отца – черными миндалинами глаз и точеным, чуть загнутым книзу носиком. Пока гуляли, в тени вертолета залегло стадо индюков. «Цып-цып», – шел за ними Карпинский, индюки с достоинством отходили, недовольно переговариваясь, и только когда заработал винт, побежали в панике.
Земля плыла под ногами ещё сутки, и они с Карпинским отправились к начальнику строительства Тереху по ещё качающейся земле.
Терех знал Карпинского как ГИПа Кампараты, поднялся навстречу, пожал руку, тот представил Шкулепову назвал должность и институт, который она, так сказать, представляла.
– Ваше лицо мне знакомо, – сказал Терех и приветливо взглянул на Шкулепову поверх очков.
– Я работала здесь, при Пулатходжаеве и Птицыне.