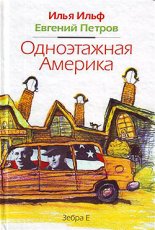Массажист Куберский Игорь

– Да, спокойствие превыше всего… – продолжал шеф, снова глядя в иллюминатор. – Если бы только нас оставили в покое. Ночью не нашли, но сейчас у них больше шансов. Еще вертолет пришлют…
– Брось, шеф, – сказал я, – кто мы такие, что бы так уж…
– Вот и мне бы хотелось их в этом убедить. Но это же Европа, Запад, это же не Россия. Там с любым можно договориться, даже с президентом… А тут закон, тут живут по закону. Тут людей-то нет – одни законопослушные зомби.
Помнится, в России шеф разглагольствовал с точностью до наоборот, но, как ни смешно, и то и другое было, пожалуй, верно. Поэтому я молчал.
– Тут, куда бы мы теперь ни плыли, – продолжал шеф, – нас везде ждет Интерпол. И самое лучшее… – он сделал паузу, – самое лучшее вам с Макси меня убить, разделить поровну содержимое сейфа… Вас не тронут, скажете, что шеф остался на берегу…
Говоря всю эту чушь, шеф, на которого находили иногда приступы мазохизма, испытующе смотрел на меня – опять проверял на вшивость. Похоже, ему было действительно плохо.
Я выдержал его взгляд:
– А если связаться с каким-нибудь кораблем, сказать, что тяжелобольной на борту. Или дать SOS.
– Как это сделать, Андрей? Саид нас оставил без связи.
– А ноутбук?
– Им теперь только гвозди забивать.
– Что случилось?
– Винчестер посыпался. Только вчера обнаружил – хотел проверить наши банковские счета.
– Опять Саид?
– Не сомневаюсь…
Да, все так и оказалось. Шеф не преувеличивал. В самом сердце цивилизованного мира, опутанного сетями коммуникаций, мы не могли даже пискнуть о своем бедственном положении.
– Я перебрал все варианты, Андрей. – Когда в разговоре со мной шеф становился серьезен, он то и дело вставлял мое имя. – Перебрал и не нашел ни одного, заслуживающего внимания. Наше дело – труба. Вернее – мое. А вы… Вряд ли вам с Макси светит казенный дом.
Шеф, на самом деле его звали Аркадий, точнее Аркадий Борисович, был всего на пять лет меня старше, но пиетет к нему я питал больший, чем, скажем, мог бы питать к старшему брату. Скорее, я относился к шефу, как к отцу. Мне никогда не приходило в голову его ослушаться. Хотя бы уже потому, что мне нравилось ему подчиняться. Он не давил авторитетом, он – это было очевидно – уважал меня, только через годы после того, как я стал служить у него, я узнал, что он полукровка – мать его была еврейкой. Это выяснилось случайно, когда мне пришлось за двоих заполнять анкеты для поездки заграницу. Потом он во время перелета по маршруту – Петербург – Рим рассказал мне свою историю.
Дед его был расстрелян и свален в общую яму где-то возле Могилева, а бабка погибла в Освенциме, с ней – две ее старшие дочери. Младшая, двухлетняя Фрида, осталась жива – во время облавы ее спрятали у себя соседи-белорусы. После войны ее отдали в детский дом, где она и выросла, а в восемнадцать лет вышла замуж за сорокалетнего вдовца, у которого было трое своих детей. Семья переехала в Великий Новгород, там шеф и родился, русский по отцу, еврей по матери. На свет он появился семимесячным, менее двух килограммов весу, и по приговору врачей был не жилец. Однако выжил, хотя все детство отчаянно болел. Отец его умер, когда мальчику было двенадцать лет – с того дня он стал самостоятельным человеком, закончил техникум, затем Политехнический институт, работал инженером на заводе, производящем монохромные телевизоры, и сколотил там свой первоначальный капитал на продаже неучтенной продукции по ценам, что были гораздо ниже государственных. Дело это кончилось бы для него плохо, но тут грянула перестройка, и такие, как он, ловкие да умелые, пошли в первых ее рядах.
У него завелись друзья в правительстве и Думе, новгородские земляки во власти, включая одного, в ранге замминистра, сокурсника по Политехническому институту, которые направляли государственный капитал в нужном направлении под нужные проценты и откаты. Приватизация шла с российским размахом. Новая власть раздавала государственную собственность за смехотворные цены родственникам, друзьям и знакомым, далее – друзьям же и приятелям этих знакомых, далее – приятелям тех приятелей и друзей… Нигде никогда в истории человечества, в политической истории стран и народов – нигде и никогда еще не было такой приватизации. А народ, этот homo soveticus, зомби до мозга костей, хлопал ушами или шел за новую власть на баррикады у Белого дома. Помню, мне выдали один ваучер, два я купил на улице и чувствовал себя начинающим предпринимателем. Ваучер оказался билетом в нищету. Впрочем, я тогда мало что в этом смыслил – просветил меня мой шеф, раскрывший передо мной тайные механизмы обогащения по ново-русски. Никто из российских олигархов не заработал ни цента, ни гроша своими руками, талантом или головой. Зачем? – они были на известных условиях просто назначены в миллионеры новой властью, чтобы стать ее дойными коровами. Бодливым же она потом начнет просто отпиливать рога, иногда вместе с головой.
Сколько людей теперь работало на шефа? Счет шел уже на сотни. Остановить рост империи его было уже невозможно, она сама продолжала шириться, поглощая все новые и новые территории. Предложения сыпались со всех сторон – теперь уже от муниципальных властей, которым тоже хотелось красивой жизни. Все было куплено, все шло в рост – местный думец, милиционер, таможенник, растаможивающий игровые столы и автоматы, пожарник, инспектирующий помещения на предмет пожарной безопасности, управление госимуществом, главный архитектор и отдел городской рекламы при нем же, санэпиднадзор, и еще пятьдесят с гаком других государственных служб – от налоговой до ветеринарной. Считалось, что раз у тебя много денег, то ты должен ими поделиться, просто так, просто за то, чтобы тебе дали жить.
Но это не все, чем занимался мой находчивый шеф, – это было время тотального банкротства государственных предприятий, и шеф был среди тех умельцев, кто прибирал их к рукам. Даже мне однажды пришлось побыть директором заводика, который обанкрочивали. Он был куплен шефом за смехотворную сумму – три тысячи долларов, а через год продан за полмиллиона…
Что привлекало в нем, при общей стертости и неопределенности черт, – так это глаза, точнее просто взгляд этих маленьких, рыжих глаз, с белыми, как у поросенка, ресницами. Взгляд был умный, твердый и одновременно притягивающий, и когда шеф обращался к тебе, казалось, что тебя выделяют из числа других, что ты приятен, что тебя понимают и готовы сделать для тебя добро. Это был определенно лицедейский дар – располагать к себе людей, особенно деловых партнеров. И мне всегда представлялось, что в бизнесе шеф играет по правилам, и потому нам нечего опасаться – у нас нет и не может быть врагов. Все складывалось как нельзя лучше у нашей троицы, и, видимо, из-за этого все мы втроем потеряли бдительность. Новая реальность накатывала стремительно, как цунами, и грозила все смести.
– Не понимаю, зачем Саид попортил нам связь – теперь они не могут нас запеленговать.
– Могут – не могут, нам это неизвестно. А если он куда-нибудь сунул радиомаячок?
– Тогда бы нас уже нашли, – сказал я.
– Или найдут, – сказал шеф, посмотрев на часы. – Эдак через часок…
– Через три, – сказал я, давая понять, что не зря ночью бдел у штурвала…
Тут в динамике внутренней связи щелкнуло, и взволнованный голос Макси произнес:
– Вижу яхту!
4
Я не люблю свое детство. Иногда мне кажется, что его и не было. Может, потому, что я всегда хотел быть старше. Старшие – они были сильнее меня, и они никогда и ни на что не спрашивали у меня разрешения, они просто подходили и отнимали – мяч, самодельный лук со стрелами, пистолет на пружине, самозаводящийся, точнее инерционный, автомобильчик, – все, что им нравилось. Сопротивляться было бесполезно, и хотя каждый раз я сражался за то, что мне дорого, что мне было бесконечно жаль утрачивать, я всегда проигрывал. Старшие знали, что у меня нет отца, потому я изначально был слабаком, а с матерями в нашей среде не принято было считаться. Да я и боялся сказать матери, что у меня опять что-то отобрали, – с первых моих детских драк она мне запретила жаловаться и велела давать сдачи. Пожалуйся я ей, и был бы бит еще раз – при небольшом росте и весе у нее была хлесткая рука. Силой я сравнялся с матерью только в лет четырнадцать, когда однажды перехватил ее руку, занесенную надо мной для привычной затрещины… Мать автоматически занесла вторую, но столь же безуспешно, и тогда она, бессильно дернувшись, вдруг с изумлением посмотрела на меня и сказала: «Вот ты и вырос, сынок. Отпусти меня». Я отпустил, и в следующий момент в ухе у меня зазвенело от оглушительной пощечины.
– Только попробуй еще раз поднять на мать руку! – услышал я ее свистящий шепот, и хотя глаза ее побелели от гнева, губы змеились, но оба мы, она и я, поняли, что матриархату в нашей маленькой семье приходит конец, и теперь мы будем жить по другим правилам. Так оно и получилось – больше она меня не трогала и не пыталась силой решать наши проблемы.
А проблемы, естественно, были, и одна из них – ее мужчины. Не скажу, что их было много – нет. Если считать с моего уже сознательного малолетства, то передо мной прошло человек пять, не больше, то есть один в три года, и хотя почти каждый из них на раннем этапе своего времяпрепровождения с матерью становился моим притворным другом и дарителем всякой всячины, ни одного из них я никогда не считал кандидатом в отцы, а точнее в отчимы. Я прекрасно знал и помнил, что отца у меня нет, его как бы не было вообще в природе, я как бы родился от непорочного зачатия, как Иисус, с тем только отличием, что никакой особой миссии на земле у меня не было. Да, мой настоящий отец – он был для меня внематериален, вроде как Бог.
– Где папа?
– Его нет.
– А где он?
– Я сказала – нет его.
– Он что, умер?
– Да.
– Он умер, когда я был совсем маленьким?
– Да, когда ты еще не родился.
– А почему умер?
– Почему-почему… Почему люди умирают?
– Заболел?
– Да, заболел и умер. Поэтому ты кушай, что тебе дают. Надо все есть, чтобы быть здоровым.
– А папа плохо ел?
– Плохо.
– А почему ты не говорила ему, чтобы он ел хорошо?
– Он не слушался. Все, Андрюша, ты мне надоел со своими вопросами. Мой ноги, чисть зубы и иди спать.
И я старательно выполнял все процедуры приготовления ко сну – мне было жалко умершего папу, и я не хотел умереть, как он, а для этого нужно было хорошо есть и делать еще кучу всяких необходимых вещей. Поэтому когда у нас появлялся мужчина, я твердо знал, что это не папа, не может быть папа. Папа был для меня, как бог, который жил на облаках. Такого бога я видел на картине в альбоме, который подарил маме дядя Володя. Он был настоящим художником, даже учился в Ленинграде. Он рисовал красками и меня, и маму, и цветы на окне, и еще огромные плакаты на стенах комбината, в котором работала мама. У всех передовых работниц на его плакатах было мамино лицо.
Мамины мужчины относились ко мне по-разному: одни дарили мне подарки, другие меня вовсе не замечали, третьи… собственно, из третьих был один только художник дядя Володя – дружили со мной. Дядя Володя никогда не приходил с пустыми руками – это он помогал мне делать пистолеты и автоматы, луки и кинжалы, хотя они редко задерживались у меня – не дольше выхода во двор на прогулку. Да, дядя Володя был, пожалуй, самым интересным из маминых ухажеров – ухажерами их называла мамина подруга по соседнему бараку-общаге, к которой мама в конце недели, обычно с пятницы на субботу, отводила меня на ночь. Я ненавидел дни, когда меня препоручали соседке, – это значило, что у мамы опять кто-то будет, и что она вспомнит обо мне только на следующий день. И я волновался, что она меня может вообще забыть у соседей, и выдумывал всякие хитрости, чтобы остаться дома.
Самое верное – это было заболеть. Тогда мама менялась в лице, и что-то с ней происходило, – она вдруг становилась нежной, ласковой и внимательной, предупреждала каждое мое движение, говорила тихим голосом и называла «сынуля» или «мой мальчик»… словно исполняла какой-то долг, о котором забывала, когда я был здоров, когда все было нормально. Я так никогда и не узнал, любила ли она меня или только терпела. Я понимаю, любить меня было непросто, ненавидя моего отца-насильника, единого в трех лицах. И короткие приступы лихорадочной заботы обо мне сменялись у нее долгими паузами отчуждения.
Подлинную историю моего явления на свет я узнал от нее незадолго до того, как меня забрали в армию, и, скорее всего – в связи с этим. Она словно предчувствовала, что больше меня не увидит. Последний год, что мы провели вместе, она часто болела и кашляла, кашляла…
Рассказ ее, точнее – чистосердечное признание – не сблизил нас, а скорее развел. Мой бог переселился с облаков на землю, и даже ниже, под воду, но он был жив! Мой отец – подводник, и он где-то жил! Как я мог его ненавидеть? Не знаю, зачем она мне все это рассказала. Может, она рассчитывала, что я найду отца и отомщу за нее? Или чтобы сделать мне больно, чтобы передать мне часть своей боли, своей оскорбленности, чтобы опутать меня своей злополучной кармой? Она и слова-то такого не знала. Она вообще с книгами не дружила, хотя и обладала цепким практическим умом, и считала, что видит людей насквозь. Неоконченная средняя школа да курсы бухгалтеров – вот и все ее университеты… Она работала в бухгалтерии комбината, где их, бухгалтеров, было человек двадцать, и частенько я, если по какой-то причине пропускал детский сад или – потом – школу, околачивался в этом душном помещении, пропахшем женщинами.
Однажды под Новый год мама, как обычно, отвела меня на ночь к тете Лизе, у которой не было ни детей, ни мужа, потому что она была инвалидом. Про тетю Лизу я знал, что она наполовину армянка, наполовину русская, что ее семью в эти хмурые края занесло в пору сталинских чисток тридцатых годов, что как-то раз, когда она с подругами шла из школы, один из мальчишек, обычно увязывавшихся следом, вырвал у нее из рук школьную сумку и бросил на шпалы узкоколейки, – таким образом выражая свое внимание. Сумку она успела подхватить, но надвинувшийся паровоз-кукушка зацепил Лизу низко опущенной решеткой снегоочистителя… Переломанные кости ног срослись, но левая нога перестала сгибаться… Потом Лиза научилась обходиться и без костылей, но внимание ей больше никто из мальчишек, а потом и мужчин, не оказывал. Тетя Лиза была веселой и доброй, и не раз я слышал, как она то ли в шутку, то ли всерьез говорила моей маме: «отдай мне своего мальчонку, ты себе еще родишь». Тетя Лиза работала в той же бухгалтерии, что и мама, была в курсе всех маминых проблем и постоянно по части мужчин давала маме советы, которым мама никогда не следовала. Мама у меня была красивой, маленькой и ладной женщиной, отчасти похожей на мою первую жену Машу, разве что потоньше станом. И вот однажды под Новый год, когда мама отвела меня к тете Лизе, оказалось, что я не единственный ее гость. У тети Лизы гостила девочка. Она была старше меня, ей было лет двенадцать, тогда как мне всего семь – в том году я пошел в школу. «Первый класс купил колбас, второй жарил, третий ел, четвертый в щелочку смотрел, пятый с лестницы летел…» Что делал при этом шестой класс, в котором училась дальняя тети Лизина родственница, школьное словотворчество умолчало… Девочка эта ехала на зимние каникулы из Мурманска в Петрозаводск, и на пару дней остановилась здесь. Девочку звали необычно – Сильвия. В углу уже стояла, сверкая и топорщась, новогодняя, дивно пахнущая елка. Мы выпили чаю с привезенным печеньем, чинно сидя за столом, причем я страшно стеснялся Сильвии, а потом тетя Лиза положила нас спать. Я обычно спал на раскладном диване, который на сей был раздвинут и стал двуспальным. Нас уложили валетом, и от непривычного соседства я долго не мог заснуть. За окном была метель, и в свете уличного фонаря там пролетали роем снежные хлопья. Они все время меняли направление – то вниз, то вбок, а то и вверх, будто кто-то встряхивал снежное одеяло. От снега и фонаря в комнате было светло, в углу таинственно мерцала украшениями елка, а в другом углу на большой железной кровати, спинку которой украшали никелированные шары, тихонько посапывала тетя Лиза. Никелированные шары были вроде бессменных елочных украшений, содержащих в себе четыре пузатых комнаты с плавающими в них обитателями. Однако заглянуть туда было трудновато, так как на первое место неизменно выступал нос любопытствующего, заслоняя собой все остальное.
Похоже, Сильвия тоже не спала, потому что все время вертелась и вздыхала, словно ее не устраивало мое соседство или ей было жарко. Пару раз она ненароком пнула меня и, свернувшись калачиком, я замер на самом краю отведенной мне площади. Мне было не по себе лежать рядом с девчонкой, пусть и ноги к ногам, – я уже хорошо понимал, что девчонки совсем не такие, как мальчишки, и все у них совсем не так – это мы еще в детском саду выяснили, и, может, от этого а, возможно, и еще от чего-то я слышал в себе тревожный и одновременно возвышенный звон, словно соседка моя была не совсем девчонкой, и даже не девочкой, а в каком-то смысле волшебницей, феей, маленькой феей, исполняющей желания. Я, правда, не знал, какие желания она должна исполнить, но по стеснению в груди и какому-то неясному томлению, зреющему ниже пупка, холодку, веющему там, будто качаешься на качелях, я понимал, что все происходящее со мной – оно необыкновенно, в нем есть какая-то тайна, отчасти похожая на ту, что скрывала мама, отводившая меня на ночь к тете Лизе; я видел, как мама готовится к этой тайне, надевая свое лучшее платье, завивая волосы и подкрашивая тушью брови и ресницы.
Потом я заснул и увидел сон. Во сне ко мне подошел незнакомый мальчишка моих лет и сказал: «Давай померяемся письками, у кого больше». Он достал свой крантик, а я свой. Но мы не знали, как их померить, потому что внешне они были одинаковыми. Я уже хотел было согласиться на ничью, как вдруг мальчишка громко засмеялся, показывая на мое маленькое хозяйство: «Ой, какой уродец! Ха-ха-ха!» Я глянул вниз и обмер – вместо крантика внизу у меня копошился какой-то мохнатый зверек, острыми зубками он щекотал мне пах, будто собираясь вгрызться в него.
От ужаса я вскрикнул и проснулся. Мне хотелось писать. В комнате на этот случай было специальное ведерко с фанерной крышкой, но я постеснялся его использовать, чтобы не разоблачить себя слишком уж громкой струей. Система этих двухэтажных домов-бараков, отчасти напоминавших мне общагу, в которой я потом буду жить со своей женой Машей, имела две уборных на этаже в каждом конце сквозного коридора. Ближняя уборная была то ли занята, то ли напрочь закрыта, и я пошел вдоль спящих дверей в дальний конец коридора. Было холодно, желтая лампочка едва давала свет, в обоих концах за торцовыми окнами бушевала ночная вьюга. Каким-то непостижимым образом она была связана с моим сном, была как бы его продолжением, будто все это мятущееся и мятежное воинство снега и было смехом того незнакомого мальчишки, еще стоявшим в моих ушах, – вьюга смеялась надо мной, уличая меня в постыдном зуде под животом, в зуде, который на самом деле был каким-то неведомым зверьком, – и во мне еще не избыло извлеченное из сна ощущение ужаса, когда я спрашивал себя, как же теперь мне жить с этим зверьком, как утаить мой позор? И вот теперь вьюга за окнами о нем знала и заходилась от смеха, даже подвывала в изнеможении, и угодливые слуги, снежные хлопья, по ее мановению дробно прилеплялись к стеклу, дабы снова и снова взглянуть на меня, черпая из моего уродства порции смешного.
Это навязчивое болезненное видение из сна пропало лишь, когда я пописал, и теперь оставалось во мне скрадывающимся осадком боли. В комнате тети Лизы было тихо, из угла раздавалось мирное посапывание хозяйки, спала и девочка – и то, что она спала и ничего не знала о привидевшемся мне конфузе, сделало ее вдруг родной и близкой, словно она была негласным подтверждением моего истинного начала, чистого, здорового и непорочного.
С благодарностью к ней, не смеявшейся надо мной, я лег, поджал коленки к подбородку и попытался заснуть. Но сон не шел. И вдруг я понял, почему не могу заснуть, – я боялся продолжения того сна. Я смотрел на окно, к которому с порывом ветра прилеплялись сразу десятки снежных хлопьев, словно это злые духи или неведомые и чужие жизни барабанили мне в стекло. Полежав без сна и чувствуя под сердцем тяжесть, пустоту и желание заплакать от бремени одиночества, я перевернулся головой в другую сторону и переполз к спящей девочке. Теперь она совсем не шевелилась и дышала так неслышно, словно ее души тут не было. Но тело ее было – оно пахло сладко и волнующе. Я лег рядом с ней, за ее спиной, и втягивал ноздрями пряный ванильный запах, погрузив лицо в курчавящийся шелк ее пышных волос. Вечером перед сном, я, хотя и делал вид, что не гляжу на эту девочку, на самом деле успел хорошенько ее рассмотреть, – она была смуглой, с большими глазами, густыми выгнутыми ресницами, и густыми же черными бровями, а под ее розовой шерстяной кофтой явно обозначались пупырышки грудок. Говорила она с едва уловимым акцентом, в котором, как и в этом сдобном запахе от нее, было для меня что-то новое и сказочное, выходящее за пределы моего прежнего опыта.