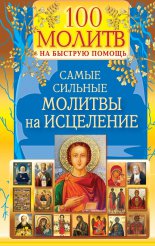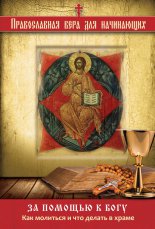Леденцовые туфельки Харрис Джоанн

Легко сказать – постарайся подружиться! – думала я. Да и какой смысл стараться? Все равно ведь никто со мной дружить не захочет. У меня уродские волосы, уродская одежда, и сама я уродина…
– С кем, например? – спросила я.
– Ну, я не знаю. – В голосе у нее послышалось нетерпение, и она принялась убирать в шкафчик специи. – Ведь наверняка же есть кто-то, с кем ты ладишь.
Но я же не виновата, что это они со мной не ладят! Почему мама думает, что все дело именно во мне? Что это со мной так трудно ладить? Дело в том, что она-то никогда по-настоящему в школу и не ходила – она говорит, что всему училась на практике, – а потому и знает о школе только то, что прочла когда-то в детских книжках или увидела через забор. Поверь, мама, по ту сторону забора, на школьном дворе идет совсем другая игра, далеко не такая замечательная, как, например, хоккей!
– Ты что-то еще хочешь мне сказать?
И снова это нетерпение в голосе, и этот тон, в котором так и слышится: «Ты должна быть благодарной, ведь я столько труда положила, чтобы привезти тебя сюда, отправить в хорошую школу, спасти от той жизни, какую вела я сама…»
– Могу я тебя кое о чем спросить? – решилась я.
– Конечно, Нану. А в чем дело?
– Мой отец был чернокожим?
Она вздрогнула – едва заметно, я бы и внимания на это не обратила, но аура ее так и вспыхнула.
– Так Шанталь из нашего класса считает.
– Правда?
Мама отрезала Розетт кусочек хлеба. Хлеб, нож, пролитый шоколад. Розетт крутит хлеб в своих крошечных обезьяньих лапках. У мамы на лице застыло выражение крайней сосредоточенности. И невозможно понять, о чем она сейчас думает. И глаза у нее черные-черные, чернее самой черной Африки, и прочесть по ним что-либо нельзя.
– А что, это имело бы для тебя какое-то значение? – спросила она наконец.
– Не знаю, – буркнула я, пожав плечами.
Она вдруг повернулась ко мне и на мгновение словно стала той, прежней, которой всегда было плевать, что о ней думают другие.
– Видишь ли, Анук, – медленно промолвила она, – я довольно долго считала, что тебе вообще никакой отец не нужен. Мне казалось, что мы с тобой всегда будем только вдвоем, как это было и у меня с моей матерью. А потом появилась Розетт, и я подумала: что ж, может, все-таки стоит…
Она не договорила и улыбнулась. А потом так ловко сменила тему, что я далеко не сразу догадалась: она и не думала ее менять – это как в том ярмарочном фокусе с шариком и тремя наперстками.
– Ты ведь к Тьерри хорошо относишься, верно? – спросила она.
Я снова пожала плечами:
– Ну да, он ничего.
– Я так и думала. Он-то тебя любит…
Я откусила кусочек круассана. Розетт, сидя на маленьком стульчике, играла, уже успев превратить свой ломтик хлеба в самолет.
– Дело вот в чем: если кому из вас он не нравится…
Тьерри и в самом деле не особенно нравится мне. Он слишком громогласный, пропах своими сигарами и вечно прерывает маму, когда она говорит, меня называет jeune fille, словно это какая-то шутка, а Розетт вообще не воспринимает и ничего не может понять, если она пытается что-то объяснить ему знаками. А еще он любит повторять всякие длинные слова и разъяснять их значение, как будто я никогда раньше таких слов не слышала!
– Он ничего, – вяло повторила я.
– Тогда… В общем, Тьерри хочет на мне жениться.
– И давно? – спросила я.
– Впервые он заговорил со мной об этом еще в прошлом году. Но я ответила, что пока что не хотела бы ни с кем связывать свою судьбу, что у меня сейчас хватает забот и с Розетт, и с мадам Пуссен, и он сказал, что с удовольствием подождет. Но теперь мы остались одни…
– Ты ведь не сказала ему «да»? Не сказала?
Я выкрикнула это слишком громко, и Розетт тут же закрыла уши руками.
– Все слишком сложно.
Голос у мамы звучал устало.
– Ты всегда так говоришь!
– Это потому, что всегда все действительно очень непросто.
Но почему? Не понимаю. По-моему, все ясно. Она никогда раньше не была замужем, верно? Ну и с какой стати ей теперь-то замуж выходить?
– В нашей жизни многое переменилось, Нану, – сказала она.
– Многое – это что, например?
Мне действительно хотелось понять.
– Например, то, как обстоят дела с нашей chocolaterie. За аренду уплачено до конца года, но потом… – Мама вздохнула. – Сохранить ее будет нелегко. А просто так брать деньги у Тьерри я не могу. Хотя он все время их мне и предлагает. Это было бы неправильно. Вот я и подумала…
Я так и знала: что-то такое случилось. Только я думала, что мама печалится из-за мадам Пуссен. Теперь-то ясно: печалится она из-за Тьерри и опасается, что я могу расстроить их планы.
Их планы… Я легко могла себе представить, как все это будет выглядеть: мама, папа и две девочки в стиле историй графини де Сегюр. Мы бы ходили в церковь, каждый день ели бы steack-frites[31], носили бы одежду, купленную в галерее Лафайет. На письменном столе у Тьерри стояла бы фотография – профессионально выполненный портретный снимок: я и Розетт, разряженные в пух и прах.
Не поймите меня неправильно; я же сказала: он ничего. И все же…
– Ну? – спросила мама. – Ты что, язык проглотила?
Я откусила еще кусочек круассана и выдавила из себя:
– Да не нужен он нам.
– Но кто-нибудь нам обязательно нужен! Я думала, что ты хотя бы это поймешь. Тебе нужно учиться, Анук. Тебе нужен нормальный дом… отец…
Не смешите меня. Отец? Да ладно! Она же всегда говорила: «Ты сама выбираешь себе семью». Но разве она предоставляет мне возможность выбора?
– Анук, – сказала она, – я делаю это для тебя…
– Да как угодно.
Я пожала плечами и отправилась доедать свой круассан на улицу.
Глава 8
10 ноября, суббота
Утром я зашла в chocolaterie и купила коробку «пьяной вишни». Янна была там, и при ней малышка. Покупателей, кроме меня, не было, но она почему-то заторопилась, увидев меня, и, по-моему, ей стало немного не по себе, да и конфеты, когда я их попробовала, оказались самыми обыкновенными.
– Когда-то я сама такие конфеты делала, – сказала Янна, вручая мне перевязанную бумажной лентой коробку. – Но с «пьяной вишней» всегда столько возни, а времени у меня в обрез. Надеюсь, вам понравится.
Я с притворной жадностью сунула одну конфету в рот.
– Мечта! – воскликнула я, хотя вишня напоминала скорее маринованную, а не «пьяную».
На полу за прилавком Розетт что-то тихонько напевала, стоя на четвереньках среди разбросанных карандашей и листков разноцветной бумаги.
– Она разве в детский садик не ходит?
Янна покачала головой.
– Я предпочитаю сама за ней присматривать.
Что ж, это заметно. Впрочем, заметно и кое-что еще, особенно когда как следует приглядишься. За этой небесно-голубой дверью скрывается множество вещей, которых обычные покупатели просто не замечают. Во-первых, помещение старое и явно требует ремонта. Витрина, правда, оформлена вполне симпатично – разными хорошенькими баночками и коробочками, да и стены в магазине выкрашены веселой желтой краской, но сырость все равно не скроешь, она притаилась в углах и под полом и свидетельствует о нехватке и времени, и денег. Хотя, конечно, они кое-что предприняли, чтобы это скрыть: тонкая, похожая на паутину золотистая надпись как бы случайно оказалась именно в том месте, где на стене больше всего трещин, приветливо мерцает дверь, воздух пропитан роскошными ароматами, обещающими нечто гораздо большее, чем эти второсортные шоколадки.
Попробуй. Испытай меня на вкус.
Левой рукой я незаметно начертала в воздухе магический знак – Глаз Черного Тескатлипоки. И тут же вокруг заполыхали цвета, подтверждавшие мои первоначальные подозрения. Это, безусловно, проявлялась чья-то волшебная сила, но вряд ли Янны Шарбонно. У этого многоцветного сияния слишком молодой, наивный, взрывной оттенок, что свидетельствует о душе, еще необученной.
Анни? А кто еще? Неужели ее мать? Ну что ж. В ней действительно есть нечто такое, что не дает мне покоя, хотя я заметила это лишь однажды – в самый первый день, когда она открыла дверь, услышав свое имя. Тогда у нее и аура была ярче; и что-то подсказывает мне: те яркие цвета вообще ей свойственны, хоть она и старается это скрыть.
Розетт по-прежнему рисовала на полу, напевая свою простенькую песенку. «Бам-бам-баммм… Бам-бадда-баммм…»
– Идем, Розетт. Тебе пора спать.
Но Розетт даже головы не подняла. Только пение стало чуть громче; теперь она сопровождала его еще и ритмичным постукиванием ножки, обутой в сандалию. «Бам-бам-бамм…»
– Ну хватит, Розетт, – ласково сказала Янна. – Давай-ка уберем твои карандаши.
Розетт и на это предложение никак не отреагировала.
– Бам-бам-бамм… Бам-бадда-бамм… – И под это пение ее аура из нежно-золотистого цвета осенних хризантем превратилась в ярко-оранжевую, и она со смехом протянула ручонки, словно пытаясь поймать в воздухе падающие лепестки. – Бам-бам-бамм… Бам-бадда-бамм…
– Тише, Розетт!
Вот теперь я отчетливо почувствовала, до какой степени Янна напряжена. И напряжение это свидетельствовало не столько о растерянности – из-за того, что дочка не желает ее слушаться, – сколько о приближающейся опасности. Она подхватила Розетт, которая продолжала беззаботно, как птичка, напевать, и, слегка сдвинув брови, извинилась передо мной.
– Вы уж нас простите. Она всегда так, когда переутомится. Просто ей спать пора.
– Ничего страшного. Она у вас такая умница, – сказала я.
С прилавка вдруг упала кружка с карандашами. И карандаши покатились по полу во все стороны.
– Бам, – сказала Розетт, указывая на рассыпавшиеся карандаши.
– Извините, но мне нужно поскорее уложить дочку. – Янна начинала нервничать. – Она, если днем не поспит, к вечеру становится просто неуправляемой.
Я снова посмотрела на Розетт: ни переутомленной, ни слишком возбужденной она мне вовсе не показалась. А вот мать ее выглядела действительно усталой, даже измученной. В лице ни кровинки, и эта стрижка – слишком резкое каре – ей совсем не идет, и дешевый черный свитер тоже, она в нем кажется бледной как смерть.
– Вы хорошо себя чувствуете? – участливо спросила я.
Она кивнула.
Лампочка в единственном светильнике у нее над головой вдруг замигала. Ох уж эти старые дома! Вечно в них проводка никуда не годится.
– Вы уверены? Что-то вы побледнели.
– Просто голова болит. Ничего страшного.
Знакомые слова. Сильно сомневаюсь, что она говорит правду: она так прижимает девочку к себе, словно боится, что я могу ее выхватить.
А вы как думаете? Могу? Я дважды была замужем (хотя оба раза под чужим именем), но мне ни разу даже в голову не пришло обзавестись ребенком. Я слышала, что с детьми столько хлопот и всяких сложностей, да и работа моя ни в коем случае не позволяет мне таскать за собой лишний багаж.
И все же…
Я незаметно шевельнула пальцами, изобразив в воздухе символ бога Шочипилли[32]. Среброязыкий Шочипилли, бог сновидений и пророчеств. Не то чтобы меня так уж особенно интересовали пророчества. Но даже ни к чему не обязывающая беседа может порой дать весьма полезные плоды, а для таких, как я, любая информация – драгоценная валюта.
Магический символ повисел, сверкая, в темном воздухе секунду или две и растаял, точно колечко серебристого дыма.
Какое-то время все было по-прежнему.
В общем-то, если честно, я ничего особенного и не ожидала. Но меня разбирало любопытство, и, кроме того, неужели она не даст мне хотя бы крошечного удовлетворения после всех моих усилий?
В общем, я снова изобразила символ Шочипилли, шепчущего бога, раскрывающего секреты и обеспечивающего доверие. И на этот раз результат превзошел все мои ожидания.
Во-первых, сразу же вспыхнули все цвета ее ауры. Не слишком сильно, но достаточно ярко, точно пламя в газовой горелке, когда чуть повернешь ручку. И почти в тот же миг солнечное настроение Розетт резко переменилось. Она стала выгибаться на руках у матери, отталкивая ее, вырываясь и протестуя. А та лампочка, что все время мигала, вдруг взорвалась с неожиданно резким звуком, а в витрине рассыпалась пирамидка из жестянок с печеньем – причем с таким грохотом, который и мертвого разбудил бы.
Янна Шарбонно пошатнулась, потеряла равновесие и, невольно шагнув вбок, ударилась бедром о прилавок.
На прилавке стоял небольшой открытый поставец с хорошенькими хрустальными тарелочками, полными засахаренного миндаля в розовых, золотых, серебряных и белых обертках. Поставец покачнулся, Янна инстинктивно придержала его, но одна из тарелочек все же упала на пол.
– Розетт!
Янна чуть не плакала.
Я услышала, как тарелочка со звоном разбилась, а конфеты разлетелись по терракотовым плиткам пола.
Но на пол я не смотрела: я не сводила глаз с Янны и Розетт – аура девочки теперь так и пылала, мать же ее застыла, точно каменное изваяние.
– Давайте я помогу.
Я наклонилась и стала собирать конфеты и осколки.
– Нет, прошу вас…
– Да я уже все собрала.
Я чувствовала, как сильно она напряжена, почти готова взорваться. И уж конечно, не из-за разбитого блюдца – насколько я знаю, такие женщины, как Янна Шарбонно, не станут рвать на себе волосы из-за какой-то стекляшки. Зато курок может спустить любая, самая неожиданная мелочь: неудачный день, головная боль, доброта незнакомого человека.
И тут я краем глаза увидела существо, скорчившееся под прилавком.
Оно было очень ярким, золотисто-оранжевым и казалось нарисованным чьей-то неумелой рукой, но по его длинному изогнутому хвосту и ясным маленьким глазкам я достаточно легко догадалась, что это, видимо, некая разновидность обезьянки. Я резко повернулась, чтобы как следует рассмотреть ее мордочку, но она оскалилась, продемонстрировав мне свои острые клыки, и мгновенно растворилась в воздухе.
– Бам, – сказала Розетт.
Воцарилось долгое молчание.
Я взяла в руки «разбитую» тарелочку – хрустальную, из Мурано[33], с изящными желобками по краям. Но я же слышала, как она разбилась – взорвавшись, точно шутиха, – и как ее осколки шрапнелью рассыпались по плиткам пола! И все же я держала в руках совершенно целую тарелку. Словно ничего и не случилось!
«Бам», – подумала я.
Под ногами у меня все еще похрустывали конфеты – точно кто-то их грыз. Теперь уже Янна Шарбонно молча наблюдала за мной, и это опасное молчание окутывало нас все плотнее, точно шелковый кокон.
Я могла бы сказать: «Ах, как удачно» – или просто без единого слова поставить тарелочку на прилавок, но я понимала: теперь или никогда. «Нанеси удар сейчас, когда она почти не сопротивляется, – сказала я себе. – Возможно, второй такой возможности тебе уже не представится».
Так что я посмотрела Янне прямо в глаза, направив на нее всю мощь своих чар, и сказала:
– Ничего страшного. Я знаю, что вам сейчас нужно.
Она слегка вздрогнула, застыла, но глаз не отвела, на лице ее было написано неповиновение и высокомерное непонимание.
А я взяла ее за руку и с нежной улыбкой пояснила:
– Горячий шоколад! Горячий шоколад по моему особому рецепту. С перцем чили, мускатным орехом и арманьяком; добавим также щепотку черного перца. Ладно, ладно, не спорьте. И малышку возьмите с собой.
Она молча последовала за мной на кухню.
Итак, я своего добилась.
Часть третья
Кролик номер два
Глава 1
14 ноября, среда
Я никогда не хотела быть ведьмой. Никогда не мечтала об этом – хотя моя мать клялась, что слышала мой зов за несколько месяцев до того, как я у нее появилась. Я этого, конечно, не помню; мое раннее детство – это сплошной калейдоскоп мест, запахов и людей, сменявшихся со скоростью курьерского поезда. Мое детство – это переход через границы без документов, бесконечные странствования под различными именами, ночные бегства из дешевых гостиниц, рассветы каждый раз в новом месте – и бегство, постоянное бегство неведомо куда, словно это единственная возможность выжить, незаметно просочиться по артериям, венам, капиллярам различных дорог, изображенных на карте, не оставляя позади ничего, даже собственной тени.
«Ты сама выбираешь себе семью», – говорила мать. Совершенно очевидно, что мой отец не принадлежал к избранным ею.
«Да зачем он нам, Вианн? Отцы вообще не считаются. Нам с тобой и так хорошо…»
Честно говоря, я по отцу и не скучала. Да и чего мне скучать? Его в моей жизни и не было никогда, так что сравнивать, хорошо с ним или плохо, я не могла. Я представляла его себе темноволосым и немного зловещим, чем-то похожим, пожалуй, на того Черного Человека, от которого мы вечно спасались. Кроме того, я обожала мать и очень любила тот мир, который мы сами для себя создали и несли с собой повсюду, куда бы ни пошли; и в этот мир вход обычным людям был заказан.
«Потому что мы особенные, не такие, как все», – говорила мать. Мы много повидали; мы обрели профессиональную сноровку. И повсюду мы поступали по принципу «ты сама выбираешь себе семью», обретая там сестру, тут бабушку – везде нам встречались знакомые лица одного с нами роду-племени, разбросанного по всему свету. Но насколько я могу судить, мужчин в жизни моей матери не было никогда.
За исключением того Черного Человека, разумеется.
«Неужели моим отцом был тот Черный Человек?» Меня потрясло, когда я услышала примерно такой же вопрос от Анук и поняла, как близко она к этому подошла. Я и сама рассматривала такую возможность, когда мы, в очередной раз спасаясь бегством, не успевали порой даже блузку в юбку заправить – так и бежали с размалеванными лицами, в карнавальных костюмах, которые ветер вскоре превращал в лохмотья. Черного Человека, конечно, в действительности не существовало. И в итоге я пришла к выводу, что и моего отца тоже.
И все же любопытство иногда брало верх, и время от времени я – в Нью-Йорке или Берлине, в Венеции или в Праге – начинала искать его глазами в толпе, надеясь, наверное, сразу же его узнать, одинокого, с такими же, как у меня, темными глазами…
А мы с матерью все бежали, бежали куда-то. Сперва, казалось, просто из удовольствия; потом это, как и все прочее, стало привычкой; потом – привычной работой. А под конец я стала считать, что для моей матери это единственный способ продлить жизнь, ибо рак уже пожирал ее тело, проникая в кровь, в мозг, в кости.
Именно тогда мать впервые и упомянула о той девочке. А я, помнится, решила, что это просто бред, вызванный сильным болеутоляющим, которое она принимала. И она ведь действительно потом стала бредить, но тогда конец был уже совсем близок. Она рассказывала истории, абсолютно не имевшие смысла, без конца говорила о Черном Человеке, изливала душу каким-то людям, которых вообще рядом с нею не было.
Та девочка, чье имя так сильно напоминало мое собственное, могла быть просто порождением ее зыбкого в этот период сознания – неким архетипом, анимой, или случайно запомнившимся героем газетного материала, или просто очередным пропавшим в Париже ребенком с темными волосами и глазами, которого дождливым днем украли возле сигаретного киоска.
Сильвиан Кайю. Она исчезла, как исчезают многие дети: в возрасте полутора лет была украдена прямо из автомобиля, остановившегося у аптеки неподалеку от Ла-Вилетт. Девочку украли вместе с сумкой, где лежали ее ползунки, подгузники и игрушки; мать утверждала потом, что на ручке у малышки был дешевый серебряный браслетик с амулетом «на счастье» в виде кошечки.
Это была не я. Такого просто быть не могло. А даже если это и так, то после стольких лет…
«Ты сама выбираешь себе семью, – говорила мать. – Я вот выбрала тебя, а ты – меня. А та девушка… разве стала бы она так тебя любить и лелеять, как я? Да разве она понимала, как о тебе нужно заботиться? Разве она сумела бы так разрезать яблоко, чтобы внутри получилась “звездочка”? Разве сумела бы научить тебя собирать лекарственные травы или отгонять демонов, стуча по сковородке? Или песенкой убаюкивать ветер? Нет, ничему этому она бы тебя научить не смогла…»
«И разве мы с тобой плохо жили, Вианн? Разве я не пообещала тебе, что все у нас будет хорошо?»
Он и до сих пор у меня, этот амулет в виде кошечки. Самого браслетика я не помню – возможно, мать продала его или кому-нибудь подарила, – зато помню некоторые игрушки: красного плюшевого слона и маленького коричневого медведя, одноглазого и горячо любимого. Тот амулет, перевязанный красной ленточкой, по-прежнему лежит в материной шкатулке – дешевая побрякушка из тех, какие может купить и ребенок. Там же хранятся ее гадальные карты и еще кое-что: например, наша с ней фотография, на которой мне лет шесть, брусок сандалового дерева, какие-то газетные вырезки, кольцо. И рисунок, который я сделала в своей первой – и единственной – школе в те дни, когда мы еще хотели где-нибудь осесть и жить на одном месте.
Разумеется, я никогда не носила тот амулет. А теперь мне даже прикасаться к нему неприятно; в нем заперто слишком много тайн, которым, точно запаху, нужно всего лишь человеческое тепло, чтобы вырваться наружу. Как правило, я вообще ни к чему в этой шкатулке не прикасаюсь – но все же не решаюсь просто выбросить ее. Когда вещей слишком много, они тормозят, но когда их становится слишком мало, тебя может унести ветром, точно пух одуванчика, и ты навсегда потеряешь себя.
Зози у нас всего четыре дня, и ее присутствие уже ощущается во всем, к чему бы она ни прикоснулась. Не знаю, как это вообще получилось, – временная слабость, наверное. Я ведь совершенно не собиралась предлагать ей работу. Во-первых, у меня нет возможности нормально платить ей, хотя она вроде бы с радостью согласна подождать, когда у меня такая возможность появится; а во-вторых, уж больно естественно она чувствует себя у нас в доме, словно всю жизнь рядом со мной прожила.
Все началось в тот день, когда Розетт совершила очередной Случайный Поступок. Тогда Зози сама приготовила шоколад, и мы все вместе пили его на кухне, и он был горячий и сладкий, со свежим перцем и шоколадной стружкой. Розетт тоже выпила немножко из своей маленькой кружечки и принялась играть на полу, а я сидела и молчала – и все это время Зози наблюдала за мной, улыбаясь и щурясь, как кошка.
Обстоятельства были исключительные. В любой другой день, в любое другое время я была бы подготовлена куда лучше. Но только не в тот день, когда у меня в кармане по-прежнему лежало кольцо Тьерри, и Розетт вела себя из рук вон плохо, и Анук примолкла и замкнулась, едва услышав о возможной свадьбе, и впереди был еще долгий пустой день…
В любое другое время я держалась бы стойко. Но в тот день…
«Ничего страшного. Я знаю, что вам сейчас нужно».
Ну и что, собственно? Что она знает? Что тарелочка, которая разбилась, вновь стала целой? Но это же просто смешно, никто этому не поверит, и уж тем более тому, что подобный фокус сотворил ребенок, которому еще и четырех нет, который еще и говорить-то не умеет.
– У вас усталый вид, Янна, – заметила Зози. – Тяжело, должно быть, везти такой воз.
Я молча кивнула.
Воспоминание о том, что сделала Розетт, о той Случайности, стояло между нами, точно тарелка с последним куском торта под конец вечеринки.
«Только не произноси этого вслух, – мысленно сказала я ей, как не раз пыталась сказать и Тьерри. – Пожалуйста, не произноси этого вслух; не облекай это в словесную форму».
И мне показалось, что я услышала ее краткий ответ. Вздох, улыбка, промельк чего-то едва заметного, как бы скрытого тенью. Мягкое шуршание карт, пахнущих сандалом.
Молчание.
– Мне не хочется говорить об этом, – сказала я.
Зози пожала плечами.
– Тогда пейте шоколад.
– Но вы же заметили.
– Я много чего заметила.
– Например?
– Например, что у вас усталый вид.
– Я плохо сплю.
Какое-то время она молча смотрела на меня. Глаза у нее совершенно летние, с золотистыми крапинками. «Мне бы следовало знать, что ты любишь больше всего, – подумала я почти сонно. – А может, я просто утратила сноровку…»
– Знаешь, что я тебе скажу… – Она вдруг перешла на ты. – Давай я пока присмотрю за магазином. Я ведь даже родилась в магазине – я хорошо знаю, как себя нужно вести. А ты возьми Розетт и немного приляг. Если ты мне понадобишься, я тебе крикну. Ступай. Мне будет даже забавно пообщаться с покупателями.
Это было всего четыре дня назад. И больше никто из нас о том дне не сказал ни слова. Розетт, разумеется, еще не понимала, что в реальном мире разбитая тарелка должна оставаться разбитой, как бы сильно мы ни хотели, чтобы было иначе. А Зози не сделала ни малейшей попытки вновь поднять этот вопрос, за что я очень ей благодарна. Она-то, разумеется, понимает: случилось нечто особенное, но, похоже, относится к этому вполне спокойно.
– А в каком магазине ты родилась, Зози?
– В книжном. Знаешь, типа «Нью эйдж».
– Правда? – удивилась я.
– Моя мать увлекалась магией, которую можно купить в магазине, и сама продавала всякие такие вещи – карты Таро, всевозможные благовония и свечи – накачанным дурью хиппи, безденежным, с грязными патлами.
Я улыбнулась, хотя слова ее слегка встревожили меня.
– Но это было очень давно, – сказала она. – Я теперь почти ничего уже и не помню.
– Но ты все еще… веришь? – спросила я.
Она улыбнулась.
– Я верю, что мы могли бы кое-что изменить.
Я промолчала.
– А ты?
– Когда-то верила, – сказала я. – Теперь уже нет.
– Могу я спросить почему?
Я покачала головой.
– Нет. Может быть, потом.
– Ладно, – кивнула она.
Я знаю, знаю. Это опасно. Каждый поступок – даже самый маленький – имеет свои последствия. За магию приходится платить высокую цену. Ох и много же времени мне потребовалось, чтобы это понять – я поняла это только после Ланскне, после Ле-Лавёз, – зато теперь, когда последствия наших бесконечных странствий расходятся вокруг нас, точно круги от брошенного камня на поверхности озера, все представляется мне удивительно ясным.
Взять, к примеру, мою мать, такую щедрую на подарки, вечно направо и налево раздававшую амулеты на счастье и словно излучавшую доброжелательность, тогда как рак у нее внутри рос, точно проценты на депозитном счету, которого у нее никогда в жизни не было. У вселенной свои расчетные книги, свой баланс. Даже такие мелочи, как амулет на счастье, волшебный фокус, магический круг, нарисованный на песке, требуют оплаты. Полностью. Кровью.
Видите ли, в этом есть своя симметрия. За каждый кусочек счастья – удар; за каждого, кому поможешь, – боль. Повесишь красное шелковое саше над дверью – и на чью-то еще дверь падет тень. Зажжешь свечу, чтобы отогнать беду, – и чей-то дом на той стороне улицы вдруг вспыхнет и сгорит дотла. Устроишь праздник шоколада – и умрет твой друг.
Невезение.
Случайность.
Именно поэтому я и не могу полностью довериться Зози. Хотя ее доверие мне тоже терять не хочется – она слишком нравится мне. Да и детям, по-моему, тоже. Есть в ней что-то молодое, даже юношеское, куда более близкое Анук, чем мне, а потому для Анук она гораздо понятнее и доступней.
Возможно, все дело в ее длинных светло-каштановых волосах, она их носит распущенными, а переднюю прядь выкрасила в розовый цвет; а может – в ее невероятно ярких, пестрых одежках, точно приобретенных в детском отделе благотворительной лавки и надетых как бы впопыхах, но отчего-то удивительно ей подходящих. Сегодня, например, она надела платьице в талию в стиле 50-х годов, небесно-голубого цвета, с рисунком из корабликов, и желтые балетки, совершенно неподходящие для ноября, – но ей, судя по всему, на такие условности плевать.
Я помню, что когда-то и сама была такой же. Я помню свое пренебрежение условностями и этот постоянный вызов. Но материнство все меняет. Материнство делает из нас трусих. Трусих, обманщиц и… кое-кого похуже.
Ле-Лавёз. Анук. И… о, тот ветер!
Четыре дня – и я не устаю удивляться себе: я ведь доверяю Зози не просто присматривать за Розетт, как это раньше делала мадам Пуссен, но и множество других дел, связанных с работой в магазине. Завернуть, запаковать, прибрать, принять или сделать заказ – по ее словам, ей такая работа нравится, она якобы всегда мечтала работать в какой-нибудь chocolaterie. Впрочем, она никогда не позволит себе взять без спросу что-то готовое и съесть – как это, кстати, частенько делала мадам Пуссен – или, пользуясь своим положением, попросить разрешения взять домой образцы.
Тьерри я о ней пока ничего не сказала. Я и сама толком не знаю почему. Просто мне кажется, что он будет недоволен. Возможно, потому что я с ним не посоветовалась, а возможно, потому что ему наверняка не понравится Зози, ни капли не похожая на степенную мадам Пуссен.
С покупателями Зози чрезвычайно весела и любезна – иногда меня даже тревожит ее манера со всеми быть на дружеской ноге. Она постоянно что-то говорит, рассказывает всякие новости, перевязывая лентой коробки и взвешивая шоколадки. А еще у нее прямо-таки волшебный дар заставлять людей рассказывать о себе; она интересуется, не болит ли у мадам Пино спина, запросто болтает с нашим почтальоном, знает, что больше всего любит Толстый Нико, вовсю флиртует с Жаном-Луи и Пополем, так называемыми художниками, которые ловят клиентов возле «Крошки зяблика», и охотно болтает со стариками Ришаром и Матуреном, которых она называет «наши патриоты»; они иногда заходят в кафе часов в восемь утра, а потом чаще всего сидят до обеденного перерыва.
Она уже и всех школьных подружек Анук знает по именам, она расспрашивает ее об учителях, советует ей, как одеваться. И все же при ней я ни разу не почувствовала себя не в своей тарелке, и она ни разу не задала мне ни одного из тех неприятных вопросов, которые любая на ее месте непременно уже задала бы.
Примерно так же я чувствовала себя в обществе Арманды Вуазен – когда-то давно, еще в Ланскне. Той самой неуправляемой, непокорной злюки Арманды, чьи алые нижние юбки я все еще вижу порой краешком глаза, чей грозный голос, странным образом напоминающий мне голос моей матери, до сих пор звучит у меня в ушах, и я оборачиваюсь и начинаю искать ее глазами в толпе.
Зози, разумеется, совсем на нее не похожа. Арманде в пору нашего знакомства исполнилось восемьдесят, это была высохшая сварливая старуха. И все же что-то роднит их с Зози – одинаково вызывающая манера поведения, одинаковый аппетит к жизни и ко всему на свете. А если Арманда к тому же обладала и малой толикой того, что моя мать называла магией…
Но теперь у нас в доме о таких вещах не говорят. И этот молчаливый договор весьма строг. Стоит хоть слегка его нарушить, позволить вспыхнуть хотя бы самой маленькой искре – и снова наш маленький карточный домик вспыхнет и обратится в пепел. Такое уже случалось не раз – и в Ланскне, и в Ле-Лавёз, и еще в сотне мест до этого. Но теперь довольно. Хватит. На этот раз мы останемся – во что бы то ни стало.
Сегодня Зози пришла рано, даже Анук еще не успела уйти в школу. Зози всего часок пробыла в магазине одна – мне нужно было сводить Розетт на прогулку, – но я, вернувшись, магазин просто не узнала: он странным образом словно стал светлее, привлекательнее, просторнее. Зози даже витрину успела заново оформить: накрыла пирамиду из банок и коробок куском темно-синего бархата, который как бы стекал к ее подножию, а на вершину этой пирамиды поставила пару блестящих ярко-красных туфель на высоких каблуках, из которых изливался поток шоколадок, завернутых в красную и золотую фольгу.
Несколько эксцентрично, но внимание, безусловно, привлекает. Эти красные туфли – те самые, что были на ней в самый первый день нашего знакомства, – казалось, освещали темную витрину, а конфеты, словно сокровища из потаенного сундучка, рассыпались по синему бархату, отбрасывая разноцветные блики.
– Надеюсь, ты не против? – спросила Зози, как только я вошла. – Мне показалось, что это немного поднимет настроение.
– Мне нравится, – сказала я. – И туфли, и шоколадки…
Зози усмехнулась.