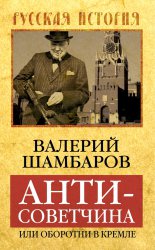Станция Переделкино: поверх заборов Нилин Александр

“Мой друг” – нашумевшая в тридцатые годы постановка все того же Алексея Дмитриевича Попова по пьесе отца Олега, где главную роль начальника крупнейшего строительства по фамилии Гай играл знаменитый Михаил Астангов, а под Значительным лицом (так обозначен был персонаж), который непосредственно курировал начальника строительства Гая, подразумевался нарком Орджоникидзе.
Алексей Дмитриевич в минуты растерянности перед современным драматургическим материалом, а такие минуты были знакомы всем советским режиссерам, желающим удержаться на ведущих позициях, вернулся на рубеже шестидесятых к имевшей когда-то успех пьесе (главную роль он отдал своему сыну, не менее замечательному, чем Астангов, актеру Андрею Попову). Ничего путного из повторной постановки не вышло.
Ничего путного не вышло и у Олега Стукалова.
Но я тогда же и понял, что соревнование Олега с Николаем Фёдоровичем ничем, кроме усугубления комплексов, не кончится. Притом что способности у сына к сочинительству для театра вряд ли меньше, чем у отца.
Начав читать роман Олега, по первым же страницам понял, что главными фигурантами в нем являются отец и сын. Отец – нечто среднее между Николаем Фёдоровичем и режиссером “Кубанских казаков” Иваном Пырьевым, но в пору, когда Пырьев пытался экранизировать Достоевского; а сын – горемыка, музыкант, ищущий чего-то противоречащего канонам обжитого стариками успеха. Я ожидал художественного воплощения мысли, что не природа, как принято считать, отдыхает на детях, но судьба.
И я ожидал рассказов не только о судьбе отца и судьбе сына – в скрещении ли, в противопоставлении, – а о заточении судьбы в том или другом времени, льготном для одних и несчастливом для других.
Возможно, все это и было в романе Олега, а я не заметил. Замечал, наоборот, мелочи – вроде выпада против долго дружившего с ним Миши Ардова: Стукалов изображает священника, в подлинность веры которого он, неверующий, не верит.
Конечно, трудно читать роман твоего знакомого, который тебе заведомо прокламировали как гениальный. И тем более трудно, когда читаешь этот роман много лет спустя после его завершения – в другом времени, в другой стране, – и давит на тебя недоумение, почему же гениальный роман не встретил хоть сколько-нибудь широкого отклика и, более того, до сих пор не опубликован.
Печально думать о том, что роман, оцененный двумя-тремя читателями как гениальный, вряд ли гениален, если не прочтен многими.
Конечно, легко возразить, что никто ничего в литературе не понимает – никто сегодня не в состоянии дать настоящей экспертной оценки, нужны связи, протекции, навязанная кем-либо влиятельным мода на вещь, не самую, может быть, легкую в чтении.
И я согласен с тем, что никто в литературе не понимает (а иногда и, занимаясь ею специально, не понимает ничего) – и свидетельства двух-трех приятелей о гениальности не в счет (иное дело, когда друзья писателя или его ближайшая родня положат жизнь на продвижение рукописи, но много ли мы знаем таких друзей, такой родни).
И я ничего в литературе не понимаю – и мне необходимо чье-то мнение, подтолкнувшее мой интерес.
И тем не менее сочувствую тем, кто приходит в отчаяние оттого, что, как говорит пушкинский Сальери, “правды нет и выше”. А вдруг выше она все-таки есть – и надо уповать на ту высоту, где сгущаются непонятным мне образом облака, огненным зигзагом молний прочерчиваются судьбы.
Или только мистикой можно объяснить присутствие в нашем сознании гениального Пушкина и всех реально великих, вне зависимости от непонимания – ни нашего, ни народных масс?
Роман Олега Стукалова дал мне почитать писатель Анатолий Макаров, в свою очередь взявший книгу у знаменитого московского бездельника Виктора Горохова (смотрите фильм Хуциева “Июльский дождь”, он там стоит в кадре возле вывески кафе “Националь”, его университетов).
Для меня загадка, почему роман Олега Стукалова хранился не в семье, а у Горохова. Может быть, у кого-то были еще экземпляры, но ничего больше про гениальный роман я не слышал.
Я решил зачитать у Толи Макарова рукопись – и он не возражал, разве если спохватится Горохов. Но я был уверен, что Горохов про роман не вспомнит никогда.
Я ведь еще знал, что покойный муж моей нынешней жены, мой товарищ детства Саша Рыбаков тоже носился когда-то с этим романом, но так никуда и не сумел его пристроить. Литературному вкусу Саши я, откровенно говоря, доверял больше, чем своему. Он был из тех преданных литературе людей, для которых печатное слово значило все (себя я, при всем желании, не могу к таким людям причислить).
И я подумал, что в память о Погодине-младшем и одновременно Рыбакове-младшем надо бы что-то все-таки с гениальным романом сделать.
Я решил было перечесть роман очень внимательно, а потом попробовать уговорить жену, работающую в толстом литературном журнале, показать рукопись своим сослуживцам.
И в этот момент объявился Горохов – и каждый день стал звонить мне по телефону, требуя возвращения романа – и притом немедленно (у него есть верняковый издатель).
Я выразил слабое сомнение в его возможностях, намекая, что некоторые возможности есть у меня, а он, я слышал, болеет (про преклонный возраст Горохова, а ему шло к восьмидесяти, я из деликатности умолчал).
Но Виктор Соломонович был непреклонен – за рукописью, чтобы передать ее Горохову, пришла девочка с нашей улицы – дочка Беллы Ахмадулиной, – и когда соседка уходила в калитку, я уже догадывался, что произойдет дальше: Горохов умрет, а романа никто не хватится.
Горохов умер, романа никто не хватился.
Говори после этого, что судьба не отдыхала на сыне Николая Фёдоровича Погодина Олеге Николаевиче Стукалове.
Про историю с возвращением Погодина из Америки когда-то многие знали в подробностях. Хотя во всех подробностях знали все-таки немногие. Некоторые.
Но сейчас все же есть смысл ее рассказать снова.
Знают ли сегодня, кто такой сам Николай Фёдорович – богатый и знаменитый человек, лауреат Сталинских и Ленинской премий?
Слава рано или поздно превращается в петит энциклопедических справочников. Сейчас этот петит прививают еще к стволу интернета.
Нужен только повод щелкнуть поисковиком.
А будет ли такой повод?
Между тем я уверен, что самые интересные сюжеты заложены в сопоставлении петитных строчек, в характере точек и запятых, в безднах интервалов, разделивших строчки.
Конечно, не повредит и дополнительное знание, если докопаться до него.
Погодин имел сведения об Эйнштейне и теории относительности примерно на уровне изложенного в энциклопедии. Но что-то же будоражило фантазию драматурга – зачем ему американец, когда в распоряжении у него судьбы отечественных ученых?
Жизнь Ленина он не ассоциировал со своей – не смел.
А Эйнштейн? Когда-то в пьяном, разумеется, виде Погодин напихал на курорте лицам еврейской национальности – и потом надо было что-то предпринимать для перемирия, ведь рецензии на спектакли пишут не одни арийцы.
Возможно, национальность Эйнштейна он в расчет и не принимал – увидел в нем близкого себе (нам все равно не понять до конца, по какой причине) героя.
Допускаю, что подходил Погодин к пьесе об Эйнштейне из рациональных побуждений. Знаменитый на всю планету американец скорее заинтересует мир, чем неведомый за рубежом русский такого же масштаба.
Допускаю, что, заинтересовавшись фигурой автора теории относительности, автор пьес о Ленине продолжил свой спор с драматургами нового созыва. Он смирился с тем, что сегодняшнего человека они, пожившие среди этих людей, сумели понять лучше, чем Погодин, сочинявший пьесу за пьесой в Переделкине.
Но зато он убьет всех масштабом, как было когда-то, когда решился придумывать реплики за Ленина.
Для первого варианта “Эйнштейна” для представления о теории относительности ему – при его-то опыте сочинения пьес – хватило одного (последнего, правда, – не мог он из-за болезни глаз регулярно учиться) класса начальной школы. Тетя Лена смеялась, что вокруг же сплошные физики: дочь-физик, возлюбленная тоже физик.
А про живые черты Эйнштейна он расспросил Чарли Чаплина (Чаплин дружил с Эйнштейном) – к Чаплину на виллу он попал вместе с другими нашими писателями, когда ездили они туристами в Швейцарию.
Но Погодин понимал, что для пьесы всерьез этого маловато. Он продолжал думать про мировую аудиторию, понимая себя человеком значительным, который поверяет себя масштабом ученого, создавшего самую знаменитую из теорий.
Он поехал расширить свои представления, приобрести знания о чужой стране (свою, он считал, понимает).
Дополнительное знание (многое ли малое) погубило Погодина. О многом знании говорить все же не приходилось – он понял, в общем-то, только то, что Америка богаче (каждый человек на плаву живет там лучше, чем он, знаменитый советский богач) и что драматурга Николая Погодина никто там не знает. Не такое уж ошеломительное знание.
Но печаль оказалась несоизмеримо больше того, что узнал он. И он, не пивший лет восемь, предупрежденный врачами насчет никудышности печени, поступил так, как ни за что не поступил бы американец, а он, Николай Фёдорович Погодин, поступил – какой же русский, думал в глубине души драматург, не поступил бы точно так же?
Он не стал стреляться, подобно Фадееву, он не искал осины, чтобы повеситься.
Он не жахнул из стакана водку, убийственную для печени, как приходилось мне слышать от вроде бы сведущих людей.
Он, по словам верного Волгаря, принимал у себя на даче гостей, мужа и жену, – Анна Никандровна проводила бархатный сезон, стоял сентябрь, она была на курорте – выпивку на стол поставил такую, какую сам не употреблял, разные ликеры.
Гости побыли недолго. Он оставался в паршивом, не улучшенном гостями настроении.
Водки он по-прежнему остерегался, чувство самосохранения не оставляло его, ни о каком самоубийстве и не думал (а что, разве кто-то – или он сам – мог проникнуть в подсознание?).
Он пригубил рюмку противного ликера, выпил другую. Плохо ему стало уже ночью.
Но не хотел он умирать – предлагал врачам миллион, если вытащат. Не надо в таких случаях искать логику, как советовал Брежнев, до чьего царствования Погодин не дожил.
Руководителем нашего курса был Александр Михайлович Карев. Старшим преподавателем – Олег Николаевич Ефремов. И художественным куратором согласился стать Михаил Николаевич Кедров.
Конечно, мною, семнадцатилетним, владел и суетный интерес к педагогу с наивысшим в стране актерским званием (Карев был заслуженным артистом, а Ефремову по возрасту званий еще не полагалось).
Но и сейчас, когда стала ясной тщета званий рядом с действительными явлениями в искусстве, когда моя жизнь в общих чертах прошла – и от театра я неправдоподобно (учитывая мою юношескую им увлеченность) далек, думать о судьбе Михаила Николаевича Кедрова мне все равно интересно.
К началу нашей учебы Кедров перестал быть главным режиссером Художественного театра, он возглавлял теперь режиссерскую коллегию – и вроде бы меньше мог влиять на происходящее в Камергерском.
Но положение лучшего режиссера МХАТа у него сохранялось – рвавшиеся в режиссуру выдающиеся артисты Борис Ливанов и Виктор Станицын, вместе с ним входившие в руководящую коллегию, большими авторитетами для труппы, чем Кедров, никак не становились, притом что симпатии большинства артистов были, по-моему, на их стороне. Кедров сохранял дистанцию между собой и остальными мхатчиками – и ни с кем, кажется, кроме дачного соседа по Снегирям Анатолия Кторова, приятельских отношений не поддерживал.
Он не производил впечатления человека, уязвленного утратой полноты власти. И казалось, что он никогда не спешит.
Так оно на самом деле и обстояло – Борис Ливанов (Астров в кедровском “Дяде Ване”) подкалывал при встрече: “Ну как, Миша, твоя зимняя спячка?” Он намекал на безразмерные сроки репетиций Кедрова, ставившего “Зимнюю сказку” Шекспира.
Кедров в острословии с Ливановым не тягался, но когда на художественном совете Борис Николаевич предложил поставить “Отелло” с ним в главной роли, Михаил Николаевич выразил сомнение: “Нужен ли сейчас театру черномазый Ноздрёв?” (в “Мертвых душах” у Станиславского Ливанов знаменито сыграл Ноздрёва, а Кедров – не менее знаменито – Манилова).
Ефремов, выделявший Кедрова среди мхатовских первачей, считал сыгранного им Манилова удачей на все театральные времена.
Мне кажется, что найденную для роли Манилова характерность Кедров перенес на свое внешнее поведение.
У нас на уроках Кедров никогда не повышал голоса и улыбался, а не гневался, когда мы не сразу могли выполнить предложенное им. Но наш громогласно-грозный Карев при нем затихал – и свои суждения приберегал для занятий, когда Михаила Николаевича не будет (Кедров приходил к нам не чаще раза в месяц).
Но Маниловым он, конечно, не был. Манилов не мог бы возглавлять театр.
Некоторыми из административных решений Кедров восстановил против себя историков театра, никогда потом к нему не благоволивших.
Он уволил из МХАТа Павла Маркова (у Булгакова в романе – Мишу Панина), без которого не мыслили театр ни Станиславский, ни Немирович-Данченко, – и Марию Осиповну Кнебель: счел их противниками внедряемого им метода физических действий (последнего открытия Станиславского).
Мне трудно судить, насколько прав был, принимая такое решение, Михаил Николаевич, но в театроведах, учившихся в ГИТИСе у Павла Александровича Маркова, он приобрел врагов навсегда.
Отсюда и пошли, наверное, разговоры, что он, поставивший два несомненных шедевра – “Глубокую разведку” (Иван Москвин после этого спектакля по советской пьесе воскликнул, что настоящий МХАТ продолжается) и “Плоды просвещения” (я могу свидетельствовать, какой это был спектакль со звездами МХАТа разных поколений) – театр погубил.
Но я напомню, что Олег Ефремов руководил Художественным театром в три раза дольше, чем Кедров (и не при Сталине) – больше ли шедевров было при нем?
Другое дело, что конъюнктурные пьесы-однодневки Ефремов ставил со страстью, с искренней верой в необходимую современность репертуара. И все же обновленный МХАТ был у него в “Современнике”, но не в самом МХАТе.
Кедров же ставил свои “зеленые улицы” и “чужие тени” равнодушно к их драматургии, пользуясь случаем, чтобы обратить артистов в его режиссерскую веру – привить им по ходу репетиций прежде не привитое.
Артистам успех дороже качества игры – в конце концов, публика более всего любит штампы, а Кедров к штампам бывал непримирим и репетициями мог замучить.
Впрочем, “зеленые улицы” и “чужие тени” неизменно отмечались Сталинскими премиями – и артисты забывали про задетое на репетициях самолюбие, когда прикрепляли к лацканам парадных костюмов и вечерних платьев очередной лауреатский значок.
Медлительность Кедрова входила в поговорку. Кто-то из критиков (кажется, уважаемая Инна Натановна Соловьёва) назвал его репетиции завораживающе вялыми. Но я задержался бы на эпитете – Кедров завораживал – мы, студенты, испытывали на себе актерский магнетизм Михаила Николаевича.
Он вальяжно сидел на наших занятиях за столиком вроде режиссерского, а мы на стульях, расставленных полукругом, – и когда говорил (или, тем более, когда ко мне обращался), мне он казался то удалявшимся на большое расстояние, то приблизившимся вплотную.
Кедров, как и Станиславский в свои последние годы, чувствовал прохладное отношение мхатовских актеров к более или менее настойчивым предложениям постановщика спектакля находить в себе что-то новое.
И как Станиславский эмигрировал в свой особняк на улице Станиславского (а до этого – и ныне – Леонтьевский переулок), так и Кедров, ближайший сотрудник Константина Сергеевича, регулярно бывавший у него, перенес свои опыты в организованную театральным обществом лабораторию, куда приходили к нему ведущие артисты столичных театров.
В лаборатории у Кедрова знаменитости делали этюды, вроде тех, что задавали студентам первых курсов театральных институтов. Но вникали при этом в нюансы, не всем и первачам доступные.
Постоянно посещавший эти занятия (задолго до создания театра на Таганке) Юрий Любимов называл себя учеником Кедрова, как и Ефремов, оставшийся после окончания Школы-студии педагогом, ассистентом Кедрова.
Откровенно не любившая Кедрова Инна Соловьёва признавала, что общественная репутация главного режиссера сохранялась почти незапятнанной – он не подписывал никаких подлых писем, не вступил в партию (что для руководителя театра нонсенс), отказался от избрания в депутаты Моссовета, сославшись на занятость, что вызвало саркастическое замечание Сталина: у меня, выходит, есть больше времени для депутатства, чем у этого артиста.
Помню, правда, Кедрова в кинохронике за сорок девятый год, где он высказывается язвительно про критиков-космополитов за негативную оценку “Зеленой улицы”. Но артисты не терпят критики при любом политическом режиме.
И похоронить себя Михаил Николаевич завещал не на мхатовской аллее Новодевичьего, а на Ваганьковском – рядом с отцом-священником.
Кедров не проявлял ни малейшего желания запечатлеть себя на пленке – снялся однажды до войны, сыграв военного летчика.
А когда снимали на пленку знаменитые спектакли МХАТа с его участием, устранился от съемок, отдав дублерам и Манилова, и Каренина в “Анне Карениной”.
Для истории остались документальные кадры, где они со Станиславским репетируют “Тартюфа”.
Мне жаль, что из-за своего предубеждения по отношению к артистам кино он поломал кинематографическую судьбу дочери, то ли запретив, то ли отсоветовав ей сниматься у Хуциева в роли из “Заставы Ильича”, принесшей известность Марианне Вертинской. Директор Школы-студии Вениамин Захарович Радомысленский (до войны директор оперной студии Станиславского) рассказывал, что у Константина Сергеевича была идея объединить в руководстве новым, открытым эксперименту театре Мейерхольда и Кедрова.
Фамилия Мейерхольд вчера еще была запрещена, теперь он возвращался из забытой истории в новейшую. И хотя при рассказе Радомысленского мы находились на территории МХАТа, соединение бросившего вызов Художественному театру Всеволода Эмильевича с наследником Станиславского по творческой прямой Михаилом Николаевичем придавало Кедрову в наших глазах дополнительную значимость.
Вот такой исторический человек был у нас педагогом.
Дочь Кедрова Анюта – прелестная, умная девочка – училась на одном со мною курсе – и, вероятно, рассказывала дома обо мне что-то забавное. Карев же говорил, что я – самый странный человек на курсе.
Скорее всего, этой странностью я и обязан личным общением с Кедровым. Дочери он говорил, что я ему своей фактурой напоминаю себя в молодости.
Помню: спешу я на репетицию (пьесы Погодина, между прочим, но не “Третьей Патетической”, а “Маленькой студентки”) – и на лестничной площадке встречаю Михаила Николаевича. Он рассматривает прикнопленную к дверям таблицу шахматного турнира среди студентов – ему и это интересно. Он спрашивает меня, играю ли я в шахматы, отвечаю, что знаю только ходы (в первом классе соученик Гена Бурдпоказал мне их, а дальше не продвинулся), – Кедров мне что-то говорит о психологии игроков в шахматы… На репетицию опаздываю. Отрывок из пьесы ставит артист Художественного театра Игорь Терёшин. Он человек тайной сексуальной ориентации, но его выдают дружба с опереточным комиком Владимиром Шишкиным, уже отсидевшим за то самое, и своеобразная манера обращения. “Шура, – спрашивает он, – мой птичка, почему ты опаздываешь?” Объясняю, что меня задержал Кедров. Терёшин меняется в лице, забывает про репетицию. Просит пересказать другим участникам репетиции нашу с Михаилом Николаевичем беседу – он считает драгоценным для будущих артистов каждое произнесенное Кедровым слово.
Или выхожу я из служебного подъезда театра, отыграв массовку в “Третьей Патетической”, – и вижу Кедрова, постановщика этого спектакля, окруженного занятыми в “Патетической” артистами (различаю – на дворе полночь – Владлена Давыдова и его жену, красавицу Маргариту Анастасьеву). Кедров (по-простецки в кепке) приветственно машет рукой. Артисты оборачиваются ко мне – силятся понять, кто я такой, чтобы Михаил Николаевич меня приветствовал. У меня самомнения было больше, чем сейчас, но мне делается крайне неловко – не заслуживаю я такого внимания.
Для Кедрова никакого значения не имело, что педагоги, кроме Ефремова, относятся ко мне скептически.
Я уже учился в университете, когда встретил на Дмитровке Михаила Николаевича, – я шел вниз, к метро, а он из театра возвращался домой, Кедров жил в мхатовском доме в Глинищевском переулке (тогда улица Немировича-Данченко, Немирович-Данченко тоже жил когда-то в этом доме).
Я поклонился ему, не уверенный в том, что он меня помнит – мало ли студентов у него училось. Но Кедров остановился – он, как всегда, никуда не спешил, поинтересовался, почему я не попробовал поступить (после того как из студии при МХАТ ушел) в Щукинское училище. Я от растерянности пробормотал, что вахтанговская школа вряд ли мне близка. А может быть, искусствоведение? В учебе на искусствоведа, может быть, и был бы резон, но мне тогда казалось диким, не дойдя самому до сцены, судить тех, кто на нее выходит.
“Что же вы, так и будете жить без театра?” – удивился Кедров.
Я не был тогда уверен, что смогу. Но смог же – теперь-то можно точно сказать, – я даже редким зрителем перестал быть, а театралом никогда и не был.
Утешает одно – жизнь (и не только моя) развивается по законам театра.
Законы театра незыблемы, как, допустим, законы физики. Квантовая механика переворачивает классическую физику, но не опровергает же – и всякая новая теория включает старую как частный случай.
Распределение ролей было и остается общечеловеческой проблемой.
Только артисты готовы жизнь положить за роль, а все ли мы – из публики – к этому готовы?
Пушкин еще когда заметил, что среди нас ходят великие полководцы, не командовавшие и ротой, великие писатели, никогда не печатавшиеся и в “Московском телеграфе”.
Ефремов недавно приснился мне. Он выглядел постаревшим ровно на столько лет, сколько нет его на свете.
На похоронах Ефремова я пробыл целый день – панихида длилась бесконечно, потом поехали на кладбище – и вернулись обратно в дом на Камергерском, помянуть.
За распорядок панихиды отвечал мой однокурсник, народный артист Гарик Васильев. Он настоял, чтобы и я встал в почетный караул.
От неловкости стоять у гроба со знаменитыми театральными людьми (я казался себе самозванцем) не сразу и сообразил, что скорбное действие происходит на сцене Художественного театра, где я со времен студенческого участия в массовке “Третьей Патетической” не был – и не должен был быть.
Когда меня сменили в карауле, я сделал несколько шагов к рампе и с необъяснимым чувством смотрел в зрительный зал – поверх голов сидящих в партере – и что-то видел, от чего никак не мог оторваться.
Олег Табаков – новый хозяин МХАТа – положенной скорби не изображал, держался как-то свободнее, чем принято на похоронах. Он подошел ко мне сзади бесшумно – и спросил: что ты здесь инвентаризируешь?
Я вздрогнул внутренне от неожиданного проникновения в мои мысли точно найденным словом: инвентаризируешь.
Он для меня и в двухтысячном году оставался тем же (стал ли он другим, я уже не мог проверить), каким в пятьдесят седьмом году с ним познакомился, когда звался он Лёликом; и я сказал ему, что он-то еще на эту сцену выйдет, а я здесь – последний раз. Со сцены я не в зал спустился, а ушел за кулисы – и долго бродил там.
На ходу само собою складывалось (сочинялось все же, наверное) повествование, где бесконечность панихиды вмещала бы все, что знал я о Ефремове, и все, что думал, вторгаясь личными воспоминаниями в общее суждение о его судьбе.
Но по свежим впечатлениям я ничего тогда толком не записал – и по прошествии времени такая форма повествования начинала казаться мне приемом, чего Ефремов не любил, настаивая на процессе, передачи которого, как естественного течения жизни, всегда пытался добиться в своих спектаклях, – нередко в ущерб театральности, на мой взгляд.
Мне тогда еще нужна была опора на конкретный заказ. А уж в фарватере заказа я имитировал независимое плавание, используя давние, отложенные из-за недостаточной уверенности в себе замыслы, – заказчиков это неизменно раздражало, но что-то удавалось опубликовать.
У меня и на Ефремова был заказ – авансовый договор на книгу в серии “Жизнь замечательных людей”. Но, подписав договор, я почувствовал ту же неловкость, что испытывал в почетном карауле перед людьми, ближе к Ефремову стоявшими, теснее – и главное – дольше, чем я, с ним общавшимися. Со своим представлением, подкрепленным воспоминаниями о раннем Ефремове времен начала “Современника”, я мог показаться его достойным биографам (вроде Смелянского) авантюристом и верхоглядом.
Я искал выхода из ситуации, но начались болезни, больницы, врачи, продлившие мое присутствие в земной жизни, – и мне кажется, что в сохраненном существовании я уже не совсем тот, каким когда-то был, и к давно канонизированному Ефремову вряд ли имею какое-то касательство.
Тем не менее он недавно мне приснился заметно постаревшим.
Александр Михайлович Карев начинал свою актерскую карьеру в еврейской студии “Габима”, руководимой Евгением Вахтанговым.
В монографии о Вахтангове я видел портрет Карева (он выступал тогда под своей фамилией – Прудкин) в роли Прохожего из спектакля “Гадибук”.
Во время гастролей по Америке за кулисы театра, где играла “Габима”, зашел Альберт Эйнштейн – и обратился непосредственно именно к исполнителю роли Прохожего.
Что-то в этом образе показалось гениальному физику созвучным – и общение с этим персонажем захотелось продлить после спектакля. Но ведь обратился он со своими вопросами не к Прохожему, а к Александру Михайловичу – тогда еще Прудкину, – и ответа не дождался. Александр Михайлович через много лет признавался студентам, что так и не понял, чего хотел от него Эйнштейн.
Вся “Габима” осталась за границей – и только Прудкин вернулся в СССР. Трудно поверить, но его не расстреляли как шпиона, а разрешили вступить в труппу Художественного театра при условии, что фамилию он сменит. Один Прудкин в МХАТе уже был – и была еще причина, как бы и не первая из причин.
Александр Михайлович не рассказал нам, на каком языке он разговаривал с Эйнштейном. Подозреваю теперь, что на идиш, чему в академическом театре, признанном в стране главным после Большого, вряд ли обрадовались.
В МХАТе с этим было строго.
Станиславскому приписывают фразу, что евреи могут, конечно, служить в Художественном театре, но тогда они должны быть так же талантливы, как Леонид Миронович Леонидов.
Для объективности, правда, скажу, что в МХАТе важнее всего были все же правильные фамилии – и у Андровской, и у Станицына в паспортах изначально стояли немецкие фамилии, но кто из обожавших этих знаменитых первачей знает их?
Карев помогал Кедрову при постановках в сезонах конца сороковых пьес “Зеленая улица” и “Чужая тень”.
“Зеленая улица” прошла во МХАТе всего двадцать девять раз за три сезона.
Но когда прогрессивные критики пишут о послевоенном падении Художественного театра, они с наибольшим гневом пишут про “Зеленую улицу”.
Кстати, сюжет этой пьесы очень напоминает сюжет “Премии” – пьесы, поставленной множеством театров в семидесятые годы, – и с наибольшим успехом Ефремовым во МХАТе, где сам же Ефремов сыграл и главную роль.
В “Зеленой улице” машинист-железнодорожник возвращает генерал-директору тяги наградные золотые часы – не соглашается, как и герой “Премии” (бригадир строителей), быть премированным за нечестную игру, затеянную начальством. Рабочий в советских пьесах не бывал неправ. Начальство могло ошибаться, но над ним стояло еще более высокое начальство, справедливое, как царь Соломон.
“Зеленая улица” вошла в историю из-за того, что формально с нее началась кампания по борьбе с космополитами. И первыми козлами отпущения сделали театральных критиков (в большинстве своем людей спорной национальности), которые сочли постановку подобной пьесы недостойным традиций Художественного театра актом.
Автор пьесы, сталинградский драматург Суров, завоевавший слабенькими пьесами театральную Москву в конце сороковых, вел себя чрезвычайно подло-разнузданно, пользуясь поддержкой Фадеева и других писательских командиров. В ту минуту он был им очень полезен для развертывания инициированной Сталиным кампании.
Но был в истории с “Зеленой улицей” еще один, существенный для всего дальнейшего нюанс.
Суров не сочинил “Зеленой улицы” – пьесу написал за него весьма уважаемый в среде гонимых критиков Яков Варшавский, что спасло его от погрома.
И при дальнейшем рассмотрении случившегося обнаруживалась неувязка.
Одно дело, когда бездарную пьесу написал скотина и антисемит Суров, – и совсем другое, когда замаскированным автором был одаренный человек Варшавский.
В самом начале девяностых, когда я жил неделю в киношной богадельне из-за съемок фильма о старике Габриловиче, со мною рядом в столовой сидел Варшавский. Он узнал меня по фотографии в газете “Экран и сцена”, где я некоторое время подвизался колумнистом. Он отечески похвалил мои заметки, спросив, помню ли я, что писать от первого лица начинали они (как я понял, гонимые критики).
Я был польщен, но не знал, как связать это с “Зеленой улицей”, – о чем человеку много старше меня тогдашнего, пережившему то, чего я не переживал, напоминать не счел для себя возможным.
“Чужую тень” по нынешним временам тоже можно бы восстановить – политический оппонент остается неизменным.
После войны Сталин обратил внимание на то, что успеху наших разведчиков, узнавших секрет изготовления атомной бомбы, поспособствовали левые настроения американских атомщиков.
Сталин опасался, что и среди наших ученых могут обнаружиться (в реальности он их сам и “обнаружил”, заподозрив) люди, которые из соображений ложно понятого гуманизма не станут скрывать от американцев (и прочих иностранцев-засранцев, как обычно рифмовал товарищ Сталин) свои научные открытия. И будет бесхозяйственностью расстреливать полезных обороне страны людей – лучше сделать упреждающий (но достаточно строгий, но не строже, чем в реальности) ход.