Повелитель снов Катериничев Петр
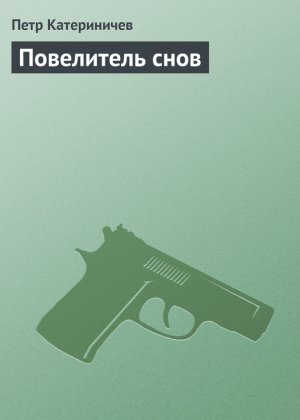
- Все – не ново, все – не вечно,
- Все продлится бесконечно,
- Оправданием – тоска.
- Все беспечно, все конечно,
- Все стремится быстротечно
- К упрощенности песка.
- Все стремительно и ярко —
- В ожидании подарка
- Дремлют сумерки окрест.
- И начальственно и важно
- По туману стынет влажно
- Истукана правый перст.
- Ну а я бегу по стуже
- Никому уже не нужен —
- В сердце – искренняя даль.
- Все законно. Все нормально.
- Все бездарно и формально —
- Вот такая вот печаль.
- Все закончено. Забудьте.
- Если прав – не обессудьте,
- Не судите сгоряча.
- Я чуть-чуть побуду тихо,
- И отступит ваше лихо,
- И затеплится свеча.
- Ворожу и чуть не плачу,
- Не могу прожить иначе,
- И – иначе не могу,
- Подарю вам эту тайну
- И уйду от вас печальный —
- В королевскую пургу.
- Вот и все. Договорились.
- Посмеялись, прослезились,
- Обнялись и – разошлись.
- И – разъехались. Прощайте.
- Добрым словом поминайте
- Неслучившуюся жизнь[6].
Глава 14
Дорога. Мы снова были в дороге. И сидели с Дашей в двухместном купе, попивая вино. Позади остался юг, море, впереди… Кто ведает, что впереди?..
– Не знаю, что это за город… И что со мною творится… Или – это просто старость, Дронов? – Даша Белова была взвинчена, но не пьяна. Или ее опьянение было таким, что просто перестало ощущаться?
– Старость, – кивнул я. – Глубокая.
– Как омут.
– Даша, перестань…
– Что перестать, Олег? Плакать? Тосковать? Жить? Жить можно перестать, а если – не жила вовсе?.. Мне тридцать лет и… Ничего нет. Ничего, ничего в жизни не было и все уже прошло. Мимо меня. Все нормальные женские радости, все слезы, все беспокойства – а как там муж, не загулял ли, а как дети, здоровы ли, а как свекровь – все брюзжит и ворчит… Все прошло мимо. Все. Мне тридцать лет, Олег. И хочется дома, семьи, детей… А что у меня? Однокомнатная в четыре стены, где тоскливо так, что волчице зимней лунной полночью веселее!
– Ты ведь выбрала когда-то…
– Дронов, ты большой совсем мальчик, неужели ты до сих пор думаешь, что мы в этой жизни выбираем хоть что-то? Дороги, города, людей? Просто… Вернее, не просто…
Ладно, расскажу. Мне было пятнадцать. И я влюбилась. Влюбилась – не то слово… Полюбила, как любили, наверное, пять веков назад или семь – безудержно, страстно… И Володька мой был без ума от меня! Владимир! Владеющий миром! И мы были уверены тогда, что мир этот принадлежит нам, и не просто как все молодые – всецело! И – не нужен был ему весь этот мир без меня, как и мне без него!
Ты понимаешь? Не важно. Когда тебе было девятнадцать, ты воспринимал мир так же, на веру, так вспомни…
Мой Володя в девятнадцать ушел служить. Легко ушел. Мастер спорта по самбо, он был человеком исключительной твердости духа – поверь мне уж на слово, я за эти годы всего повидала и могу судить… Вернее, не судить… Кому мы можем быть судьями и кто – нам?
А у него был Афганистан. Полтора года он писал мне письма. О том, как строят для местных жителей дорогу. Хотя тогда ни для кого уже не секрет был: воевали там вовсю, под Кандагаром… А потом – в отпуск приехал. На десять суток. С орденом Красной Звезды. И мы – поженились. Не знаю, что подействовало: или он обаял всех работниц ЗАГСа, или боевой орден, или он нарисовал справку, что я беременна двойней… Не знаю. Но мы расписались через три дня после подачи заявления. Я была счастлива. Ты не представляешь, как мне все завидовали. Да. Я была счастлива.
…Эти десять суток мы не расставались вовсе. А в последний день небо словно прорвало. Дождь лил и лил, а мы сидели в его маленькой комнатке под самой крышей и слушали, как капли стучат по жести… И по листьям… И воздух был такой, что хотелось его пить, и жажда была такая, что… И еще – была музыка… Много музыки… А я все плакала и плакала… И не могла остановиться.
Он уехал утром, когда я спала. Когда проснулась, на столе лежала записка: «Долгие проводы – лишние слезы. Осталось всего три месяца. И мы будем вместе всегда».
Никогда не говори «всегда»! Никогда и никому! Ничего в этом мире не может быть навсегда! В слове «всегда» есть что-то от вечности, а кому подвластна вечность?
Он не вернулся. Пропал без вести. Есть в этом какое-то лукавство: когда отводят глаза и говорят с тобой, то ли как со вдовой, то ли как с женой предателя… Так продолжалось три месяца, пока… Пока не выяснилось: он погиб в плену, но перед этим пытался бежать, сняв четверых охранявших его «духов»… Его поймали раненым. И казнили. Жестоко. В назидание другим.
Мне было семнадцать. Я заканчивала школу. Последний класс. Десятый. «За собою двери школы тихо затворю…» Ко мне приехал его товарищ и рассказал все. О том, как нашли базу моджахедов, о том, как захватили пленных и кассету с записью. Они же любят все снимать… Я увидела эту кассету пару лет назад. Хорошо, что не тогда. Тогда я бы не выдержала: наложила на себя руки. Не смогла бы поверить, что люди могут быть зверьем настолько… А так – он просто рассказывал. Смягчая все. Я слушала – кажется, его Николаем звали, слушала и – не слышала. Мне проще было жить с этим «без вести». Я верила, что Володя жив просто потому, что ему никак нельзя было умирать… одному. Без меня. А Николай сказал так: «Теперь тебе придется жить без него. Время лечит все. И тебя вылечит».
Я не поверила. Теперь знаю, что это правда, а тогда…
Что тебе еще рассказать, Дронов? Кем я была в той, другой жизни? Кроме того, что студентка, комсомолка и просто красавица? Я училась музыке и играла на фортепиано. Закончила английскую школу с золотой медалью. Французский выучила в совершенстве факультативно. Стала кандидатом в мастера по художественной гимнастике и тайно, как все тогда, осваивала карате в «подпольном» зале при обществе «Самбо-70». Мой папа преподавал в МГИМО, мама работала в «Интуристе». Оценил? И когда я сказала, что хочу поступать в Высшую школу КГБ, родители сначала долго молчали, потом… Потом отнеслись философски: почему нет?
Родители меня любили. И не так, как порой родители любят детей «для себя»: или стань такой, как мы желаем, или ты – плохая дочь. Нет. Мои любили меня для меня. Старались обеспечить как можно большую свободу выбора пути в жизни и причем – никак не ломая и не ограничивая. И еще… Полагаю, они подумали, что, обучаясь на курсе, где девчонок считаные единицы, я забуду – нет, не Володю, забуду свою боль и научусь жить дальше.
«За собою двери школы тихо затворю, эту первую потерю я с тобой делю…» Слишком велика была моя потеря, и разделить ее мне было не с кем. Все пять лет я только училась. Нет. Я не только училась. Я жаждала стать лучшей и превзойти всех. Умом я понимала уже тогда, что в определенных вещах – стратегическом мышлении или разработке идеи операции – я никогда не превзойду лучших из вас, мужчин: вы не соревнуетесь друг с другом, вы соперничаете с Богом в жажде совершенствования мира, вернее, самые неуемные из вас стремятся выдохнуть из себя то, чем Господь одарил, будь то гений или отвага – часто вместе с жизнью… Но в таком специфическом искусстве, как оперативная разведка, женщине никогда не будет равных, если она сумеет преодолеть страх или забыть его.
Вот страха у меня и не было, как и безрассудства. Я была словно Жанна д’Арк, вот только мечтой моей, предназначением, сделалось не спасение страны, народа и короны, а месть. Вернее… Я даже не знаю, как это определить… Холодная, расчетливая ярость, вот что заледенело в душе моей… Мне тогда казалось, насовсем.
Я была хороша во всем. Языки, огневые контакты, рукопашка, шифры, работа по вербовке, работа на воздухе… И мне досталась Европа. Тихая, сонная Европа. Я изнывала там, но понимала, если сморожу что-то, то меня отошлют вовсе не в Афган – в какой-нибудь Оскол-18 третьим помощником второго заместителя по режиму.
Мы работали «на обеспечении». Все складывалось хорошо. Но мне не хватало действия. И я постепенно, после командировок, стала «срываться». Решила намеренно «портить анкету». Но так, чтобы, как в песне пелось, «никто не догадался…».
Знаешь, когда красивая девушка бродит в одиночку в самых стремных трущобах Москвы, к ней пристанут непременно. И вот тут с нападавшими я не церемонилась. Отвязывалась по полной. Но воспитание в «вышке» – уже как безусловный рефлекс! Я исчезала всегда до того, как приезжала милиция «подбирать раненых».
Не знаю, что со мною творилось. Как и сейчас. Ребята за глаза меня прозвали Эль-эль. Элли. Ледяная леди.
Внешне я была успешна. Вот только… Внутри все бунтовало. Словно я жила не свою жизнь, чужую… Лишь изредка оттаивала – мне вдруг становилось ясно, что прошлое – это прошлое и, как бы ни было там хорошо, его не вернуть и в него не вернуться… Но… Так уж заведено в жизни: веселые и беспроблемные девушки находят себе улыбчивых и беспроблемных парней, я же… Один, другой, третий… Троих мне хватило. С лихвой. И я снова стала Элли.
И еще – концерты. На них я снова становилась сама собой. Только в концертные залы ходить не любила: музыка будит в каждом то, что мы порой даже не подозреваем в себе… И я могу плакать или смеяться… К еде и напиткам, как и к одежде, я почти равнодушна, зато стереосистема у меня дома… Таких в Союзе не было, наверное, ни у кого. И стереосистема, и студия звукозаписи…
А работа… Меня послали… в одну западную страну. Надолго. И я – там влюбилась. Серьезно. По-настоящему. Ведь ни ненавистью, ни местью люди жить не могут – только любовью. А когда нет любви – ничего нет.
Глава 15
Его тоже звали Эжен. Он был совсем не похож на Володьку и – совершенно такой же. Вернее, Володька стал бы таким, если бы… вырос. Повзрослел. Возмужал. Нет, не внешне… Просто… Такие мужчины, как Эжен, там встречаются так же редко, как и у нас. Да. Я влюбилась. И хуже всего… Я не просто начала строить планы. Я начала строить жизнь. Свою жизнь.
Все закончилось скверно. Меня вычислил некий тип из внешней контрразведки, отозвал в Союз спешно, под угрозой принудительной эвакуации и сопутствующих мероприятий…
В Союзе уже вытанцовывала перестройка… «Школа танцев Соломона Фляра… Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад…» Вспоминаешь? А в Конторе время словно замерло в гулком монолите гранитных стен и пустынях коридоров. Сначала генеральский разнос, потом партсобрание, потом «разбор полетов», потом снова партсобрание… Это уже другая песня: «И вот на партсобрании об нем все говорят – морально разложившийся – коленками назад!» Ну а я, значит, «разложившаяся». И даже «жившаяся». Кстати, сейчас тот генерал сделался видным демократом, подался в стан «вероятных друзей» и сочиняет мемуары. Сука.
Короче, складывалось все так, что расстрелять – мало, уволить – много. Зато послать… Да и ребята, что со мной работали, служебные отзывы написали такие – к Герою представлять можно, жаль, не за что. И вот ведь как бывает: осуществляются мечты, когда ты этого уже и не жаждешь!
Меня понизили. И послали. В Афган. Типа «охранником» одного нашего «специалиста по строительству туннелей»: «духи» в горы зарылись, у них там и лаборатории по производству героина были, и схроны с оружием, только подобраться…
Вот там – и на ловца… Сначала встретился капитан, что был лейтенантом, Володька у него в разведвзводе служил. И – кассета объявилась. Капитан тот не хотел показывать, да я ему просто сказала: «Девочка я давно взрослая». Он покачал головой, оставил кассету и вышел.
Взрослая-то я была взрослая, да, как выяснилось, не очень. Коньяку вылакала бутылку, не помогло, пришел капитан, принес «косяк». Не взяло. Еще один. И – провалилась.
Утром ходила как мумия из пирамиды. Но выяснить имечко того полевого садиста, какой всем командовал и остался жив, не преминула. Звался он просто: Али Мансур. Псевдоним. Имени не знал никто. Но фото имелось.
Короче, пошли мы в горы, к этим катакомбам душманским подбираться. Кишлаки похожие один на другой. Люди похожие. А ребята местные конторские давно агентуру имели; ты знаешь, как с нашими на войне говорить. Я и говорила – по-свойски. Помочь не обещали, но помогли. Да. Али Мансур зарылся в тех же катакомбах. Когда у спеца все было готово, группа пошла. И – нарвалась на засаду. Кинжальный огонь, ребята потеряли двоих, отошли. А мы со спецом и двумя бойцами, так сказать, «закатились». Помнишь анекдот про русского, пустую комнату и два титановых шарика? Когда он один сломал, другой потерял? Вот мы и потерялись в этих пещерах. Оставалось только что-нибудь поломать.
Трое суток провели в кромешной темноте. Сухпаек да по фляге воды. Комфортно. Ждали, пока устаканится все. Устаканилось. Угомонились «духи». В схроне им хорошо жилось: гору ту ни один снаряд, ни одна ракета на зуб не брала, а героина там – миллионов на шестьдесят было схоронено. Так что сидели и кайфовали.
Пока мы не объявились. Шли тихо, охрану снимали «в ножи», продвигаясь по коридорам. Вышли на свежий воздух: тот Мансур даром что «полевой», а комфорт любил: обустроил себе на плато хижинку со «спутником», четырьмя наложницами и прочими буржуйскими благами. Даже зиндан у него там был: скучал мужчинка сильно, от скуки – развлекался с пленными афганцами, тонус, так сказать, бодрил. Зверь. Хотя… Как у классика?.. «Ведь даже лютый зверь имеет жалость. Я жалости лишен. Так я – не зверь!»
Объявились мы свирепо. Стволы у нас были тихие, охрану положили, одного подранка оставили; «зачитали права», чтобы мужчина осознал, как он попал! Нужен был план схрона, ходов там немерено, а нам бы эту базу грамотно рвануть, «отправить в ставку Духонина», как говаривали праотцы наши… Ребята собрались с тем Мансуром беседовать, да я сама вызвалась: дескать, сумею мужчину разговорить, потому как языками владею. А Мансур обколотый был, смотрел высокомерно, отвечал дерзко, на побои со стороны моих соратников реагировал вяло… А скополамин или пентонал в полевых условиях на душу наркомана и иноверца мог бы подействовать непредсказуемо. Ребята и согласились: делай, девушка, как знаешь, а мы покурим пойдем.
И начала я с тем Мансуром беседовать. Предки у него из местных баев были, так что английский он разумел, как родной… Спешить было некуда. Дождалась первого кумара, только азиатов, ты знаешь, корчит не сильно, так, легкая тревога… Вот и взялась я эту тревогу усиливать. Некогда прочла я средневековое китайское руководство о «медленных казнях»; не на китайском, понятно, перевод наши еще в тридцать пятом столмачили «для служебного пользования», вот я и воспользовалась, расширила кругозор. И стала вдумчиво Мансуру эту увлекательную книжку пересказывать, честно назвавшись вдовой умученного им солдатика… Он не вспомнил: много душ погубил. Но и его душонку в ихний рай я отпускать не собиралась… Был у меня на такой случай энзэ заныкан – натуральный шмат сала, желтое, прогорклое, долго в подсумке томилось. Так что сначала я ему растолковала, как и что с ним сделаю согласно китайской методике – а они, право слово, выдумщики, даже рыбу любят поджарить слегка и кушать, но чтобы еще ротик открывала и жабрами двигала. Веселый народ. Но не все. Да. Сначала растолковала. А потом сообщила, что будет с его бренными останками при посредстве означенного сала.
Через пару часов губы его тряслись, глаза метались, оставалось натурализма добавить к его разыгравшемуся воображению: немного боли и крови в существенном для него месте… Совсем чуть. И он рассказал и то, что знал, и то, что забыл. План, ясное дело, начертил. Ну а потом… Вызвала я его раненого нукера, представилась по-взрослому и коротко и внятно ему объяснила, как в том фильме: если не хочешь принять смерть долгую-лютую, подари такую своему хозяину. А тебя я не больно зарежу.
Потом… Нет, не стала смотреть, вышла. Нукер знал, что ему делать. И делал старательно: страх перед хозяином, который он носил в себе всю жизнь, нашел выход в жестоких изысках. Прошло не меньше двух часов. Когда я вошла, Мансур умирал; умирал и слуга: удовлетворив свою месть, он вскрыл себе артерию и в мутнеющих его зрачках читалось торжество.
Сначала я ничего не чувствовала. Нужно было работать. Разметывать этот змеиный схрон пластитом. Специалист указал точки экстримумов, мы заложили взрывчатку, и скоро вся эта фабричка вместе со взрывчаткой, зельем и массой человекоподобных превратилась в пыль. Гора выровнялась, спрессовав вырытые людьми-кротами туннели. Ушли мы легко. Некому было нас задерживать.
Ну а дальше… За самовольство и самоуправство, выраженное в умерщвлении главаря «духов», мне полагалось взыскание. За успешно проведенную операцию – награда. Поскольку сослать меня дальше войны было некуда, то и… И взыскание зависло, и награда затерялась.
И – как мне было дальше жить? Месть – это блюдо, которое подают холодным. Так, кажется, говорят сицилийцы. Я не сицилийка. Что со мною было? Сальери пушкинский сказал: «Как будто тяжкий совершил я долг…» Настолько тяжкий, что жить сделалось незачем. Совсем. Как в анекдоте: «В больницу была доставлена пациентка с покалеченной ногой. Ногу удалось спасти. Пациентку – нет».
Словно кончилось все. А вокруг была война и ничего, кроме войны. Там я и осталась. И все никак не могу вернуться. Может быть, потому, что мне некуда возвращаться? И не к кому? В этом все дело?
Как мне жить? Или не жить? И что мне хотел сказать этот мальчик своей музыкой? «Не жаль Анеты, флейты жаль, хотя что флейта? – бывший клен и всё…»[7]
Так уж устроено: если это твоя жизнь, и только твоя, то она не только заслоняет собою все остальные жизни, но – весь мир. И когда пелена – цели, стремления или боли – спадает, ты оказываешься в чужом и чуждом тебе пространстве, которое ты не признаешь своим и даже не можешь узнать.
…Девяносто третий год. Октябрь. Московский Белый дом, черный от гари. Год несостоявшейся войны. «Я все равно паду на той, на той единственной гражданской…» Романтизация погибели? После девяносто третьего я стал не просто редкой птицей, а еще и вольной. Что сталось с Дашей, не знаю.
Девяносто третий год. Кажется, у Виктора Гюго был такой роман. Прошло… Сколько лет? И разве можно измерить жизнь временем? Ведь время – это всего лишь то, чем мы его заполняем. И сейчас отчетливо видно, каким пустым и бездарным оно было для меня, каким мучительным, полным призраков несвершенного и иллюзий несостоявшегося… Наверное, как у всех.
- …Порой бывают дни – проснешься поздно,
- И – словно опоздал уже на век.
- И сердце бьется трепетно и слезно,
- А за окном – лишь бурый мятый снег,
- Истоптанный подошвами прохожих.
- Они прошли – и прошлое прошло.
- Беспутство лет приворожило зло,
- Усталость бед припорошило ложью.
- А я бреду – с чужбины на чужбину,
- И нет нигде приюта и тепла,
- Лишь равнодушьем полудневным спины
- И холодом полуночным тела.
- Вокруг – хмельное море праздных вин,
- И никому никто уже не нужен,
- И горек сок заснеженных рябин,
- И мой полет над молчаливой стужей
- Так одинок, так искренен и тих,
- Как жажда утра и неспетый стих[8].
И я, наверное, как и все, полжизни провел взаперти – боясь своих желаний, эмоций, любви – именно потому, что порою переставал понимать окружающий мир и – узнавать его.
Глава 16
Прошлое… Оно никуда не исчезает и материализуется порой вот так, звонком в дверь, девушкой Аней, потерявшей приемного отца и… Если, конечно, это та Аня.
Все мои воспоминания, как часто бывает, пронеслись скорой и хаотичной раскадровкой; чашку кофе я выпил и сигарету выкурил в совершенном молчании. Когда я посмотрел на Аню, она сказала:
– У тебя было такое лицо, Олег… Словно что-то мучит и не дает покоя… Так всегда бывает, когда вспоминаешь прошлое?
– По-разному. У тебя по-другому?
– У меня совсем немного прошлого. Недавнее – спокойно, давнее… В давнем столько белых пятен…
– …и черных дыр. С детьми ты говоришь так же?
– Как?
– Штампами.
– Штампы? Это – заезженные выражения, да?
– Ага, – кивнул я, присматриваясь к девушке. Она не производила впечатления тупой или тугодумной. Глаза ясные, улыбка… Да ладно, была бы она «негрой преклонных годов», вряд ли я пригласил ее в квартиру и угощал кофе. Ведь большую часть времени мы не видим своего отражения, а любуясь молодыми и красивыми, и сами себя бессознательно представляем такими, какими были когда-то.
– Просто… я читала много, но бессистемно, – смутилась Аня. – Да и преподаю я на английском.
– Специальная школа?
– Обычная. Primary school.
– Новые русские?
– Откуда там русские…
– Подожди, Аня, ты где теперь живешь?
– В Аделаиде, штат Южная Австралия.
– Ого!
– Да. В девяносто пятом, мне тогда было девять, меня удочерили Мэри и Дэвид Дэниэлс. Так что я – Анета Дэниэлс.
– Гражданка Австралии?
– Да.
– Не понимаю.
– Что именно?
– Почему ты не обратишься в милицию? Там есть специальная служба, занимающаяся преступлениями против иностранцев. И их пропажами. Работают ребята профессионально и быстро.
– Но он пропал не в Москве.
– По дороге?
– В Бактрии.
– И что это меняет? У соседей – подобная. Если в Бактрии нет отделения, то в Симферополе – точно.
– Я туда обращалась. И никто там особенно не заволновался.
– Он давно пропал?
– Два дня. Сегодня – третий.
– Ну…
– Вот видишь. И ты подумал о том же. Дескать, загулял папашка на югах, и всех делов. А в той милиции еще и смотрели на меня так, словно я Дэвиду не дочь, а любовница. Короче, суетиться они не станут, я так поняла. Да и не до этого им теперь. Делят должности и меркуют, как бы «крыши» свои удержать.
– Понятно. И все-таки…
– Тут есть еще один нюанс. Мой отец, Дэвид Дэниэлс, гражданин Нигерии. Кто станет напрягаться, разыскивая нигерийца?
– Чего гражданин?
– Нигерии. Это в Африке.
– Я в курсе.
– Просто Нигерию все путают с Нигером. А это – другая страна.
– Столица Нигерии – Абуджа, а Нигера – Ниамей.
– Ты знаешь. Это редкость теперь.
– Когда-то был образованным.
– Не прибедняйся. Я читала твои статьи. В Интернете.
– Я с ранней осени ничего не писал.
– Творческий кризис?
Как бы ей объяснить… Неясное будущее, несостоявшееся прошлое, несуществующее настоящее – чем все это назвать? Кризис? Путь будет кризис.
– Как ты меня нашла?
– Через редакцию. Представилась сотрудником «Глоб интернешнл». Сказала, что хочу заказать тебе обзорную статью об особенностях российской экономики.
– И тебе дали адрес?
– Нет. Просили оставить свои координаты. Обещали, что со мною свяжутся. Сказали, что у них есть куда более опытные журналисты. И очень интересовались размерами гонорара.
– А ты – что?
– Пошла в бухгалтерию. Подарила девочкам по флакончику хороших французских духов. Изложила просьбу. Они справились по ведомостям на оплату и дали твой адрес.
– Разумно.
– Я вообще – разумная девушка.
– Твой приемный отец – тоже?
– Тоже. Только не называй его, пожалуйста, приемным. Другого у меня все равно никогда не было.
– Извини. Вопрос можно?
– Конечно.
– Я так и не понял: чем твоему папе паспорт с кенгуру разонравился?
– Он никогда не был гражданином Австралии.
– Так он что, африканец?
– Да нет же! Он природный англичанин. И был гражданином Великобритании. Когда-то ходил матросом на торговых судах. Познакомился с Мэри, женился и остался жить в Австралии. Они прожили вместе почти двадцать лет, детей у них не было. И они решили кого-то усыновить. Или удочерить. Они нашли меня – через какую-то фирму, занимающуюся усыновлением русских детей иностранцами. Проблем особых не было: девяносто пятый год, да и… Мы ведь вроде… не вполне здоровые… считались. Так что… Вот и вся история. А работал он в компании «Дженерал моторс». Агентом по продаже автомобилей.
– А чем ему Англия так не угодила, что он стал нигерийцем?
– Его дед, тоже Дэвид, почти всю жизнь провел в Африке. В Нигерии у него были плантации кофе или еще чего, я даже не знаю точно. Сеть ресторанов. Парки междугородных автобусов. Много другого разного. Дед умер. И завещал все Дэвиду. Но, чтобы вступить в права наследства, по нигерийским законам, ему необходимо было принять гражданство этой страны. А двойного гражданства их законодательство не предусматривает.
– Во что оценивается наследство?
– В четверть национального дохода Нигерии.
– Париж стоит мессы. Он стал миллионером?
– Мультимиллионером. Миллионами исчисляется ежегодная рента. Но, чтобы получать хороший доход, нужно жить в Нигерии и всем этим заниматься. Воруют. Да и поборы… Коррупция. К тому же, как он рассказывал, в том бизнесе много «побочного»…
– Контрабанда оружия? Алмазов? Поставка наемников?
– Мне папа ничего такого не говорил. – Лицо Ани сделалось жестким. – Просто был озабочен тем, как идут дела. И хотел продать все. И вел уже переговоры, это я знаю.
– В Нигерии он часто бывал?
– Один раз. Когда получал гражданство и вступал в права наследства.
– А в Бактрию как попал? Ты привезла?
– Нет. Скорее это я с ним увязалась. Все-таки город пусть и не очень счастливого, но детства. А папа Дэвид, еще когда был моряком, увлекся коллекционированием разных редкостей. В основном монет. Потом это стало даже больше чем увлечением. Страстью. И когда появились деньги, папа занялся этим серьезно.
– Нумизматикой?
– Ну не только… Скорее антиквариатом.
Антиквариат. Второй в мире, после оборота наркотиков, теневой бизнес. Мое благодушие постепенно исчезало. По крайней мере, тревогу девушки я понимал. У папы Дэниэлса было по меньшей мере две причины, чтобы пропасть безвозвратно. И – насовсем.
Глава 17
Ане я этого говорить не стал.
– Папа стал много читать: о предметах старины, но преимущественно о монетах, медалях, знаках оплаты… И даже участвовать в аукционах. Понятно, через маклеров. Из Аделаиды он не выезжал. Наверное, путешествия у него ассоциировались с работой. А потому по натуре он стал домосед.
– Как он в Бактрию выбрался, домосед?
– Ему пришло письмо. По электронике. В котором предлагалось купить чрезвычайно редкую и дорогую монету. Но он уже тогда заявил, что цена – ничто по сравнению с редкостью. И реальной стоимостью. Он просто загорелся! Две подобные есть в музеях, но не такие. Эта – уникум. Не монета даже – медальон, знак особой жреческой власти какого-то забытого теперь культа. Отлитая из самородного сплава золота и серебра в единственном экземпляре. Кто-то предлагал ее частным порядком. И оплату просил наличными.
– Велик ли гонорар?
– Триста пятьдесят тысяч американских долларов.
– А реальная стоимость?
– Папа не говорил, но я справлялась через Интернет… Она может стоить в десять раз больше. Это если по-скромному.
– Поэтому требование наличных и не насторожило Дэниэлса?
– Ты считаешь, он решил просто нажиться?
– Почему нет? Тысяча процентов прибыли – хороший бизнес.
– Папа не такой.
– Возможно. Он не опасался, что сделка будет незаконной?
– В смысле – наличные, без налогов?
– В том числе. Да и монета могла оказаться краденой.
– Никоим образом. Она никогда не числилась ни за одним музеем.
– Она могла быть украдена у частного лица.
– Все могло быть. Но, думаю, папа со всем разобрался бы на месте.
– Он склонен к нарушениям закона?
– Совсем нет. Но разве здесь есть закон?
– Местами.
– Вот именно, местами.
– По крайней мере, монету он собирался вывозить нелегально. Ничего не нарушишь – ничего не достигнешь.
– Что ты этим хочешь сказать, Олег? Что Дэвид…
– Это я по жизни. Нарушить нужно, как минимум, собственное душевное равновесие. «Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…»
– Люди к старости придумывают прожитым «бесцельным годам» оправдания и мотивировки, способные сделать жизнь значимой и полной глубокого смысла. Без этого и жить, и умирать было бы невмоготу.
– Тот, кого я процитировал, умер молодым. Значит, Дэвид Дэниэлс не слишком опасался карающей десницы закона?
– С чего? Он много читал о вашей стране.
«О вашей стране». Ну да. Что девочке Ане дала «наша страна»? Сиротство, детский дом, клеймо если и не сумасшедшей, то и не вполне нормальной?
– Бактрия теперь – в другой.
– И в чем особая разница? «Внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти».
– Почему Дэвид не поручил переговоры и саму встречу – довольно рискованную, если он много читал о нашей стране, – кому-то еще? Теперь он достаточно богатый человек, чтобы позволить себе это.
Губы Ани тронула полуулыбка.
– Богатый человек… Это только название. По крайней мере, для папы Дэвида. Он ничуть не изменился ни в привычках, ни в пристрастиях. Нет, по настоянию мамы мы купили особняк в Брисбане, у самого моря, но были там всего раз или два. А перебраться – так и не решились. Привыкли к Аделаиде. А еще – выкупили у соседей участок, расширили дом и построили большой бассейн с подсветкой и фонтанами. Мама Мэри всегда о таком мечтала. Да и – трудно меняться, наверное, когда тебе шестьдесят два.
– Мэри столько же?
– Пятьдесят восемь.
– Я полагал, они моложе.
– И время, и возраст в этой стране и в Австралии – разные. Я здесь встречала сорокалетних стариков. А там шестьдесят два – расцвет для мужчины. Да и Мэри – веселая и очень обаятельная.
– И к богатству непривычная…
– Разве к нему нужно привыкать? Просто человек получает иную степень свободы, только и всего.
– Дело за малым. Распорядиться этой свободой. Дэвид приехал в Бактрию с крупной суммой наличных?
– Нет, конечно. Сейчас же не восемнадцатый век и он не граф Монте-Кристо. Но, по его словам, продавец выдвинул условия, что будет встречаться и разговаривать лично с ним. Если бы они сошлись в цене и монета оказалась подлинной, папа нашел бы способ, как снять деньги со счетов и расплатиться. Он умный.
– А как рассчитывали вывозить антикварный шедевр?
– Просто. При въезде на мне была цепочка с кулоном в виде монеты из сплава золота и серебра. При выезде – почти такая же, только и всего.
– Это ты сама придумала?
– Нет. Дэвид.
– Выходит, у него был опыт в таких делах?
– Дронов, это все в кино показывают!
– Резонно, – согласился я. – Аня, а почему ты называешь Дэниэлса то Дэвидом, то папой?
– Так уж сложилось. Пока… он не пропал, я называла его Дэвидом. А маму – Мэри. А вот теперь… Ты ведь найдешь его, Олег?
Я чуть было не ляпнул: «Живого или мертвого?» Сдержался. Хотя – почему нет? Завалить чужого миллионера у нас проще, чем яйцо облупить; предположим, кто-то претендовал на нигерийское наследство, помимо Дэвида, кто-то из тамошних авторитетов уже и лапу положил на смутный и разноплановый бизнес дедушки Дэниэлса… Да вот незадача: наследный принц объявился, но объявился в самой Нигерии лишь однажды и – был таков. А если уж начались торги, этот кто-то мог решить резонно: зачем платить, если можно все сграбастать «насухую». Безвозмездно. Даром, значит. А крымского киллера в такие мелкие детали можно было и не посвящать: кого отстреливает и зачем. Да их никогда и не посвящают. Вот только к чему такой огород городить? В той же Австралии шлепнуть – и вся недолга. Если, конечно, папа Дэниэлс на самом деле в недавнем прошлом был незамысловатым коммивояжером, а не в дедушку пошел: тот, видать, по всяким гешефтам был дока.
Второе – антиквариат. Возможно, для дочери Ани папа – белый и пушистый, как чукотский песец. А на деле – жесткий теневой воротила антикварного рынка. Тогда – совсем другие кадрили вытанцовываются.
Версия третья – по порядку, но не по значению. Крупной суммы денег при Дэниэлсе не было; но крупной – по меркам его самого и его дочери… Ведь выложила же Аня бестрепетной рукой тугую пачку баксов передо мною на стол… Ну, предположим, я от природы излучаю рыцарское благородство и внушаю красавицам полное доверие – с таким и в раскладушку можно лечь бестрепетно, естественно, если между нами, согласно кодексу «Бусидо», будет меч, а меня перед этим хорошенько накачают сакэ… И то – не факт.
Для нищего и сухарь – бублик. И за сумму в десять тысяч долларов, да что десять тысяч – за пять бумажек с Франклином, крымские доходяги папу Дэниэлса могли утопить в мелком месте, на кусочки порезать и катранам скормить!
Есть и еще соображения. Как в анекдоте: приходит юная девчушка к врачу и заявляет: «Доктор, у меня две проблемы! Во первых, я така-а-а-я нимфетка! С утра имею секс с соседом, потом – с другим соседом, потом – с бригадой водопроводчиков, потом, по дороге в школу, с водителями автобуса, троллейбуса и асфальтоукладчика, потом – с учителями истории, физики и труда, потом…» Устав от перечислений после второго десятка, эскулап спрашивает: «А в чем вторая проблема, милочка?» – «Я – жуткая лгунья!»
Мне почему-то вспомнилось, что сопровождали мы Аню и других детей из странного специализированного детского дома для детей-сирот с отклонениями в психике… То ли гениями, то ли… И что, если Аня… Хотя пока все в ее рассказе – связно и логично. Кроме одного.
– Мне вот что неясно, Аня. Ведь если бы десяточку зелени ты предложила какому-нибудь инспектору карного розшука, сиречь розыска уголовного – в Симферополе или Бактрии, твоего папу не просто бросились бы искать со всем рвением, тщанием и азартом, его бы уже нашли!
– Перед поездкой нас инструктировали. И предупредили, что за взятку здесь могут посадить в тюрьму. Даже если взятку вымогают негласные сотрудники органов с целью сфабриковать уголовное дело.
– И ты – испугалась? А как же – «девушка самостоятельная»?
– Олег, тебе нужно было самому там побывать, в той милицейской конторке! Опухший от пьянства капитан, его взгляд, липкий, раздевающий, его «всепонимание», когда я заявила, что пропал мой отец Дэвид Дэниэлс, его брезгливость, когда он узнал, что Дэниэлс «нигериец»… Да, я испугалась! Да если бы я ему эту десятку засветила, то… неизвестно, что еще со мной стало бы! Вот! Я права?
– Отчасти, – согласился я. – Вот такая это страна.
– Иронизируешь?..
– Если бы.
– Всегда была такой. И лучше – не будет. А жаль. Короче, предлагать им деньги я не решилась.
– А мне – решилась.
– Ты, Олег, частное лицо. К тому же журналист. Если хочешь, мы можем даже оформить отношения договором о, скажем, подготовке статьи. И ты сможешь заплатить все налоги, чтобы все было по закону. Или это здесь по-прежнему не принято?






