Ученик чародея Медведев Антон
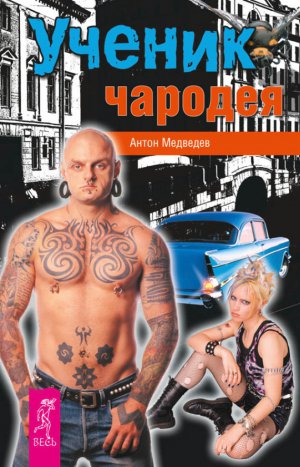
– Господь ведает, что творит. Каждому отпущено то, что следует. Не нам испытывать его мудрость. – Ланцанс на мгновение молитвенно поднял глаза к потолку и опустился в кресло. – Я хочу дать вам совет… Не смотрите на меня так: опыт святой католической церкви измеряется двадцатью веками. – Он улыбнулся. – Это, кажется, немного больше опыта даже такого опытного организатора, как вы… Рядом со страхом и деньгами – силами временными и преходящими – существуют вечные силы… Вы вот упомянули о том не новом открытии, которое оперный сатана преподнес вам, а забыли, что случилось с Фаустом. Вы забыли о страсти более сильной, чем страх и золото.
– Такой страсти не существует.
– А любовь, сын мой? Греховное стремление людей друг к другу? Только мы, убившие плоть свою во имя Господне, не знаем над собою власти страстей, не подчиняемся земной любви. Но опыт говорит нам, что, начиная с грехопадения Адама, любовь царит надо всем, что есть живого на земле… Кроме нас, кроме нас! – поспешно добавил епископ. – Эта страсть ведет человечество к мнимому счастью и к бедам, к процветанию царств и к гибели империй.
– Зачем этот устаревший трактат о любви, епископ?
– Затем, друг мой, что в вашей деятельности нельзя забывать: в сердцах людей любви отведено значительное место.
– Человек человеку рознь!
– И все же, по воле создавшего нас, я не знаю такого сердца, для которого хотя бы раз в жизни не пел соловей. И если вы не принимаете в расчет земные привязанности своих людей – вы профан. И заранее можно предсказать вам проигрыш.
– Мои люди не таковы!
– Неправда, девять из десяти ваших агентов такие же, как все другие: из плоти и крови. Вы дурной организатор, Шилде, если не учли этих пут среди средств, которые провидение дало вам, чтобы связать Силса. Денег больше, чем вы, могут дать Советы…
– Они скупы.
– Только там, где надо, Шилде.
– Они не овладевают душами!
– При помощи денег, да. Но у них есть какие-то другие средства. Овладели же они душою Круминьша, не дав ему ни гроша. Да разве одного Круминьша?! А те сотни тысяч, миллионы латышей, что идут под их знаменами?
Шилде слушал епископа, и взгляд его делался все мрачнее, все больше морщился лоб и сердитым становилась лицо.
– Чего же вы от меня хотите? – спросил он.
– Помочь вам взять в руки Силса. Я хочу, – как мог отчетливей, отделяя слово от слова, внушительно говорил епископ, – чтобы вы заинтересовались привязанностями Силса.
– У меня нет возможности установить слежку за любовными похождениями этого мальчишки. Один-двое калек, которые могут мне там кое-как служить, не поспеют за этим молодцом, когда он начнет бегать по девчонкам…
Епископ остановил его, подняв руку.
– Не то, не то! – Он брезгливо поморщился. – Конечно, проследить за интимными связями Силса был бы смысл. Среди них может оказаться и такая, которую вы сумеете использовать хотя бы для наблюдения за ним. Но на этот раз я имел в виду иное: вы должны заняться связями Силса здесь, у нас.
Шилде рассмеялся:
– Какие же связи могли у него сохраниться тут в эмиграции? Женат он не был, детей не имел. Не думаете же вы, будто он сохранил какую-нибудь, с позволения сказать, «любовь».
– Именно это я и думаю, друг мой.
– Вы смешите меня, епископ. Силс больше года хранит верность какой-нибудь девчонке здесь?!
– Значит, Шилде, – все строже говорил епископ, – вы знаете меньше, чем должны знать… У Силса здесь есть привязанность. И очень крепкая привязанность… Это и есть тот козырь, который я вам дам, чтобы вы могли перекрыть все советские карты. – По мере того как епископ говорил, голос его делался все тише и сам он все ближе подвигался к Шилде. И даже руки его, перестав шарить по пуговицам сутаны, протянулись к собеседнику, словно что-то передавая: – Возьмите эту карту, спрячьте ее, держите крепче. Если Силс узнает, что вы в любой момент можете ее просто уничтожить, а то еще… иначе использовать, скажем… взять себе в прислуги… – Епископ, прищурившись, посмотрел Шилде в глаза. – Вот Квэп, например, любил, чтобы горничные взбивали ему подушку… Она молода и хороша собой, эта… Силсова Инга.
Епископ интригующе умолк. Шилде с живым интересом спросил:
– Вы действительно ее знаете?
Вместо ответа епископ не спеша проговорил:
– Поймайте ее, возьмите ее, и Силс станет мягок как воск.
– Как ее зовут?
После некоторого колебания епископ сказал:
– Инга Селга!.. Должен сознаться: приказ уничтожить Круминьша представляется мне теперь ошибкой. Да, грубая ошибка – результат вашей плохой работы. Если бы я в то время знал, что в моей канцелярии служит возлюбленная Круминьша – некая Вилма Клинт, я ни за что не согласился бы его убрать. При помощи этой Клинт мы взяли бы Круминьша в тиски. Он пошел бы для нас в преисподнюю. О, он еще послужил бы нам! – Епископ насмешливо поглядел на Шилде: – Если бы наша разведка работала как следует… Это вы, мой дорогой Шилде, виноваты в том, что мы так примитивно разделались с Круминьшем и потеряли в нем отлично законспирированного человека в советском тылу.
– Теперь не стоит препираться по этому поводу! – примирительно сказал Шилде и тяжело поднялся с кресла.
– Ну что же, мир вам, сын мой, грядите со Господом, – ответил епископ.
При этих словах его рука по привычке сложилась для благословения, но Шилде, словно не замечая этого движения, простился рассеянным кивком головы и пошел к двери.
Мысли его бежали теперь так же быстро, как и в начале встречи: трудная лиса этот Ланцанс! Что может крыться за сообщением об Инге Селга? Действительно ли иезуит подкинул ему козырь, имея в виду интересы дела, или?.. Ох, трудная лиса!.. Как бы не оказалась крапленой эта «козырная» карта. Шилде не должен забывать, что не сегодня – завтра может случиться большая беда: Ланцанс приберет к рукам все дела латышской эмиграции. Но что такое дела? Разве суть в делах?! Тот, кто знает епископа, понимает: перво-наперво он заграбастает денежки, отпускаемые иностранцами. Вот это будет настоящая беда!..
Эта мысль заставила Шилде остановиться, как будто собственные шаги мешали движению его мыслей.
«Ну что же, – думал он, – если дело повернется таким образом, то придется выбирать: самому переходить на сторону Ланцанса или дать кое-кому одно щекотливое… очень щекотливое поручение! Черная ворона слишком раскаркалась!.. Как будто стала тут настоящей хозяйкой… Посмотрим, посмотрим!.. А пока что нужно все-таки позаботиться о том, чтобы исполнитель «операции Круминьша» не попал в руки советских властей. И насчет Силса тоже следует подумать. Парень он крепкий, но надо найти ему такую область применения, чтобы его не застукали в первый же день. Следует подольше подержать его в консервации… К сожалению, хозяева всегда спешат. Словно не понимают, как важно закрепить человека на нелегальном положении годик-другой. Вот японцы, те в этом отношении бесподобны: по десять лет держат свою агентуру на консервации ради одного какого-нибудь задания. Но зато у них и агентура! Не то что выдумки, которыми он сам вынужден пичкать хозяев, ради поддержания в них бодрости. А то, не дай бог, захлопнут кошелек перед самым носом!
…О чем это он должен был хорошенько подумать?.. Ах, да, Силс… Этот парень еще пригодится».
Мартын Залинь
Когда Грачик включился в расследование, Мартын Залинь уже был арестован. Правда, основанием для ареста послужили обстоятельства, показавшиеся по началу важными и достаточными: наличие ножа, опознанного за нож Залиня; не объясненное Залинем отсутствие его на работе вечером и в ночь преступления и некоторые другие улики. Соображения следователя, ведшего дело, показались теперь Грачику недостаточными для дальнейшего применения этой меры пресечения. Слишком большое место в них занимали утверждения свидетелей, что «убийца – Мартын, и никто другой!» Показания могли быть основаны на вражде между Мартыном и Эджином, на ревности Мартына и на его угрозах разделаться с соперником. А следователь, хотя и не новичок, по мнению Грачика, все же попал в плен чужого мнения. Сыграла роль массовость и единодушие высказываний рабочих бумажного комбината.
Так или иначе, доказательность материала, собранного против Залиня, становилась, по мнению Грачика, недостаточной. Грачик считал, что только в сочетании с другими изобличающими обстоятельствами, имеющими неоспоримую силу, эти показания могли бы получить вспомогательное значение, стать косвенными уликами. Но именно этих-то «неоспоримых» обстоятельств в деле и не было. Вдобавок Мартын Залинь доказал свое алиби: той ночью, когда произошла смерть Круминьша, Мартын участвовал в гулянке с товарищами, а затем спал в общежитии, а днем был на работе в комбинате. Грачик не видел оснований держать Мартына под стражей. Следователь, от которого Грачик принимал дело, не согласился с Грачиком. Их разногласие дошло до прокурора республики. Грачик понимал, что ему предстоит нелегкий спор: как-никак ему противостояли местные работники, Крауш не имел оснований им не доверять.
Приглашенный на совещание в кабинет прокурора республики, Грачик без особенного внимания следил за тем, как проходили другие, не касающиеся его вопросы. Он разглядывал сидевшего на председательском месте прокурора республики. Крауш был блондин невысокого роста с усталым лицом. О нем говорили как о большом пунктуалисте, зачем-то стремившемся казаться сухарем, а в действительности только усталом, но очень добром человеке, не в меру прямолинейном в разговорах с начальством. Однако, на взгляд Грачика, черты прокурорского лица мало гармонировали с отзывами о его доброте: сильно выдвинутая челюсть с острым подбородком, маленькие глаза того мутного серо-голубого оттенка, который не позволяет определить их подлинное выражение. Над глазами – высокий выпуклый лоб. Все выглядело сурово и даже сердито. Впрочем, тут же Грачик пришел к выводу, делавшемуся до него по крайней мере тысячу раз в год в течение многих тысячелетий: «Куда приятнее видеть доброго человека с суровым или хитроватым лицом, нежели красавца, обладающего душонкой жестокого хитреца».
Время от времени лицо прокурора болезненно напрягалось от душившего его кашля. Приступы этого кашля были часты и продолжительны и сотрясали все тело прокурора. В начале приступа он поспешно хватался за папиросу и глубоко затягивался. Дым, несмотря на кашель, долго оставался где-то внутри прокурора. Лишь когда кашель кончался, дым желтовато-сизой струйкой медленно выходил из ноздрей. Грачик с удивлением, морщась от сострадания, глядел на задыхающегося прокурора и не мог понять, как немолодой и умный человек пытается утишить кашель папиросным дымом. Грачику казалось, что это равносильно тому, что человек в трезвом виде стал бы гасить пожар, поливая его бензином.
Наблюдая прокурора, Грачик вдруг заметил, что взгляд того почему-то с особенной настойчивостью остановился на нем самом. Оказалось, что, увлеченный своими размышлениями, Грачик пропустил мимо ушей, как ему было предложено изложить свою точку зрения на дело Мартына Залиня.
Слишком резкий армянский акцент Грачика искупался его приятным грудным голосом и ясностью, с какой молодой человек излагал свою мысль. Несколько смущенный тем, что его застали врасплох, он все же точно и твердо формулировал свое требование освободить Мартына. Прокурор, уже выслушавший до того оппонентов Грачика, разразившись очередным приступом бешеного кашля, сипловатым голосом устало проговорил:
– Заключая под стражу Мартына Залинья вы, – он указал карандашом на сидевшего ближе всех следователя, – ссылались на статью сто девятую, а вы, – его карандаш обратился в сторону сидевшего рядом со следователем районного прокурора, – вы, не дав себе труда самому тщательно разобраться в соображениях следователя, санкционировали арест. Ход ваших мыслей мне ясен: «Наш человек всегда прав». Тут есть даже ваше упоминание, ни к селу ни к городу, статьи двести шестой. Вы ухватились за нее, полагая, что лучше немножко переборщить, чем недоборщить. Но это старая система работы. О ней надо забыть! Я вас спрашиваю, при чем тут двести шестая статья?!
– Видите ли… – начал было районный прокурор, но республиканский перебил его, стукнув карандашом по стеклу, покрывавшему стол:
– Что мне видеть!.. Мы с вами отвечаем за соблюдение советской законности в любых условиях и обстоятельствах. Это единственное, что я вижу и советую видеть вам всегда и везде. Мы советские прокуроры! Надо же это в конце концов понять до конца: мы око народа в его борьбе за законность и за права каждого отдельного человека, хотя бы этот человек сам и ничего не смыслил в вопросах права! Понимаете?!
– Я тщательно проверил свидетельские показания… – снова начал райпрокурор.
– Я их тоже проверил, – резко перебил республиканский. – Но проверил и ваши действия. Вы действовали так, как мы тридцать шесть лет назад. Но тогда этого требовали от нас условия – потеря минуты могла стоить слишком дорого. Не воображайте, будто мы не понимали того, что действовали подчас вне рамок писаного права, – таково было время, таковы были тогда условия диктатуры.
– К сожалению, – с несколько излишней задористостью заметил Грачик, – кое-что такое имело место не только тридцать шесть лет назад.
– Да, к сожалению, это случалось и позже. – Прокурор метнул на него сердитый взгляд и, не глядя в его сторону, продолжал: – По разным причинам право решать судьбу советского человека не всегда попадало в руки его друзей. Но повторяю: это только случалось, а не было и не будет правилом и примером для других. Не будет! – Карандаш сухо стукнул по стеклу. – Мы с вами живем в период, когда меняются функции и роли диктатуры, меняется наше отношение к букве закона и когда наша с вами борьба за революционный правопорядок становится особенно важной. – Его карандаш опять холодно стукнул. – И никому из нас не будет дозволено действовать, руководствуясь одним только страхом.
– Кого же я боялся? – удивленно спросил следователь.
– Вы боялись остаться в дураках, если подозреваемый скроется. – Следователь пожал плечами, в ответ на что прокурорский карандаш с новой силой опустился на стекло.
– Для меня он был уже обвиняемым, – успел возразить следователь. – Я предъявил ему обвинение. Органы дознания…
Карандаш стукнул несколько раз – громко, повелительно.
– Оставьте в покое органы дознания, – строго сказал прокурор. – Ссылки на них вас не спасают. К тому же органы не действуют очертя голову и подконтрольны нам в части санкций. За ваши действия отвечаете вы сами. – Тяжкий приступ кашля снова заставил прокурора умолкнуть. Давясь, он прикрыл глаза. Грачик почти со страхом смотрел, как он багровеет, как слезы выступают из-под опущенных ресниц. Грачик был слишком здоровым и жизнерадостным человеком, чтобы допустить мысль, что подобные страдания (так ему казалось) могли стать привычными. Поэтому Грачику хотелось что-то сейчас же сделать, чтобы помочь прокурору откашляться или хотя бы сказать ему несколько слов сочувствия. Но никто из окружающих не обращал на этот кашель внимания. Очевидно, это было всем уже так привычно, что заседающие воспользовались паузой только для того, чтобы перекинуться между собою несколькими репликами. Как только приступ окончился, совещание продолжалось как ни в чем не бывало. Сам же прокурор и заговорил, продолжая фразу, словно она и не прерывалась: – Отвечаете вы и никто другой, – и оглядел сидящих за длинным столом прокуроров и следователей: – Ваше мнение, товарищи?
Несмотря на порицание действий следователя, высказанное прокурором республики, присутствующие вовсе не были единодушны в своих оценках. Но все же совещание окончилось решением о необходимости освободить Залиня, так как его алиби представлялось доказанным. На следующий день Мартын был освобожден к удивлению и неудовольствию рабочей общественности бумажного комбината.
Мартын вернулся в С. в шляпе, лихо сдвинутой на ухо, и, подойдя ночью к окошку Луизы, сказал:
– Ну, погоди!.. Узнаешь, как на меня капать!
Петерис Шуман
В кармане брезентовой куртки, надетой на Круминьша в момент смерти, был обнаружен пистолет «браунинг». Его обойма была пуста. Ствол носил следы выстрелов. Это могло служить подтверждением тому, что Круминьш застрелил своего спутника, приняв его за работника милиции. Проверка, произведенная по всей республике, показала, что пистолет «браунинг» с таким номером на вооружении латвийской милиции не значился. Никогда ни одному работнику милиции Латвийской ССР этот пистолет не выдавался. Это могло служить еще одним доказательством тому, что «арестовавший» Круминьша человек не принадлежал к аппарату милиции – ведь Круминьш писал: «Застрелил офицера из его собственного оружия».
Первый вопрос, который Грачик себе поставил, ознакомившись с материалами дела, сводился к тому: почему, имея пистолет и патроны, Круминьш повесился, а не застрелился? Допустить, что в обойме у него имелось ровно столько патронов, сколько понадобилось, чтобы застрелить конвоира?.. Тогда надо допустить, что Круминьшу понадобилось несколько выстрелов, чтобы разделаться с конвоиром… Два, ну, три выстрела в любых обстоятельствах достаточно, чтобы попасть на близкой дистанции в убегающего человека. А можно ли предполагать, что в обойме у преступника имелось только два или три патрона? Это было маловероятно. Допущение, будто Круминьш повесился, было, по мнению Грачика, ошибкой. Он настаивал на необходимости всесторонне исследовать версию инсценированного самоубийства. Однако заключение, данное по этому вопросу психиатрической экспертизой, гласило, что в том состоянии, в каком находился в последние минуты жизни Круминьш, от него не следовало ждать логических действий. Так же, как он повесился, имея в кармане пистолет, он мог и утопиться; мог, располагая таким верным оружием для уничтожения своего спутника, как пистолет, выжидать удобного момента, чтобы задушить свою жертву или ударить камнем по голове. По мнению врачей, несомненная психическая травма Круминьша позволяет сделать любые предположения.
Грачик считал выводы экспертов неубедительными.
К этому времени в деле появилось новое обстоятельство. Стоило слуху о том, что арест Круминьша был фиктивным, распространиться на комбинате, как к властям явился местный католический священник отец Шуман. Он предъявил снимок, сделанный в день «ареста» Круминьша. На снимке был изображен «арестованный», идущий в сопровождении двух неизвестных: один – в форме милиции, другой, – на заднем плане, лица которого не видно, – в штатском. Фоном для всей группы служил местный католический храм – маленькое деревянное сооружение, весьма дряхлого вида и незатейливой архитектуры. Ошибиться в том, что идущие именно названные лица, было невозможно: лицо Круминьша было отчетливо видно. Все детали формы советской милиции на его спутнике были также ясно различимы.
– Где вы взяли этот снимок? – спросил Грачик.
– Нескольким ателье было поручено сфотографировать наш скромный храм, – ответил Шуман. – Я намеревался размножить снимок с целью продажи прихожанам. Нам нужны средства на поддержание храма.
– И вы полагали, что снимок со столь неказистой постройки будут покупать в таком количестве, что это может вам что-то дать?
– Именно в том, что вы изволите называть неказистостью, и заключается смысл. Убогий вид нашего храма должен напоминать верующим о бедственном положении дома Господня. Продажа снимков была бы источником дохода на поддержание храма.
– А каким образом эти трое попали на снимок? – спросил Грачик.
– Я сам этим удивлен, – отец Шуман пожал широкими плечами. – По-видимому, фотограф не заметил, как они вошли в поле зрения аппарата, или не придал значения тому, что на снимке окажутся прохожие. Но я счел этот снимок испорченным и забраковал его. И только теперь, когда до меня дошел слух о случившемся с Круминьшем, я вспомнил об этой фотографии и счел своей обязанностью представить ее вам. – Шуман ткнул пальцем в фотографию: – Вот видите: один из этих людей – в форме милиции.
– Мы вам благодарны. Оставьте эту фотографию нам.
– О, разумеется!
Разговор казался оконченным, а священник все еще мялся. Он взялся было за шляпу, но Грачик видел: что-то недосказанное висит у него на языке.
– Вы хотите сказать нам еще что-то?
– Видите ли, – смущенно проговорил отец Шуман. – Фотографирование обходится теперь так дорого… Я уплатил за этот снимок…
– Ах, вот в чем дело! – не без удивления воскликнул Грачик. – Сколько же мы вам должны?
– Такой снимок, сделанный в одном экземпляре, фотографы ценят в пятьдесят рублей. – И священник с поспешностью пояснил: – Они берут за выезд из Риги.
Грачик вручил священнослужителю пятьдесят рублей, и тот, церемонно поклонившись, ушел. Грачик внимательным взглядом проводил его широкую спину и багровевший над нею мясистый затылок, прорезанный у шеи узкой полоской крахмального воротничка. Когда Грачик смотрел на розовый затылок, на белую полоску накрахмаленного полотна над черным воротником пиджака, ему казалось, что он уже где-то видел и этот мясистый затылок, и эту белоснежную полоску над черным сукном… Но где?.. Где?..
По привычке непременно вспомнить то, что показалось ему знакомым, Грачик еще долго, настойчиво думал о затылке священника. Но нужное воспоминание не приходило. И он решил, что память его обманула или при взгляде на отца Шумана ему вспомнились подобные же, но другие упитанные затылки.
Однако Грачик был упрям тем хорошим упрямством добросовестности, какое необходимо всякому исследователю. Промучившись ночь, напрягая память, он наутро, не успев позавтракать, отправился к костелу в Риге и первым вошел под его темные своды. В притворе еще не было даже зажжено паникадило, и Грачик больно ударился протянутой рукой в затворенную дверь. Сторожиха с нескрываемой неохотой загромыхала ключами. В храме было тихо и пусто. Шаги Грачика не очень громко отдавались на выщербленном, словно выбитом подковами полу. Грачик прошел по рядам скамей. Запах времени, не слышанный Грачиком раньше, въедался в его ноздри, как напоминание тлена, к которому с каждым веком, с каждым десятилетием быстрей и верней шел этот памятник Богу, упрямо не желающему уходить в небытие. Грачик прошел на место, где стоял во время богослужения несколько дней назад, когда приехал поглядеть храм и обряды. Он, как тогда, прислонился к колонне и закрыл глаза. И снова перед ним, как тогда, потянулось торжественное богослужение. Скамьи заполнялись людьми, похожими больше на любопытных, явившихся поглазеть на интересное зрелище, чем на богомольцев… Грубо раскрашенные изваяния Мадонны и святых лепились к массивным опорам высокого свода. Ковер дорожки, протянутой от боковой двери, яркой полосой алел вокруг всей церкви, ведя к алтарю. И, наконец, появились, выплывая из низкой двери, фигуры священнослужителей всех рангов. Почти всем им – большим и дородным – приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться о камень низкого свода. Кружевные одежды поверх черных сутан, белоснежные галстуки. И надо всем этим – хмуро сосредоточенные, налитые кровью, напоенные сознанием своего значения, иссиня-багровые лица. Вот лицо важно вышагивающего епископа. Он глядит в пол и ступает так осторожно, словно старается ступить на след своего собственного огромного посоха. За епископом целая процессия худых и толстощеких, но одинаково важных, одинаково налитых кровью лиц. И где-то в хвосте процессии, рядом с маленьким сухопарым старичком, облаченным в не по росту длинный хитон, с золотым крестом на груди, – лицо – широкое, с отвисающими щеками и насупленными белобрысыми бровями. Двойной подбородок лежит на глянце крахмального воротничка. Лицо настолько красно, так напряженно, налито кровью, словно этот воротничок давит шею священника, подобно пыточному ошейнику. Вот-вот, брызнет кровь из пор надувшегося лица…
Грачик хорошо помнит, что, глядя вслед процессии, он видел затылок замыкающего священника – такой же налившийся кровью, такой же раздутый, как щеки, подбородок, как все лицо… А не был ли перед ним тогда этот самый затылок? Тот же, который он видел вчера, – затылок отца Шумана?
И сейчас, когда Грачик вспомнил, как церемонно поклонился отец Шуман, взяв свои пятьдесят рублей, как важно шагал к выходу, показывая широкую спину и складки затылка, Грачику почудилось, будто он снова видит всю процессию там, в рижском костеле. Грачику чудилось, что он без ошибки воспроизвел бы теперь и торжественную песнь органа, под звуки которого совершалось шествие… Да, теперь он был уверен – вчера перед ним был тот самый затылок! Красный затылок отца Шумана!
Прокурора зовут к ответу
Стоя у окна приемной первого секретаря, Крауш смотрел на Ригу. С этой высоты город казался утопающим в садах. Бульвары и парки сливались в сплошной зеленый массив. Сколько бы раз Крауш ни подходил к этим окнам – а он был частым гостем на верхних этажах ЦК, – Рига всегда представала перед ним по-новому прекрасной. Весна, лето, осень – все одевало город своим ни с чем не сравнимым убором. С этим соглашался даже он, Крауш, – человек отнюдь не влюбленный в природу. Он не мог бы дать отчета: почему эта панорама всегда заставляла деятельно работать его память, но это было так. Этапами, в зависимости от настроения, проходили перед ним события прошлого – жизни, отданной тому, чтобы этот город стал тем, чем стал: сердцем Латвии, столицей страны, принадлежавшей его народу, управляемой его народом. Крауш хорошо помнил, кто и как правил страною прежде; помнил корысть и властолюбие полновластных хозяев буржуазной Латвии. Поэтому то, что молодому поколению казалось извечным и само собою разумеющимся: народовластие, революционный порядок и равные права для всех – элементы государственности и правопорядка, на страже которых стоял теперь он сам, генеральный прокурор республики, – было для поколения Крауша плодом борьбы со старым миром. И то, что казалось молодежи прошлым, сданным в музей революции, – самая эта борьба, вовсе не представлялось ему законченным этапом. Борьба продолжалась. Старый мир умирал, но еще не умер. Его печальное и подчас мрачное наследие как вредный мусор тлело кое-где в сознании людей. Чтобы покончить с этим тлением, тоже нужно было бороться.
Крауш был одним из представителей старой партийной гвардии, для которых в поручениях партии не существовало большого и малого, интересного и неинтересного, видного и невидного. Он уже не рассчитывал воспользоваться для себя самого плодами победы над старым миром и даже не надеялся отдохнуть. Интересы народа и воля партии были компасом, с которым он прошел по жизни и с которым собирался уйти в вечную отставку. Работа и борьба стали привычкой, жизнью. Он удивлялся тем, кто говорил об «отставке», рассчитывал пенсии, планировал жизнь на покое. Разумеется, это было в порядке вещей, и именно ему, Яну Краушу, было поручено наблюдение, чтобы провозглашенное конституцией право на обеспеченную старость свято соблюдалось. Он был готов вступить в бой с нарушителями этого права других. Но ему не приходила мысль о том, что давно вышли все сроки и его собственной службе и он сам имеет право на покой и на старость. Он не хотел покоя и не чувствовал старости. Этих терминов не было в его словаре.
Да, не раз стоя у этих окон, Крауш размышлял на подобные темы. Но нынче его мысли были куда более прозаическими и ограниченными во времени и пространстве. Они вертелись вокруг Алуксненского района, порученного его наблюдению как депутату Верховного Совета. Не всегда удавалось вырвать время, чтобы отмахать двести с лишним километров для посещения Алуксне. Подчас приходилось ограничиться телефонным разговором. А время настало горячее – подготовка к уборочной. Вероятно, молодые руководители района наломали дров, и вот Крауша ждет внушительная головомойка.
Крауш был ветераном партии и занимал один из самых высоких постов в республике. Но когда его вот так, внезапно, вызывали к старшим партийным товарищам, он чувствовал себя немногим лучше, нежели в юности, когда представал перед инспектором школы. На свете существует два рода деятелей. Одни, будучи поставлены на высокий пост, довольно быстро забывают, что этот пост – не что иное, как поручение, тем более ответственное, чем оно выше. Такие деятели быстро теряют представление о собственном месте в системе партии и государства, утрачивают скромность, обретают самоуверенность, ничего общего не имеющую с достойной уверенностью в себе. Начав с того, что при встрече со старыми товарищами подают им левую руку, они скоро утрачивают партийное лицо, помышляют только о бытовом подражании дурным примерам вельможемании, забывают о том, что они – только слуги народа. Такие кончают безвестностью за штатом истории. Другого рода деятели на любом месте и в любом положении сохраняют ясность перспективы и понимание обстановки. Они всегда помнят об ограниченности собственной ценности и о значении порученной им работы. Такие остаются верны ленинским заветам партийной скромности и знают, что их сила не в них самих, а в стоящей за ними партии. Такие одинаково серьезно относятся к критике сверху и снизу.
Сегодня, переступая порог кабинета первого секретаря Центрального Комитета, Крауш был немного не в своей тарелке – за ним вина: упущенное из рук руководство подготовкой к уборочной.
Товарищ Спрогис, первый секретарь ЦК, – человек небольшого роста и той степени плотности, которую только-только нельзя назвать полнотой, – поднялся из-за стола и сделал шаг навстречу Краушу. Седые усы его так топорщились, что придавали лицу сердитое выражение даже тогда, когда Спрогис чувствовал к посетителю искреннее расположение.
– Давно не виделись, – густым хрипловатым, словно простуженным, баском проговорил Спрогис, имея в виду, что со времени последнего заседания бюро ЦК, на котором присутствовал Крауш, прошло уже пять дней. – Как дела?
– Хвастаться нечем.
– В какой области?
– Да начать хотя бы с той, о которой бюро поручило мне собрать сведения.
– Вы имеете в виду правопорядок в республике?.. Разве так плохо обстоит дело?
– Конечно, сравнить нельзя с прошлым, но все же… Нет-нет да и забудет кто-нибудь, что конституция – это не просто плакат с красивыми словами. – Усы Спрогиса встопорщились еще больше. Крауш улыбнулся: – Нет, нет! Дело не дошло до того, чтобы нужно было повесить перед каждым работником аппарата ее текст. Не дошло и не дойдет!
– Но если хотя бы один советский гражданин может ткнуть нас носом в то, что забыта хотя бы одна ее статья и хотя бы один только раз, одним только работником аппарата, – стыд и срам! Небось хуже всего там, где дальше от глаз: в районах, в колхозах? А для чего там ваши прокуроры?
– Да ведь народ теперь как понимает дело?.. Чуть что – конституция. Налог перебрали – конституция! В районный центр понапрасну вызвали, от работы оторвали – конституция! Я уж не говорю о том, что нужно семь раз отмерить, прежде чем вора за руку схватить.
Басистый смех Спрогиса гулко разнесся по большому, отделанному деревом кабинету.
– А вы говорите «хвастаться нечем». Так это же просто великолепно: народ сам, без помощи ваших прокуроров, стоит на страже конституции! Это же просто отлично! – весело повторял Спрогис, размахивая трубкой. За нею тянулась полоса едкого дыма. Спрогис курил очень крепкий табак, какой куривал, наверно, еще будучи литейщиком на «Руссо-Балте», и Крауш чувствовал, что от этого дыма его тянет на кашель. Спастись можно было только закурив самому, но папиросы остались в приемной, и он пытался подавить приближавшийся мучительный приступ кашля. А Спрогис между тем продолжал: – Вот это и есть настоящий порядок! – Тут он сунул трубку в рот, и две стремительные струи дыма, одна вдогонку другой, вырвались из-под его усов. – А вот переходя к Алуксненскому району, приходится сказать, что хвастаться действительно нечем.
Крауш посмотрел в глаза Спрогису.
– Это моя вина, – сердясь на самого себя, сказал он. – Но есть кое-что принципиальное, что народ ставит перед нами как важнейший, первоочередной вопрос: кукуруза!
Спрогис далеко отставил руку с трубкой. Вся его фигура выразила заинтересованность. Он с нескрываемым нетерпением ждал, что дальше скажет Крауш.
– Колхозники говорят, – размеренно, как если бы ему хотелось насколько можно точнее передать каждое слово чужого мнения, проговорил прокурор, – они засеют кукурузой в десять раз больше, чем мы предлагаем. «И уж мы ее выходим, выхолим, вырастим!..» Но для этого они должны быть уверены, что кукуруза им самим нужна, что без нее им не обойтись. Вот так: они готовы принять любой план заготовки кукурузы, так сказать, на вызов, если мы примем их план: избавить их от посевов зерновых сверх нужного для их собственных потребностей. А в качестве основного производства, в любом масштабе, сколь угодно большом, закрепить за ними животноводство. Рогатый скот и свинья, да еще гусь – вот что они готовы давать высшего качества и в любом количестве. «Вот тогда, – говорят они, – нам понадобится и кукуруза, и овес, и такие травы, о каких мы сейчас и не думаем. И все будет», – говорят они…
По мере того как говорил Крауш, лицо Спрогиса принимало все более суровое выражение, усы топорщились, и клубы дыма, один другого гуще, взлетали над его головой, словно выстреленные.
– …Они прямо-таки помешались на рогатом скоте, – в заключение раздраженно заметил Крауш.
Спрогис с кряхтеньем поднялся из-за стола и медленно прошелся по кабинету.
– А может быть, и не так уж помешались! – послышался его бас из дальнего угла комнаты.
Крауш оглянулся и с удивлением увидел, что один глаз секретаря прищурен, словно он подмигивал прокурору.
– Может статься, не такие уж они помешанные, а? – задумчиво повторил Спрогис, подходя к Краушу.
Несмотря на свой небольшой рост, он глядел теперь на прокурора сверху вниз:
– Ну что ж вы молчите, прокурор? Что вы сами-то думаете: помешались они или нет?
– Я плохой хозяйственник, – уклончиво ответил Крауш.
– Вой тик вен сауле спид, ка па логу истаба… Разве только и свету солнечного, что через окошко в избу?.. Как ни стара поговорка, а нынче в ней столько же смысла, что и тысячу лет назад. Может быть, и впрямь колхознику не только света в окошке, что мы ему отсюда, сверху, посветим, а? – Кажется, Спрогис опять подмигнул. Или только прищурился? – Его интересы – наши интересы, наши интересы – его интересы… Надо посоветоваться с хозяевами. Да не с нашими канцеляристами, нет!.. А собрать вселатвийское совещание колхозников, посудить да порядить всенародно: что выгоднее всего республике? Что годится для наших почв, для нашего климата? Может статься, мы действительно маслом, мясом, свининой, гусятиной советский народ питать можем, а? Вот перспектива! Черт побери, вывозили же эти продукты господа латышские буржуа во времена Ульманиса! А что мы хуже их, что ли?! А нам за масло да за мясо хлеба подкинут и всего, что надобно, а? Ведь не требует же Москва хлеба от Кузбасса! Не берут хлеба с Воркуты, с Грузии! Енисей искупает свою бесхлебность лесом и ископаемыми. Средняя Азия – хлопком. Может статься, по такому примеру и мы вместо ржи – корову, вместо пшенички – свинью, гусятинку? Яичко, маслице, мясцо, а?
– Не знаю, не знаю, – уклончиво бормотал Крауш.
– Э, нет! – Спрогис сердито взмахнул трубкой над головой прокурора: – Надо знать, прокурор, и своим умом пораскинуть, Москве подсказать, посоветоваться с нею. Это и есть то самое, чего ждет от нас партия: инициативы, разумной подсказки, раздумья и совета. Иначе можно забрести в такой тупик, что и ног не вытащишь. Знаете, как говаривали деды: «Даудзи дену Мудиня: цита лаба, цита лауна; цита эста, цита дзерта, цита гаужи нараудата» – «Много дней в человеческом веке: один хорош, другой злой; в один ешь, в другой пьешь, в третий горько плачешь…» Вот, чтобы нам не плакать, и нужно помнить, что не все дни одинаковы: бывают добрые, а бывают и злые.
– Но на сегодня, – сухо отозвался Крауш, – имеющийся план – это обязательно! Не могу же я отбросить его только потому, что он не по душе группе колхозников, и пустить район в плавание по воле волн?!
– По воле волн, конечно, худо, – усмехнулся Спрогис. – Всегда лучше по воле человека. Но все же взять хотя бы кукурузу. Мне кажется, при умелом подходе можно сделать так, что колхозы сами будут просить: дайте нам план на кукурузу! А тем, что мы пытаемся навязать ее…
– Уж и навязать! – поморщился Крауш.
– А как иначе назвать такой способ? И нет ничего удивительного в том, что у колхозников нашей Латвии эта выгоднейшая культура все еще не приобрела заслуженной популярности. Вместо того чтобы самому слову этому стать ласкательным: «кукурузочка». – Спрогис выпятил губы и, прищурившись, ласково повторил нараспев: – «Кукурузочка»!.. Нет ничего немилей навязанного дела. Вот в одной республике руководители только и делали, что глядели в рот начальству. Беспрекословно принимали все, что предлагала Москва. Разве им и в голову не приходило, что Москва сама ждет критического отношения к своим предложениям? В народе, знаете, что стали говорить об этих покладистых местных руководителях?.. «Они о своих местах думают, – как бы им за неповиновение не влетело. А до дела им и дела нет!» – Спрогис грустно покачал головой и раздул усы. – Вам нравятся такие речи? Небось в былое-то время… – Он выразительным жестом схватил сам себя за воротник у затылка и рассмеялся. – Контрреволюционная, мол, агитация, а? Ну а что тут контрреволюционного, ежели колхозник раскусил горе-руководителей? Так-то, прокурор…
– Право, я не силен в сельском хозяйстве.
– Ну, не такие уж это сельскохозяйственные разговоры!.. Но коли они вам не по душе, обратимся к делам сегодняшним. Вот, прочтите, – недовольно проговорил Спрогис и, с размаху опустившись в кресло, взял лист, лежавший поверх стопки дел и, видимо, заранее приготовленный для Крауша. – Уж тут-то вы небось сильны.
Анализ бесконечно малых
По одному взгляду, брошенному на бумагу, Крауш понял, что это коллективное письмо: целый столбик подписей красовался в конце страницы. Он не спеша достал очки и внимательно, слово за словом, прочел бумагу. Письмо рабочих бумажного комбината в С. гласило, что им странна неторопливость, с которой прокуратура республики ведет дело о самоубийстве Эджина Круминьша. На комбинате ходят разные слухи. Если в них есть доля правды, то необходимо быстрое расследование – враг должен быть схвачен. Дело волнует рабочую общественность комбината.
Крауш не спешил с объяснением. Чтобы оттянуть время, он долго укладывал очки в футляр.
– Мне кажется… – медленно проговорил наконец Крауш, выпячивая подбородок и отводя взгляд от пытливых глаз секретаря, – дело не столько в медленности следствия, сколько в недоверии к человеку, который его ведет…
– Недоверие к следователю? – спросил Спрогис, и в голосе его прозвучала строгая озабоченность.
– Погиб этот Круминьш, латыш с трудной биографией, рабочие на комбинате на 99 процентов латыши. – И как бы в подтверждение Крауш показал на нижнюю часть листа, где стояли подписи. – А работник, которому я поручил дело, – армянин… Они, видимо, хотят, чтобы следствие вел латыш.
– Послушайте, Крауш, – медленно, словно не в силах преодолеть удивление, проговорил Спрогис. – Вы действительно так думаете? – И, не дождавшись ответа прокурора, требовательно: – А вы посмотрите на эти подписи!..
– Я тут никого не знаю.
– Рабочие взволнованы как граждане своей страны, как члены партии обеспокоены событием. – Спрогис постучал пальцем по списку. – Многих я знаю. Товарищ Лутц стоял рядом со мной у вагранки на «Руссо-Балте», вместе с ним мы были в подполье. Это не тот человек, который согласился бы поставить свою подпись, если бы составители письма имели заднюю мысль, какую вы тут вычитали. А вот и Роберт Лутц – его сын, секретарь комсомольской организации комбината. Для этих людей дело не в том, ведет ли расследование армянин, латыш или казах. Наши люди переросли подобное! Дело не в Грачьяне, если вы ему доверяете.
– Пока вполне.
– Что значит ваше «пока»?
– Он для меня новый человек. Но поскольку начало дела – покушение на жизнь Ванды Твардовской – еще в Москве попало в его руки…
– Этот случай с отравлением?
– Вот именно… Дело вел Грачьян. Но оно, на мой взгляд, связано с делом Круминьша. Я не видел причин передавать его другому работнику, тем более, что Грачьяна хорошо рекомендовали.
– А причем тут рекомендация?
– Видите ли, этот Грачьян – ученик и сотрудник некоего Кручинина, моего старого товарища и очень опытного человека.
Спрогис вынул трубку изо рта и отвел ее далеко от лица. Он силился что-то вспомнить, повторяя про себя: «Кручинин… Кручинин…»
– Постойте-ка, Ян Валдемарович, а не мог ли я сталкиваться с Кручининым в Гражданскую войну?.. Мне почему-то вспоминается…
– Могли, вполне могли, – несколько отходя от обычной своей сдержанности, ответил Крауш. Ему всегда было приятно воспоминание о тех временах. – Именно так: когда мы с вами были в интернациональной дивизии, Кручинин работал в военном трибунале. И даже сам Грачьян имеет, хотя и несколько косвенное, отношение к дивизии: помните…
Спрогис взмахнул трубкой и радостно перебил:
– О, «китаист»! – Он рассмеялся, и все лицо его залучилось морщинками. Даже усы, казалось, утратили свою жестокость. И он стал похож на доброго дедушку. – Да, были времена! Нужно нам, старикам, как-нибудь собраться и повспоминать, а?.. Однако… – внезапно обрывая смех, строго сказал Спрогис: – Я хочу спросить вас: что это, по-вашему, частный эпизод, случайное убийство, или правы авторы этого письма и тут стоит поискать руку врага?.. Давайте попробуем уйти от частностей. Рассмотрим это как событие, уходящее корнями в сложную судьбу латышского народа в войне и мире. Подумаем о судьбе латышей, которые оказались оторванными от родной земли. Одни из них стали субъектами преступления, другие его объектами…
– К сожалению, – с неудовольствием заметил Крауш, – среди них больше «субъектов», чем «объектов».
– А все они в целом, эти «перемещенные», разве не являются жертвой огромного отвратительного преступления? – спросил Спрогис, в гневе отбрасывая трубку так, что пепел из нее высыпался на стол.
– Это, конечно, верно, – согласился Крауш, – но в эмиграции рабочих и крестьян меньше малого. В основном – мелкая буржуазия, чиновничество, торговцы, в лучшем случае ремесленники, пошедшие на поводу у крупных буржуа, те, кто бежали из боязни, что с нами им будет не по пути. Да прибавьте к этому, что каждый третий там – солдат латышских дивизий Гитлера.
– А вы уверены, что и в дивизиях «СС» латыши были только убежденные последователи фашизма? Не было ли и там обманутых, заблуждающихся, может быть, даже попросту голодных, не видевших иного спасения, как только в куртке нацистского солдата? Вы об этом не задумывались?
– Задумываюсь каждый понедельник.
– Работа комиссии по пересмотру старых дел дает, конечно, богатую пищу. Но вы-то сами не задумывались над проблемой «перемещенных»? Это болезненная рана на теле нашего маленького народа. Мне очень хочется, чтобы вы от частного случая убийства – или самоубийства, не знаю, – перешли к общему: к проблеме «перемещенных» лиц. Анализируя бесконечно малую величину – жизнь убитого Круминьша, не должны ли мы проинтегрировать все, что найдем? Посмотрим на силы, какие тянут людей сюда, к родной земле, и на силы, стремящиеся этому помешать. Стоит поинтересоваться и ролью римской курии. Она спелась с эмигрантскими главарями и готова принести в жертву своим мрачным планам сколько угодно человеческих, в том числе, конечно, и латышских жизней… – Спрогис на минуту умолк. Крауш не решился сказать, что он все это понимает, только ему не приходило в голову связывать частный случай убийства Круминьша с такими большими проблемами. Прокурор молча, насупясь, слушал секретаря: – Вы из своей повседневной практики знаете, сколько вреда старались и будут стараться принести нам и нашему делу те, оттуда. Очи ведь не понимают, что руки-то у них коротки. «Жагатина жагатея, гриб ванага сева бут; иси спарне, гара асте, не вар лидзи лидинат» – «Сорока стрекочет, женою ястреба быть хочет; коротки крылья, длинен хвост, не одинаков полет». Они забыли эту старинную поговорку. Забыли мужицкую мудрость: «Кикуригу, ту гайлити, не бус гайсма даже дену» – «Ты-то, петушок, кукареку, да не всякий раз светает…» Им кажется – стоит господам оттуда прокукарекать, как тут воссияет им ясное солнышко. Ерунда! Вот, – Спрогис положил большую руку на письмо: – вот залог того, что ничего у них не может получиться, даже если бы мы с вами что-нибудь прозевали. Есть кому поправить нас, нам есть на кого положиться…
– Но там у этих самых «перемещенных» нам положиться-то и не на кого, – возразил Крауш. – В их рядах рабочий, как белая ворона!
Спрогис несколько раз с укоризной качнул головой, пристально глядя в лицо Краушу.
– Эх, прокурор, прокурор! Ожесточилось твое сердце… – И, заметив протестующий жест Крауша, добавил: – Я не в упрек!.. Может статься, на твоем месте другой стал бы в десять раз черствее. Я понимаю: месиво из отходов общества, которое ты вынужден каждый день нюхать, не может настроить на оптимистический лад… Понимаю!.. Но мне хочется, чтобы ты наперекор этому снова увидел мир теми же глазами веры и надежды, какими мы с тобой прежде глядели на него. Пойми, дорогой мой: если в начале борьбы у нас были основания подозрительно вглядываться в каждого, у кого на руках не было мозолей, то теперь дело не в мозолях. Знаю: примазавшиеся к нашим рядам враги, кандидаты в наполеончики, вытравляли из тебя все человеческое. О, они ловко маскировались! Не ты один, бывало, принимал это за указание партии. А ведь если бы не их вредительская политика навязывания страха всем, кого война выбросила за рубеж, быть может, и многим из тех, кто очутился в «перемещенных», не пришло бы в голову сидеть там! Я имею в виду кое-кого из людей науки и искусства. Да, да, наши народные таланты. Без науки мы сейчас едва ли выбрались бы из века каменных топоров; без искусства нашим величайшим наслаждением был бы сон… Да, суп истории требует приправ! Нам нужен аромат литературы, живописи и театра. Мы уже не можем есть и пить, одеваться и передвигаться, жить без науки.
– Рабочий класс рождает свои таланты и двигает в жизнь… – начал было Крауш, но Спрогис остановил его протестующим движением.
– Не думаешь же ты обвинить меня в том, что я этого не понимаю. И небось удивлен: «Что это старику вздумалось читать мне лекцию на такую избитую тему?» А я должен повторить: при духовном богатстве рабочего класса, при его потенции заполнить все необходимые для жизни и прогресса звенья, бережливость и гуманность в его интересах и органичны для него. А ведь это враги расточительствовали в стремлении ослабить нас, хотели взять нас голыми руками – обнищавших духовно и телесно. Отщепенцы из шаек Ягоды, Берии, Абакумова и других перерожденцев не раз исторгали из нашего общества людей науки, искусства, медицины, инженерии. Негодяи играли на нашей преданности делу партии. О, они хорошо знали, что мы всегда, на всех этапах стремились быть бдительными! И, что греха таить: из-за нашей близорукости мы не так уж редко принимали их происки за чистую монету. Вот это хитрая работа, прокурор, а?! Обвести вокруг пальца эдаких зубров, а?! И вместо бдительности получалось черт знает что!.. Знаешь, чего я боюсь?.. Просто стыдно сказать: оказаться теперь недостаточно бдительным, а?.. Но не будет этого. Нет, не будет! Э, да что: не мне бы говорить, не тебе бы слушать!
Спрогис не сводил глаз с все больше хмурившегося Крауша. Прокурор глубже и глубже уходил в кресло и выпятил челюсть так, что, казалось, она вот-вот сравняется с носом. Но Спрогис был беспощаден. С кем еще, как не с прокурором, было ему говорить о наболевшем! Ведь нужно было избавиться от следов заразы – от последствий вредной работы, проделанной врагами, воспитавшими некоторых работников на излишней подозрительности ради снижения бдительности.
– Подумай, Ян, – говорил секретарь, – не тут ли причина хотя бы тому, что кое-кому из старых людей искусства было с нами не по пути? Что кое-кто из старых людей науки стал бояться своей работы? И посмотрите: достаточно было людям понять, что мы вовсе не враги искусств; что мы готовы снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь науке; что каждый, кто умеет работать, найдет место у станка, на комбайне, за чертежным столом, – как мы увидели тягу «перемещенных» домой. Ты же сам знаешь, какие кучи заявлений о репатриации лежат в наших посольствах всюду, где есть «перемещенные». Ты говоришь, что там, в эмиграции, почти нет потомственных рабочих? Верно! Их мало. Но ведь искусственное обнищание эмигрантов велось врагами, чтобы толкнуть этих людей в горнило, где готовится пушечное мясо; обездоленных, голодных, лишенных семьи и родины, их безжалостно гнали на каторгу африканских копий, их кости грудами гниют в зловонных болотах Южной Америки. Почему? Для того, чтобы показать остальным, более упорным, что лучше надеть мундир солдата иностранного легиона, чем быть наверняка заваленным в шахте или заживо сожранным москитами. Это же система! Там гибнут люди, обезумевшие от страха, голода, отчаяния. Скажем же тем художникам: вам вовсе не нужно рисовать антисоветские картинки, чтобы получить котелок жидкого супа, – можете писать, что хотите, у себя на родине! Скажем писателям, застрявшим за пределами родины: Латвия нуждается в ваших перьях… Ты, конечно, уже насторожился. «А что они станут тут писать?» – Спрогис рассмеялся: – Не бойся, прокурор! Пусть колеблются, спорят, перевоспитываются. Всякий, достойный имени человека, – а из десяти оставшихся там людей пятеро – это люди, – хочет работать на свой народ, на свое собственное счастье, на будущее своих детей. А где их дети еще могут иметь будущее, будущее латышей, сынов своей страны, своей отчизны, как не дома? Где они могут думать, читать, писать, говорить на родном языке, кроме Латвии? Кому они, латыши, еще так нужны, как своему народу? Что им еще так нужно, как отчизна?.. И не случайно, старина, первыми потянулись к нам после простых рабочих именно представители интеллектуального труда. Да, Ян, наша с тобой обязанность сделать так, чтобы эти люди не боялись вернуться домой. Они должны знать, – Спрогис пристально посмотрел Краушу в глаза и строго повторил, – понимаешь, прокурор, знать, что советский правопорядок обеспечивает им всё предусмотренное нашей конституцией – права и почетные обязанности граждан. Конечно, тут не может быть разгильдяйства: бдительность и еще раз бдительность! Комитету безопасности не убавится работы от того, что мы протянем руку всем, кто за мир, и примем их на родную землю. Работникам безопасности нужно держать ушки на макушке. И тут уж твое дело глядеть: умело вылавливать всю гнусь, какую враги попытаются подпустить к нам вместе с хорошими людьми. Нельзя попусту посылать к следователям людей с печатью подозреваемых или изобличаемых. Так-то, прокурор! Круминьш кому-то стоял поперек горла. Сам Круминьш и те, кто хотел идти по его пути. Найдем же тех, кому это не нравится, и покончим с ними! А тем, кто идет домой, чтобы честно жить и трудиться, – дружескую руку. «Лабак ман даудэн драугу не ка даудзи найдинеку. Драйге граугам року деве, найденекс зобенишь» – «Лучше много друзей, чем много врагов; друг другу подает руку, а враг врагу – меч…» Старики знали, что говорят: мы охотнее протягиваем руку дружбы, чем меч…
Часть вторая
Остров у озера Бабите
Еще недавно у Грачика было такое ощущение, будто от установления тождества отца Шумана с тем, кого Грачик видел на торжественном богослужении в костеле, зависел весь дальнейший ход дела. А теперь он не знал, что с этим открытием делать. Но так или иначе, словно избавившись от занозы, он вздохнул с облегчением и вернулся к изучению дела. В тот же день он был в С.
Ход расследования не радовал. Никто из свидетелей не опознал на снимке, доставленном священником, милиционера и человека в штатском, идущих рядом с Круминьшем. Только одной старушке, которую соседи уютно звали матушкой Альбиной, казалось, будто она видела такую группу – Круминьша и его спутников, – направлявшуюся к берегу реки. Однако уверенно сказать, как было дело, не могла и она. На том и расстались. И только через час, когда Грачик уже собирал бумаги, намереваясь ехать в Ригу, матушка Альбина вернулась, запыхавшаяся от поспешной ходьбы.
Она хорошо владела русским языком, так как, по ее словам, давно-давно, так давно, что Грачика тогда и на свете не было, живала в Петербурге.
– В белошвейках. В белошвейках, каких сейчас и помину нет! Этими вот руками, – она протянула Грачику скрюченные ревматизмом пальцы, – такое белье делала, какого нынче и в глаза-то не видят. Да я и сейчас еще! – Она хвастливо подмигнула. – Ежели бы только не глаза. Плохи глаза стали. Дай-ка ты мне еще раз на ту фотографию посмотреть, с теми тремя. Сдается мне, я кое-что припомнила.
Грачик подал ей фотоснимок и лупу. Матушка Альбина долго рассматривала лица, поворачивала снимок так и этак и, наконец, категорически заявила:
– Видела и этих троих. А только вот милиционер другой был.
Заяви это Альбина при первом осмотре фотографий, Грачик, вероятно, не усомнился бы в ее показании. Но теперь, когда она прибежала после часового отсутствия, у него возникло сомнение в добросовестности поправки. А с подозрением возникло и желание знать, кого старушка успела повидать за этот час. Но, очевидно, сейчас было бесполезно пытаться что-либо узнать. Он распрощался с Альбиной и уехал в Ригу.
Взвесив все обстоятельства дела, он решил повторить с самого начала весь путь, пройденный до него следствием.
А откуда же было и начинать, как не с того острова, где обнаружено тело Круминьша? Ружье и рюкзак за спиной могли помочь Грачику, не привлекая к себе лишнего внимания, обследовать остров.
Пароходишко «Звайгзне», предряхлый и такой обшарпанный, словно его не красили сто лет, медленно поднимался против быстрого течения Лиелупе. По правому борту прошли последние поселения Рижского взморья. Против Дубулты река сделала поворот, и болотная низменность правого берега сменилась темной стеною леса. Скоро вдали засветились яркие огни бумажного комбината в С.
Грачик вынул из кармана схему, сделанную для него в уголовном розыске. Он, кажется, знал ее уже наизусть и мог бы сам с полной точностью нарисовать место происшествия. И все-таки еще и еще раз он просматривал стрелки и приметы, чтобы без ошибки определить нужную группу деревьев и найти «сосну Круминьша», отмеченную зарубкой оперативного работника рижского розыска.
При осмотре места происшествия Грачику не на кого было рассчитывать: по утверждению рижской милиции обитаемы были только две мызы на дальнем от места преступления северо-западном краю острова и одна полуразрушенная мыза в середине острова. Завтра, едва встанет солнце, Грачик начнет осмотр острова. Был уже поздний час, когда «Звайгзне» заерзал своим потертым бортом о пристань у Северной протоки, соединяющей Лиелупе с озером Бабите.
Бабите?..
Почему это название знакомо Грачику?
Да, ведь Кручинин, планируя идиллическое плавание на пресловутом «Луче», собирался тут поохотиться!
Грачик был тут именно на охоте. Как и во всякой другой охоте, успех зависел от того, какие следы охотник обнаружит на острове. Вот где понадобится острота глаза, опыт следователя, настойчивость и тонкость восприятия едва уловимых мелочей, вопреки воле преступника остающихся на его пути к месту преступления и при бегстве от него.
Теоретически Грачик ясно представлял себе путь правонарушителя от замысла к свершению. Это было вороватое движение по извилинам узкой тропы, пролегающей между пропастью сомнений и миражем успеха. А обратный путь преступника от места преступления Грачик представлял себе в виде бегства в кромешной тьме страха перед возмездием.
В том, что преступник-убийца существовал в деле Круминьша, Грачик почти не сомневался. Но личность убийцы в данном случае интересовала Грачика не в качестве главного трофея расследования. Самым важным трофеем охоты, ради которой Грачик шел теперь в сумерках с рюкзаком и ружьем за плечами, была истина. Истина была предметом борьбы между врагами, стремившимися скрыть ее от советского народа, и Грачиком, обязанным ее обнаружить. Истина была трофеем этой борьбы. Важным трофеем. Не только потому, что ее открытие отдавало в руки правосудия преступника-убийцу и это приводило его к заслуженному наказанию. Важнее было то, что открытие истины отдавало на суд народа его врагов, стоявших за спиною физического убийцы Круминьша. Это были враги латвийского народа, СССР, враги всех миролюбивых людей земного шара. Логически рассуждая, Грачик приходил к тому, что преступление, по следам которого он должен был пройти, было хотя и очень маленькой, но неотъемлемой частью тайной войны против СССР, частицей плана разжигания неприязни против лагеря демократии. В самом деле, к чему стремились вдохновители убийства Круминьша? К тому, чтобы помешать прибалтам, заблудившимся в проволочных загонах для «перемещенных», найти дорогу на родную землю. Найти теперь и показать миру преступников значило пригвоздить к позорному столбу подлинных изменников родины, врагов мира – главарей эмиграции. Погоня за преступниками, ради которой Грачик вошел сейчас под сумеречные своды прибрежного бора, была не чем иным, как активной борьбой за мир. Это была война с войной. Грачик, как солдат, шагал с мешком за спиной, с ружьем на плече, устремив настороженный взгляд на неохотно расступавшуюся перед ним полутьму леса. Сошедшиеся плотным строем высокие сосны уступают ему дорогу нехотя, хватают его за плечи, за лицо, иногда больным ударом пытаются остановить или даже заставить повернуть вспять. Неужели же лес против него, против того дела, которому он служит, против правды, которую он ищет? Нет, Грачик не мог воспринимать встающие на его пути препятствия как враждебность. Ведь то был свой, родной лес, почему-то не желавший, чтобы человек с тяжелым мешком за плечами прошел сквозь него к реке. Быть может, он с дружеской грубоватостью великана предупреждал об опасности?
Ночь быстро опускалась на землю. Сквозь вершины леса уже не было видно недавних отсветов заката. Сами вершины эти растворились в черной вышине. Небо легло на лес и густою чернотой просачивалось между стволами к подножьям деревьев.
Женщина со старой мызы
На берегу широкой протоки, ведущей от главного русла Лиелупе к озеру Бабите, царила кромешная тьма. Грачик с трудом отыскал перевоз. Дом паромщика оказался пустым, хотя дверь его и была отворена. Паром стоял привязанный цепью к свае. Грачик присел на пенек. «Не устроиться ли на ночь в доме, – подумал он, – или лечь прямо на берегу под защитой деревьев?»
Его вывел из задумчивости хруст веток под чьими-то шагами. Шаги медленно приближались. Они казались неуверенными, словно человек шел спотыкаясь и поминутно останавливался. Грачик всмотрелся в темноту, откуда слышался этот шум. В промежутках между деревьями, еще более темных, нежели стволы прибрежных берез, показался неясный силуэт человека. Когда очертания его стали определеннее, Грачик понял, что это – женщина. Она медленно подвигалась от дерева к дереву. Грачику показалось, что она придерживается за стволы. Теперь было отчетливо слышно прерывистое дыхание, словно путница не могла отдышаться после быстрой ходьбы или тяжелой работы. Не замечая Грачика, женщина приблизилась к дому перевозчика и что-то проговорила по-латышски. Она несколько раз стукнула в створку распахнутой двери, подождала и, не получив ответа, так же пошатываясь, пошла к берегу и что-то прокричала. К кому она обращалась, Грачик не видел. Но вот опять раздался ее протяжный призыв:
– Лудзу, лудзу! – и через минуту снова: – Лудзу, лудзу![6]
Это звучало необычайно жалобно. Грачик подумал, что выкрикнутые ею перед тем несколько слов должны были быть очень убедительны: вероятно, просьба перевезти ее на ту сторону протоки. Вот опять такое же жалобное «лудзу, лудзу!» огласило погруженную во тьму окрестность реки, и, дробясь долгим эхом, понеслось над ее поверхностью: «Лудзу, лудзу!»
Грачик вышел из скрывавшей его тени и, приблизившись к женщине, спросил, чего она хочет. Несколько мгновений она глядела на него, словно бы не понимая вопроса, потом с трудом ответила:
– Хочу туда… – и показала на противоположный берег протоки. Грачику показалось, что она с трудом подняла руку для этого указания, и рука ее тотчас упала.
Грачик напрасно вглядывался в темноту, пытаясь разобрать, к кому взывает женщина. Он собирался уже присоединить свой голос к ее зову, но тут послышался стук весел в уключинах и журчанье воды, рассекаемой носом лодки. Через несколько минут Грачик следом за женщиной сел в подошедшую лодку. Сильными ударами весел гребец удерживал лодку против быстрого течения, сносившего лодку к озеру. Женщина молчала. Она вся сжалась на корме. Голова ее, словно в отчаянии охваченная руками, почти лежала на коленях. Грачик не мог оставаться равнодушным к горю женщины, очевидно, настолько тяжелому, что она не владела собой. Глядя на смутную массу темного берега, к которому они приближались, Грачик представил себе, как эта несчастная пойдет сейчас куда-то совсем одна, с трудом передвигая плохо слушающиеся – то ли от усталости, то ли от недомогания – ноги.
Днище лодки зашуршало по песку отмели. Грачик протянул руку, чтобы помочь спутнице выйти. Она тяжело оперлась на его руку и дохнула ему в лицо запахом винного перегара. Это было так неожиданно и отвратительно, что Грачик, помимо воли, отдернул руку. Женщина покачнулась и упала на колени в мокрый песок. Грачику стало неловко. Преодолевая отвращение, он снова протянул ей руку и заставил себя вывести женщину на крутой взгорок берега. Подниматься было трудно. Ноги увязали в осыпавшемся мягком песке. С каждым шагом женщина все тяжелее опиралась о руку Грачика, почти повисла на ней.
На гребне береговой дюны было так же темно, как внизу. Идя за женщиной, Грачик то и дело оступался или спотыкался о корни деревьев. Быть может, под действием свежего ветра на реке или потому, что ей удалось взять себя в руки, но теперь его спутница двигалась куда уверенней. По-видимому, она хорошо знала дорогу в глубь острова. По сторонам не было видно никаких других дорог или тропок. Они шли довольно долго. Все вокруг выглядело бездонной чернотой бездной без начала и конца. Наконец, на фоне неба, едва отсвечивающего от таких же темных вершин леса, стали видны очертания высокой крыши. Через несколько десятков шагов путники вышли на небольшую прогалину между опушкой леса и живой изгородью из сирени, окружавшей двухэтажный дом. Он казался необитаемым. Но женщина уверенно толкнула дверь, и скоро в окошке забрезжил слабый свет. Еще через минуту на пороге показалась она сама и коротко бросила в темноту, где стоял Грачик:
– Лудзу!
Это слово звучало теперь совсем по-иному, нежели на берегу.
По кровле уже стучал дождь, и после некоторого колебания Грачик вошел в дом. Здесь при свете керосиновой лампы Грачик рассмотрел свою спутницу: мелкие, ничем не примечательные черты лица, нездоровая одутловатость под глазами, ни ярких красок, ни броских примет. Светлые волосы были острижены, как у большинства местных женщин, – коротко, со следами завивки на концах. Сбросив плащ, женщина осталась в простеньком сером костюме и в клетчатой бумажной блузке. Теперь в этом костюме и в большом спортивном кепи, сдвинутом на затылок, она показалась Грачику несколько более привлекательной. Она сняла кепи и небрежно отбросила его прочь. В жесте было столько залихватской уверенности, что Грачик с интересом проследил полет кепи: оно упало точно на середину комода. При этом Грачик не мог не обратить внимания на своеобразный покрой шапки, на ее «спортивность», подчеркнутую большими клапанами для ушей. Такие кепи Грачик видывал только на картинках иностранных журналов. И материал кепи был необычен: нарочитая грубость ткани сочеталась с элегантностью.
Пока женщина оправляла перед зеркалом волосы, Грачик оглядел комнату. Здесь также не было ничего приметного. Обстановка скромная, почти бедная. Выделялось одно только зеркало, по-видимому, очень старое и дорогое, в резной золоченой раме. На подзеркальнике – несколько баночек и коробка из-под пудры, без крышки, с торчащим наружу непомерно большим и замусоленным пушком.
Тут Грачик заметил, что в зеркале хозяйка дома не столько рассматривает свое отражение, сколько изучает наружность гостя. Покончив с прической, она порывисто повернулась. При этом она локтем сбила с подзеркальника тюбик с кремом. Грачик поспешил его поднять, но женщина, словно в испуге, отняла тюбик и сунула его за коробку с пудрой. Если бы не эта торопливость, Грачик, вероятно, и не обратил бы внимания на этот тюбик. Но тут его внимание задержалось именно на нем. Грачик заметил яркие красные полосы поперек тюбика и даже прочел название крема: «Nivea». Грачик понюхал свои пальцы: от них приторно пахло кремом.
Между тем женщина сказала по-русски, не очень чисто выговаривая слова:
– Вы будете пить чай? – Тут странная усмешка пробежала по ее губам, и она добавила: – А может быть, не чай?
Эта усмешка, в сочетании с вопросом, в тоне которого Грачику послышалось что-то нечистое, снова возбудила в нем давешнюю брезгливость, и он отказался от чая.
Нащупав в темных сенях приставленное к стене ружье, он направился к выходу.
– Большой дождь, – сказала хозяйка и толчком ноги отворила дверь.
Из-за порога потянуло неприветливой сыростью леса, и в сени ворвались косые струи дождя. На миг Грачик приостановился, но, почувствовав прикосновение плеча подошедшей хозяйки, решительно шагнул в темноту. Он был готов к тому, что всю ночь придется продрогнуть в мокром платье. Но еще прежде, чем неожиданно грянувший дождь успел как следует смочить куртку Грачика, ливень перешел в мелкий дождь и скоро прекратился совсем. Над лесом чернело ясное, вызвездившее небо. Где-то очень далеко сверкнула зарница. Всходил месяц. Его слабый блеск проникал сквозь вершины сосен, и на посветлевших лесных прогалинах наметились тени.
Грачик давно сошел с дороги, по которой давеча брел следом за женщиной. Он пробирался теперь на север, где, по его расчетам, должна была быть Лиелупе. Скоро он действительно достиг берега, но это не было главное русло реки, а лишь продолжение той же протоки. Берег был обрывистый, высокий и, судя по тому, как он светился в слабых лучах низкого месяца, песчаный. Далеко под ногами лежало зеркало затихшей воды. Притих и лес. Только падали время от времени скопившиеся на ветвях капли. Они мягко шуршали, словно кто-то осторожно ворошил устилавший землю ковер старой хвои. Грачик долго стоял и глядел в воду. Чем полней он впитывал тишину спокойной реки и уснувшего леса, тем более странной и страшной, несовместимой с радостью жизни, казалась ему причина собственного пребывания здесь. Над головою – это небо, вокруг этот лес, на далеком берегу – огоньки промышленного комбината, а тут… Тут – он для того, чтобы пройти по следам молодого человека, окончившего жизнь в петле…
Самоубийство… Отвратительное слово! От него веет чем-то отжившим, чужим, враждебным. Каким трудным и запутанным должен был быть путь Круминьша, чтобы привести его к такому концу! Какой ненавистью к жизни, граничащей с отвращением к самому себе, должна была быть отравлена его душа, чтобы заставить наложить на себя руки… Самоубийство?.. Да, формально так. Какие у Грачика основания не доверять тому, что написано в предсмертном письме Круминьша? Ведь повторная графическая экспертиза не нашла изъянов в почерке. Правда, рука автора была неустановившейся – случай, когда почерк в характерных своих штрихах часто меняется. Он мог зависеть от душевного состояния субъекта, от степени покоя или торопливости, с которыми он пишет, подчас даже от времени суток: утреннее письмо такого повышенно-нервного человека может быть непохоже на вечернее. О наличии тут подобного случая говорили те немногие образцы, какие удалось раздобыть следствию. Особенно показательна была записная книжка Круминьша – нечто вроде лаконичного дневника, начатого и брошенного. Одни записи в нем были графически совсем непохожи на другие.






