Иосиф Сталин – беспощадный созидатель Соколов Борис
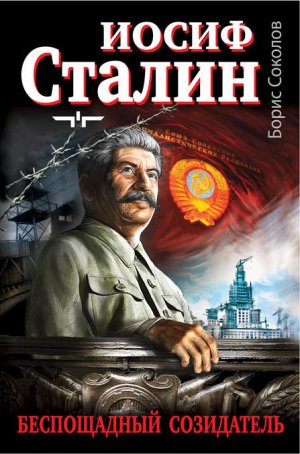
В написанной в эмиграции работе «Преданная революция» (1936–1937) Троцкий утверждал: «Цезаризм, или его буржуазная форма, бонапартизм, выступает на сцену в те моменты истории, когда острая борьба двух лагерей как бы поднимает государственную власть над нацией и обеспечивает ей, на вид, полную независимость от классов, а на самом деле – лишь необходимую свободу для защиты привилегированных. Сталинский режим, который возвышается над политически атомизированным обществом, опирается на полицейский и офицерский корпус и не допускает над собою никакого контроля, представляет явную вариацию бонапартизма, нового, еще не виданного в истории типа. Цезаризм возник в условиях потрясаемого внутренней борьбой рабского общества. Бонапартизм есть одно из политических орудий капиталистического режима, в его критические периоды. Сталинизм есть разновидность той же системы, но на фундаменте рабочего государства, раздираемого антагонизмом между организованной и вооруженной советской аристократией и безоружными трудящимися массами».
Доказательство сталинского бонапартизма Лев Давыдович видел и в предстоящих выборах в Верховный Совет: «В каждой из отдельных республик Советского Союза, в каждой из областей, в каждом районе происходит кровавая чистка, не менее свирепая, чем в Москве, но более анонимная. Под аккомпанемент массовых расстрелов, сметающих с земли поколение революции, идет подготовка «самых демократических в мире» выборов. В действительности, предстоит один из тех плебисцитов, секрет которых так хорошо известен Гитлеру и Геббельсу. Будет ли иметь Сталин за себя 100 %, или «только» 98,5 %, зависит не от населения, а от предписания, данного сверху местным носителям бонапартистской диктатуры. Будущий московский «рейхстаг» имеет своим назначением – это можно предсказать заранее – короновать личную власть Сталина, под именем ли полномочного президента, пожизненного вождя, несменяемого консула или – кто знает? – императора».
Причину торжества бонапартизма в СССР Троцкий видел в «запоздалости мировой революции». По той же причине в европейских странах появился фашизм. Если бы мировая революция произошла вскоре после Октябрьской революции 1917 года в России, то бонапартистский режим в СССР, по мнению Троцкого, вообще не был бы установлен.
Другие вожди революции, в том числе Ленин и Сталин, под бонапартизмом понимали нечто иное, чем Маркс и Троцкий. Они рассматривали бонапартизм как классический вариант захвата власти выдвинутым революцией победоносным полководцем. Такое определение, кстати сказать, исключало из числа бонапартистских установленный Сталиным режим, поскольку он не был полководцем, тем более победоносным, по крайней мере, к моменту захвата власти. Сталин пришел к власти исключительно как партийный аппаратчик. Он понял, что даже те массы, которые поддерживали большевистскую революцию, устали от нестабильности и лишений. Поэтому его противники, вроде Троцкого или Зиновьева, по-прежнему апеллировавшие к массам, были обречены на поражение. Сталин же апеллировал прежде всего к аппарату, партийному и государственному, т. е., другими словами, к бюрократии, чиновничеству.
Именно классического бонапартизма советские вожди опасались с самой победы Октябрьской революции. Первым кандидатом на роль Бонапарта в их глазах являлся бывший подполковник царской армии М.А. Муравьев, успешно командовавший советскими войсками во время выступления Керенского – Краснова на Петроград и последующего успешного похода на Украину в январе 1918 года.
Видный британский троцкист Тэд Грант в книге «Россия: от революции до контрреволюции» (1997) писал, что Троцкий в 1935 году определил сталинский режим как формы пролетарского бонапартизма. Грант также в специальном параграфе «Сталинизм: форма бонапартизма» подчеркивал, что в СССР государство «явно представляет интересы сталинской бюрократии. Но как особая форма бонапартизма, в конечном счете, оно представляет рабочий класс, пока оно защищает национализированные средства производства, планирование и монополию внешней торговли». По его мнению, «сталинская бюрократия являлась не новым правящим классом, как утверждали Дж. Бурнхам, М. Шахтман, М. Джилас, Дж. Куронь и Т. Клифф (в компании с буржуазией и правым крылом лейбористской партии), а паразитической кастой, не играющей никакой роли в процессе производства. Именно по этой причине значительные реформы сверху были исключены». Грант утверждал: «Рабочая демократия, существовавшая при Ленине и Троцком, была заменена бюрократическим режимом Сталина. Хотя политические формы и были совершенно другими, чем в первые годы революции, отношение к национализированной собственности сохранилось».
Тут не вполне понятным остается вопрос, а каким образом противники Сталина собирались строить новое государство без бюрократии. Такое государство на практике быстро скатилось бы к анархии. Или они надеялись на быструю победу мировой революции и отмирание государства? Однако Троцкий уже в конце гражданской войны, после неудачи польского похода Красной Армии, крайне скептически смотрел на возможность скорого наступления мировой революции в Европе, а, следовательно, должен был ориентироваться на более или менее длительное существование советского государства. Реальная разница между Троцким и Сталиным была в том, что первый предполагал сохранение внутрипартийной демократии, допускавшей борьбу и конкуренцию различных платформ и фракций, что должно было, по замыслу Троцкого, ограничить всевластие бюрократии, тогда как второй планировал установить единоличную диктатуру.
Грант следующим образом формулировал отличия между сталинизмом и фашизмом: «Фашистская бюрократия опиралась на частную собственность на средства производства и была наиболее чудовищным выражением упадочного режима. Сталинская бюрократия опиралась на новые отношения собственности, установленные революцией, которые на протяжении целой эпохи демонстрировали колоссальную жизненную силу. До недавнего времени российская бюрократия была вынуждена защищать государственную собственность как источник своей власти и доходов. Этот факт позволял играть ей относительно прогрессивную роль в развитии производительных сил. Однако даже в лучшие периоды она оставалась паразитическим наростом на рабочем государстве, источником бесконечных убытков, коррупции и ошибок в управлении. Она имела все пороки, но никаких добродетелей правящего класса». Грант признавал, что после смерти Сталина «были проведены большие реформы, которые привели к росту жизненных стандартов, улучшению социального обслуживания и так далее. Но все это время жесткий контроль оставался в руках бюрократии. Такие реформы всегда проводились сверху и никоим образом не модифицировали отношения между рабочим классом и правящей кастой. Не имелось никаких элементов рабочей демократии».
Несмотря на то, что Троцкий и его последователи, вроде Т. Гранта, старались поместить советский бонапартизм в прокрустово ложе марксистских схем, они верно указывали на главную опору Сталина в виде им же созданной и от него же зависимой бюрократии, которая постепенно оттесняла старых большевиков и выходцев из других партий от реальных рычагов власти.
Для председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам единственным реальным путем к власти оставался путь военного переворота. Троцкий был по-прежнему популярен среди командного состава и рядовых красноармейцев. В его руках был контроль над аппаратом Красной Армии. Технически вооруженный захват власти после смерти Ленина был бы для Троцкого достаточно простой операцией. Многие сторонники искушали Льва Давыдовича этой заманчивой перспективой. Но Троцкий мысль о перевороте отверг. Чем бы в таком случае он отличался от какого-нибудь латиноамериканского диктатора или только что, в 1922 году, осуществившего успешный «поход на Рим» вождя итальянских фашистов Бенито Муссолини? Троцкому нужна была не просто власть в России, а власть для осуществления определенной идеи – мировой пролетарской революции. Россия нужна была как плацдарм, но главным образом – как пример для такой революции. В экспорт мировой революции на штыках Красной Армии Лев Давыдович после неудачи польского похода не верил. Но в утопию самой мировой революции продолжал, в отличие от Сталина, свято верить до своего последнего дня.
Между тем, триумвират Сталин – Зиновьев – Каменев действовал. Троцкий еще при жизни Ленина почувствовал себя в Политбюро в полной изоляции. Однажды на заседании Сталин так прямо и сказал ему: «Разве вы не видите, что вы в «обруче» (так на партийном жаргоне называли триумвират Сталина, Зиновьева и Каменева. – Б. С.)? Ваши фокусы не пройдут, вы в меньшинстве, в единственном числе». Кроме того, в последние месяцы жизни Ленина и в решающий период в январе-феврале 1924 года Лев Давыдович был тяжело болен, страдал эпилепсией и не мог поэтому активно участвовать в политической борьбе. Позднее он все же попробовал обратиться к партийной массе, но остался в меньшинстве. Идея мировой революции не вдохновляла партийцев, после гражданской войны мечтавших о мирном существовании и возможности спокойно насладиться предоставленными материальными благами, с началом нэпа более обильными, чем во времена военного коммунизма. А со смещением Троцкого в январе 1925 года с поста председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам для него исчезла даже теоретическая возможность военного переворота. Впрочем, справедливости ради замечу, что такой возможности он никогда не рассматривал, хотя вроде бы кое-кто из соратников и пытался подбить его на переворот. Даже находясь в эмиграции, Троцкий надеялся, что Сталина низвергнет широкое восстание недовольных масс, наподобие революции 1917 года, но отнюдь не выступление руководителей Красной Армии.
Идея бонапартистского переворота родилась у одного из ближайших соратников Троцкого Николая Ивановича Муралова, командующего Московским военным округом с марта 1921 по май 1924 г. Именно о нем говорил Маяковский, когда описывал в поэме «Хорошо» похороны Ленина:
- И вот издалека, оттуда, из алого
- В мороз, в караул умолкнувший наш
- Чей-то голос, как будто Муралова,
- Скомандовал: «Шагом марш».
В мемуарах Троцкий упомянул о своей «неразрывной боевой и политической дружбе» с Мураловым. Одна из современниц вспоминала: «В день похорон я пришла к Мураловым под вечер. В полутемной столовой из угла в угол ходил Николай Иванович, негромко повторяя: «Что нас ждет? Это очень страшно». Я опешила и сказала: «Что вы, Николай Иванович, ведь у Ленина есть достойный наследник». Николай Иванович зло посмотрел на меня и сказал: «Не говори о том, чего не знаешь. Страшный человек. Что будет со страной! Что будет со всеми нами!».
Когда в 1923 году во время болезни В.И. Ленина ставший генсеком И.С. Сталин начал активно захватывать власть, Муралов пришел к Троцкому и предложил ему силой сместить с поста и расстрелять Сталина, Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева и провозгласить вождем Троцкого. В войсках округа Муралов был популярен, тем более что он создавал Московский округ в 1917–1919 гг., когда был его первым командующим. Солдаты округа распевали: «Нам не надо генералов, у нас есть солдат Муралов». Популярность Муралова и авторитет Троцкого гарантировали успех переворота. Красная Армия не выступила бы против своего вождя, а наоборот, поддержала бы его, а других, сравнимых с ней по мощи вооруженных сил в стране не было. Однако Троцкий не позволил командующему войсками Московского военного округа осуществить этот план. 27 декабря 1923 года начальник Политического управления РККА В.А. Антонов-Овсеенко написал в Политбюро письмо с угрозой «обратиться к крестьянским массам, одетым в красноармейские шинели, и призвать к порядку зарвавшихся вождей». Он признал, что «среди военных коммунистов уже ходят разговоры о том, что нужно поддержать, как один, т. Троцкого». За это он уже в январе 1924 г. поплатился снятием с поста, а в 1938 г. – расстрелом.
В течение 1924 года Троцкий постепенно потерял контроль над армией. И прежде всего уже в мае из Московского военного округа был удален Н.И. Муралов. Но ранее, на протяжении 1923 года и в первые месяцы 1924 г., пока во главе МВО оставался Муралов, у Троцкого была возможность совершить военный переворот. Но Лев Давыдович от этой возможности вполне сознательно отказался. Почему?
Троцкий мыслил исключительно в идеологических категориях мировой коммунистической (пролетарской) революции. Для того чтобы продолжать дело мировой революции, ему надо было стать главным вождем партии большевиков, полноправным членом которой он стал только с середины 1917 г. Но борьба на этом фронте была для Троцкого заведомо проигрышной. Ведь не только весь партийный аппарат контролировался Сталиным, но и среди старых партийцев преобладало отношение к Троцкому как к выскочке, который и большевиком стал в 1917 г. только по конъюнктурным соображениям. Однако Лев Давыдович не собирался захватывать власть путем военного переворота и становиться бонапартом-диктатором. Ведь тогда бы он ничем не отличался от какого-нибудь латиноамериканского каудильо. Это означало бы конец русской революции и крах всех надежд на мировую революцию. А Троцкому власть нужна была не сама по себе, а лишь для того, чтобы иметь возможность проводить определенные идеи, причем в мировом масштабе. И в этом отношении он безнадежно проигрывал Сталину, для которого власть представляла безусловную ценность сама по себе. Троцкий вспоминал: «В январе 1925 г. я был освобожден от обязанностей народного комиссара по военным делам. Больше всего боялись… моей связи с армией. Я уступил пост без боя… чтобы вырвать у противников орудие инсинуаций насчет моих военных замыслов».
Троцкий был едва ли не единственным из советских политиков, кто имел реальную возможность осуществить бонапартистский переворот, но сознательно отказался от этой возможности, исходя из высших интересов революции, как он их понимал.
Между прочим, Зиновьев и Каменев тогда, в январе 1925 года, предложили вместо Троцкого назначить главой военного ведомства Сталина, очевидно, надеясь тем самым ослабить его влияние на партаппарат. Они прекрасно понимали, что Коба не пользуется популярностью в Красной Армии и использовать ее в борьбе за власть в обозримом будущем не сможет. Однако Сталин превосходно понимал все выгоды поста генсека, и честь стать председателем Реввоенсовета и наркомвоенмором решительно отверг. Триумвират фактически распался. Укрепив свои позиции в Политбюро и ЦК, Сталин больше не нуждался в Зиновьеве и Каменеве.
Здесь проявилось одно из важнейших качеств Сталина, которое помогло ему в борьбе за власть, – постепенность. Он никогда не форсировал события, заключая блок с союзниками против того, кого считал наиболее опасным противником в данное время. Затем постепенно укреплял Политбюро и ЦК верными людьми, не игравшими никакой самостоятельной политической роли, чтобы в подходящий момент отказаться от услуг союзников, мнивших себя самостоятельными политиками. При этом Сталин искусно устраивал дело так, что инициатива разрыва исходила от его прежних союзников. Сначала Зиновьев и Каменев, почувствовав, что Сталин оттеснил их на второй план, затеяли авантюру с изначально провальной ленинградской «новой оппозицией». Затем Бухарин и его сторонники выступили против начатой без их согласия «сплошной коллективизации», но легко оказались биты, ибо не имели поддержки партийных масс. Аппарат рассчитывал, что коллективизация только укрепит его позиции. А рядовые партийцы – в основном из рабочих и крестьян-бедняков ничего не имели против раскулачивания, рассчитывая, что и им от этой акции что-то перепадет. Ведь коллективизация предпринималась под флагом обеспечения продовольствием городов и преодоления нищеты в деревне.
31 октября 1925 года, в результате неудачной полостной операции умер преемник Троцкого на посту наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета, кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) Михаил Васильевич Фрунзе. Его смерть породила много слухов о том, что она была неслучайна, а явилась результатом целенаправленных действий Сталина, стремившегося избавиться от опасного политического конкурента.
Надежда Владимировна Брусилова, жена генерала Алексея Алексеевича Брусилова, так прокомментировала смерть Фрунзе в своем дневнике «Мои впечатления»:
«Сегодня утром умер М.В. Фрунзе. Этого давно все ждали, так как болезнь его, по отзывам врачей, была очень серьезна. (Его на днях оперировали очень неудачно). Алексей Алексеевич очень жалел этого человека, так как много раз я слышала от него, что он ему очень симпатичен…
Сегодня звонили из газеты «Правда», прося отзыва Алексея Алексеевича о военных заслугах Фрунзе. Он велел мне ответить, что не может касаться этой стороны дела, совершенно не зная ее, так как в гражданской войне не участвовал, но что очень сожалеет о кончине этого незаурядного человека.
И действительно, вся деятельность Фрунзе была в Туркестане и на юге России, и совместно с ним мой муж никогда не служил. Следить издали или по газетам трудно, тем более, что все эти годы Алексей Алексеевич вначале от раны, а потом от общего состояния много болел и по этим вопросам ничего не читал. Не мог же он сообщить, что слышал о том, будто Фрунзе и Котовский, оба бессарабцы, мечтали отделить Украину, соединить ее с Бессарабией и устроить там правление без Москвы. За что те, кому это не нравилось, одного зарезали, другого убили. И не мог Алексей Алексеевич сообщить в газеты, что о некоторых вопросах с полуслова понимал дело и сочувствовал и одобрял некоторые их планы. (Всего один раз Алексей Алексеевич виделся с Котовским без меня, в Манеже кавалерийской школы. Мне в тот же день говорил об этом один курсант. Я спросила мужа, о чем он с ним говорил, и он очень загадочно улыбнулся: «Почему-то он мне очень хвалил Фрунзе, рассказывал о своей южной кавалерии, о «червонном казачестве». Он толковый, этот бывший разбойник, а я как бывший генерал, вполне его планы одобряю. Ведь эти места Волынской, Подольской губерний, границы Бессарабии, мои дорогие места по воспоминаниям. Но все это еще настолько туманно, что лучше об этом не говорить».) Несколько лет назад, когда по делам наркомата В.П. Засецкий (с семьей В.П. Засецкого мы были очень хороши, но ввиду своего выезда за границу, они несколько отдалились от нас. Мы это хорошо понимали. Алексей Алексеевич говорил: «Не надо им мешать в их хлопотах!») ездил на юг, то вернувшись говорил нам, что слышал много хорошего о Фрунзе и даже видел его, и что он очень хорошо относится к бывшим военным и что он просил передать Алексею Алексеевичу от него поклон. Затем, полтора года назад, когда понадобилось место инспектора кавалерии для Буденного, наконец было дано согласие, после нескольких просьб Алексея Алексеевича об отставке, дать ее ему. Вместо него был назначен Буденный, и в то же время, вместо Троцкого, был назначен Фрунзе…
Когда Алексею Алексеевичу назначили пенсию, то Фрунзе так устроил, что она идет через военное ведомство и будто он не в отставке, а «состоит при Р.В.С. по особо важным поручениям». Когда, вернувшись из санатории «Узкое», Алексей Алексеевич поехал к Фрунзе и спросил его, зачем он это сделал, то он ему ответил:
Вам несравненно будет удобнее быть как бы на службе. Никаких поручений мы вам давать не будем, а в случае каких-либо придирок или неприятностей мы вас в обиду не дадим. Да притом вы можете еще многое сделать, сказал он, понизив голос и внимательно посмотрев мне в глаза, говорил мне тогда Ал. Ал., прося не повторять даже своим этих загадочных слов, которые слышал он от Фрунзе.
И во многих житейских затруднениях нынешнего времени Фрунзе сдержал слово и поддерживал Алексея Алексеевича, чаще всего, когда ему приходилось хлопотать о других. Когда я заболела, и нам стало необходимо ехать за границу лечиться, то Фрунзе все для нас устроил и помог во всех отношениях, даже сестре моей Елене Владимировне дали возможность с нами ехать. Мужа моего отпустили за границу на лечение в Карлсбад, на лечение под личное поручительство Фрунзе перед ЦИКом. Фрунзе спросил тогда Ал. Ал.: «Вы даете мне слово, что вернетесь и едете только для лечения?» Мой муж ответил утвердительно, и дело было сделано. Ал. Ал. говорил мне тогда: «Если он мне поверил, значит, он сам умеет держать слово или хотя бы понимает всю силу его!..»
А затем и ранее и позднее от многих военных и юристов мы много раз слышали, что отношение Фрунзе по вопросу пенсий бывших военных и во многих других вопросах достойно всякого уважения и одобрения.
Вот все, что Алексей Алексеевич знает о М.В. Фрунзе. Но мы с сестрой, лично не зная умершего, подали сегодня частицу об упокоении души «новопреставленного Михаила». Он был коммунист и, следовательно, ни во что не верил, и ему здесь, на земле, не нравились наши христианские обряды, таинства и вероисповедания, но кто знает, может быть там, за гробом, проснувшись, он поймет свою ошибку и будет нам благодарен…»
Супруги Брусиловы, как и многие другие, кого большевики считали «внутренними эмигрантами», равно как и большинство настоящих эмигрантов, мечтали о том, чтобы явился какой-нибудь Бонапарт и их сверг, восстановив историческую Россию, пусть даже без императора, но зато уж точно без Третьего Интернационала. И видели потенциального Бонапарта в любом понравившемся им военном. Фрунзе и Котовский были среди них, хотя ни у того, ни у другого бонапартистских планов не было. Котовский вообще играл вспомогательную роль и был по-настоящему популярен лишь среди бойцов своей кавбригады. Алексей Алексеевич и Надежда Владимировна прислушивались к каждому их слову, ища за ними какие-то скрытые смыслы, которых на самом деле не было. Так, слова Фрунзе Брусилову при проводах на фактическую пенсию – должность для особых поручений при Реввоенсовете, что он, Брусилов, может еще много сделать – это просто дежурная вежливая фраза. При этом и Фрунзе, и другие советские руководители были заинтересованы в имени прославленного генерала, чтобы можно было при случае заявить, что он не коротает время полным пенсионером, отставленным от дел, а, дескать, работает в Реввоенсовете Республики.
Точно так же слухи о том, что Фрунзе и Котовский собирались отделить Украину от СССР и соединить ее с Бессарабией, воспринимались четой Брусиловых как доказательство их стремлений создать жизнеспособное антикоммунистическое государство, к которому постепенно присоединятся остальные части бывшей Российской империи. В действительности, слухи о том, будто Фрунзе с Котовским могут отделить Украину, очевидно, отражали реально существовавший в Кремле план по присоединению Бессарабии. Для этого войска Котовского и, вероятно, Фрунзе, командовавшего тогда войсками Украины и Крыма, должны были временно «выйти из повиновения», быстро, без официального объявления войны, разбить румынскую королевскую армию и, благополучно присоединив Бессарабию к Украине, вернуться в состав Красной Армии и СССР. Но Алексей Алексеевич и Надежда Владимировна готовы были, ради воплощения своих мечтаний, простить Фрунзе и Котовскому и атеизм, и борьбу против царского правительства. А стоило Котовскому похвалить Фрунзе, а заодно и своих «червонных казаков», как генералу Брусилову пригрезилось, что это – подготовка к походу на Москву, и он даже намекнул, что планы Котовского и Фрунзе одобряет. И хорошее отношение Фрунзе к бывшим офицерам и генералам царской армии, служившим у большевиков «военспецами», также истолковывалось как стремление восстановить «национальную» армию. Между тем, и Троцкий, и Фрунзе рассматривали привлечение в Красную Армию царских офицеров как временную необходимость, пока не подрастут свои, «пролетарские» командные кадры. Сразу после окончания гражданской войны царских офицеров и генералов стали массово увольнять с командных должностей в войсках, а с середины 20-х – вообще из армии, оставляя, в лучшем случае, преподавателями академий, институтов и военных школ.
Что же касается Фрунзе, то, вопреки распространенному мнению, на роковой операции настаивали не Сталин и Политбюро, а прежде всего сам Михаил Васильевич. Вот что писал Фрунзе своей жене Софье Алексеевне в Ялту: «Я все еще в больнице. В субботу будет новый консилиум. Боюсь, как бы не отказали в операции». «На консилиуме было решено операцию делать». Михаил Васильевич пишет жене, что этим решением удовлетворен. И ни слова о том, что хотел бы отказаться от операции. Наоборот, он полон оптимизма:
«Ну вот, наконец, подошел и конец моим испытаниям! Завтра (фактически переезд состоялся 28.10.1925. – Авт.) утром я переезжаю в Солдатенковскую больницу, а послезавтра (в четверг) будет и операция. Когда ты получишь это письмо, вероятно, в твоих руках уже будет телеграмма, извещающая о ее результатах. Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее, оба консилиума постановили ее делать. Лично этим решением удовлетворен. Пусть же раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть, и попытаются наметить настоящее лечение. У меня лично все чаще и чаще мелькает мысль, что ничего серьезного нет, ибо, в противном случае, как-то трудно объяснить факт моей быстрой поправки после отдыха и лечения. Ну, уж теперь нужно делать… После операции думаю по-прежнему недельки на две приехать к вам. Твои письма получил. Читал их, особенно второе – большое, прямо с мукой. Что это действительно навалились на тебя все болезни? Их так много, что прямо не верится в возможность выздоровления. Особенно если ты, не успев начать дышать, уже занимаешься устройством всяких других дел. Надо попробовать тебе серьезно взяться за лечение. Для этого надо прежде всего взять себя в руки. А то у нас все как-то идет хуже-хуже. От твоих забот о детях, выходит, хуже тебе, а в конечном счете и им. Мне как-то пришлось услышать про нас такую фразу: «Семья Фрунзе какая-то трагическая… Все больны, и на всех сыплются все несчастия!..» И правда, мы представляем какой-то непрерывный, сплошной лазарет. Надо попытаться изменить это все решительно. Я за это дело взялся. Надо сделать и тебе».
Фрунзе ничего не пишет ни о каком-либо принуждении, ни о давлении со стороны врачей. Он сам надеется как можно скорее сделать операцию, чтобы можно было полноценно жить и работать.
А вот что говорилось в протоколе вскрытия, которое после смерти Фрунзе провел известный хирург А.И. Абрикосов:
«Анатомический диагноз. Зажившая круглая язва двенадцатиперстной кишки с резко выраженным рубцовым уплотнением серрозного покрова соответственно местоположению упомянутой язвы. Поверхностные изъязвления различной давности выхода желудка и верхней части двенадцатиперстной кишки, фиброзно-пластический перитонит в области выхода желудка, области печеночно-двенадцатиперстной связки, области слепой кишки и области рубца старой операционной раны правой подвздошной области. Острое гнойное воспаление брюшины.
Паренхиматозное перерождение мышцы сердца, печени, почек.
Ненормально большая сохранившаяся зобная железа. Недоразвитие (гипоплазия) аорты и крупных артериальных стволов. Рубец стенки живота в правой подвздошной области и отсутствие червеобразного отростка после бывшей операции. (1916 г.)
Заключение. Заболевание Михаила Васильевича Фрунзе, как показало вскрытие, заключалось, с одной стороны, в наличии круглой язвы двенадцатиперстной кишки, подвергшейся рубцеванию и повлекшей за собой развитие рубцовых разрастаний вокруг двенадцатиперстной кишки, выхода желудка и желчного пузыря; с другой стороны, в качестве последствий от бывшей в 1916 году операции – удаления червеобразного отростка, имелся старый воспалительный процесс в брюшной полости. Операция, предпринятая 29 октября 1925 года по поводу язвы двенадцатиперстной кишки, вызвала обострение имевшего место хронического воспалительного процесса, что повлекло за собой острый упадок сердечной деятельности и смертельный исход. Обнаруженные при вскрытии недоразвитие аорты и артерий, а также сохранившаяся зобная железа являются основой для предположения о нестойкости организма по отношению к наркозу и в смысле плохой сопротивляемости его по отношению к инфекции.
Наблюдавшиеся в последнее время кровотечения из желудочно-кишечного тракта объясняются поверхностными изъязвлениями (эрозиями), обнаруженными в желудке и двенадцатиперстной кишке и являющимися результатом упомянутых выше рубцовых разрастаний».
Практически Михаила Васильевича обрекли на смерть скрытые патологии, проявившиеся в ходе операции, которые выявить ранее не представлялось возможным. Тут и неудачная операция по удалению аппендицита в 1916 году, и больное сердце, и увеличенный зоб. Объективно говоря, операция Фрунзе требовалась, так как уплотнения, возникшие в результате язвы, можно было ликвидировать только хирургическим путем. Роковым же стал застарелый локальный перитонит, вызвавший после операции острое гнойное воспаление брюшины, что вызвало повышенную нагрузку на сердце и его остановку. Ни перитонит, ни врожденное сужение сердечных артерий и аорты заранее обнаружить медицина того времени не могла. Спасти Фрунзе могли бы только антибиотики, но их тогда не было. Если бы операции не было, то Фрунзе, вероятно, прожил бы еще несколько лет, постоянно страдая от желудочных болей и обладая очень ограниченной работоспособностью. Очевидно, ему пришлось бы выйти в отставку и вести размеренную жизнь пенсионера. Но о такой судьбе Фрунзе даже не помышлял, потому и настаивал на скорейшей операции, не подозревая, что она будет смертельной. Однако ее трагический исход заранее прогнозировать не могли ни Сталин, ни врачи, проводившие консилиум.
«Бывшие» думали и надеялись, что такие большевики, как Фрунзе и Котовский (потом в этом списке стал фигурировать Тухачевский), могут «переродиться» и свергнут наследников Ленина, вернув Россию на путь здорового национального развития.
Уже в июне 1924 г. Фрунзе был сделан кандидатом в члены Политбюро – единственным из членов Реввоенсовета, кроме Троцкого. Было очевидно, что именно его готовят Троцкому на смену.
Писатель Борис Пильняк в «Повести непогашенной луны» отразил широко распространенную версию о том, что Фрунзе был убит по приказу Сталина, причем убийство было замаскировано под неудачную хирургическую операцию. Повести было предпослано посвящение: «Воронскому, скорбно и дружески». А.К. Воронский был другом Пильняка и другом и земляком Фрунзе, а также видным марксистским литературным критиком, близким к Троцкому. Версию о причастности Сталина к смерти Фрунзе было решено использовать в борьбе против генсека и его союзников. Повесть была опубликована в 1926 г. в журнале «Новый мир». Номер журнала с повестью был вскоре после выхода конфискован и изъят из библиотек и даже по возможности – у подписчиков. В запретительном постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 мая 1926 года «О № 5 «Нового мира» говорилось:
«…а) Признавая, что «Повесть о непогашенной луне» (так! – Авт.) Пильняка является злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии, подтвердить изъятие пятой книги «Нового мира»… в) Предложить тов. Воронскому письмом в редакцию «Нового мира» отказаться от посвящения Пильняка с соответствующей мотивировкой, которая должна быть согласована с Секретариатом ЦК… Запретить какую-либо перепечатку или переиздание рассказа Пильняка «Повесть о непогашенной луне»…».
В предисловии, как будто призванном усыпить бдительность цензоров, читателю ясно давалось понять, что прототип главного героя – Фрунзе:
«Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М.В. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, видел его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю, – и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоена. – Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц. Москва. 28 янв. 1926 г. Бор. Пильняк».
Сталин не хуже Пильняка понимал, что Фрунзе никаким кандидатом в бонапарты не являлся и никакой опасности для его власти не представлял. Иначе бы не стал исподволь готовить его в преемники Троцкому в Реввоенсовете. Но для всей антисталинской оппозиции (не только троцкистской, но и любой другой, включая ту, что возникла после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде партии) Фрунзе стал жертвой Сталина, а для того, чтобы как-то мотивировать это «убийство», подспудно подразумевалось, что у него могли быть бонапартистские замыслы. На самом деле Сталин никогда не рассматривал Фрунзе как угрозу для своей власти. Михаил Васильевич политических амбиций никогда не выказывал.
В чисто военной иерархии он стоял ниже С.С. Каменева, М.Н. Тухачевского и А.И. Егорова, которые в гражданскую войну командовали более крупными и важными фронтами. Его выдвижение на пост главы военного ведомства обосновывалось главным образом тем обстоятельством, что он был старым большевиком. Большой популярности в армии у него не было. Не было и лично преданных ему дивизий, которые он сам формировал и во главе которых сражался. Поэтому никакого военного переворота с его стороны опасаться не стоило. Зато в послесталинской традиции было принято противопоставлять «хорошего» Фрунзе «плохому» Сталину, хотя в реальности такого противостояния никогда не было. Фрунзе ни разу не критиковал Сталина и не имел с ним конфликтов, не состоял ни в одной из оппозиционных группировок. Он был одним из первых мнимых бонапартов в советской традиции.
4 января 1931 года с просьбой о помощи обратился к Сталину Борис Пильняк. Повод для деятелей культуры был вполне традиционен: ОГПУ не выпускало подвергавшегося резкой критике в печати писателя за границу. Пильняк писал:
«Глубокоуважаемый товарищ Сталин.
Я обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Если бы у Вас нашлось время принять меня, я был бы счастлив гораздо убедительнее сказать о том, ради чего я пишу.
Позвольте сказать первым делом, что решающе, навсегда я связываю свою жизнь и свою работу с нашей революцией, считая себя революционным писателем и полагая, что и мои кирпичики есть в нашем строительстве. Вне революции я не вижу своей судьбы.
В моей писательской судьбе множество ошибок. Я знаю их лучше, чем кто-либо. Оправдываться в них надо только делами. Должен все же сказать, как это ни парадоксально, – обдумывая свои ошибки, очень часто наедине с самим собою, я видел, что многие мои ошибки вытекали из убеждения, что писателем революции может быть лишь тот, кто искренен и правдив с революцией: мне казалось, что, если мне дано право нести великую честь советского писателя, то ко мне есть и доверие.
Последней моей ошибкой (моей и ВОКСа) было напечатание «Красного Дерева». Наша пресса обрушилась на мою голову негодованием. Я понес кары. Ошибки своей я не отрицал и считал, что исправлением моих ошибок должны быть не только декларативные письма в редакции, но дела: с величайшим трудом (должно быть, меня боялись) я нашел издателя и напечатал мой роман «Волга впадает в Каспийское море» (который ныне переведен и переводится на восемь иностранных языков и немецкий перевод которого я сейчас посылаю Вам), – я поехал в Среднюю Азию и печатал в «Известиях ЦИК» очерки о Таджикистане, последнее, что я напечатал, в связи с процессом вредителей, я прилагаю к этому письму и прошу прочитать хотя бы подчеркнутое красным карандашом. Содержание этих вещей я считал исправлением моих писательских ошибок, – этими вещами я хотел разрушить то недоверие, которое возникло к моему имени после печатной кампании против «Красного Дерева».
Мои книги переводятся от Японии до Америки, и мое имя там известно. Ошибка «Красного Дерева» комментировалась не только прессою на русском языке, но западноевропейской, американской и даже японской. Буржуазная пресса пыталась изобразить меня мучеником, – я ответил на это «мученичество» письмом в европейской прессе и вещами, указанными выше. Но мне казалось, что это мученичество можно было бы использовать и политически, что был бы неплохой эффект, если бы этот «замученный» писатель в здравом теле и уме, неплохо одетый и грамотный не меньше писателей европейских, появился б на литературных улицах Европы и САСШ (уже в течение трех лет я имею от американских писателей приглашение в САСШ, а в Европе я оказался бы принятым, как равный, писателями, кроме пролетарских, порядка Стефана Цвейга, Ромена Роллана, Шоу), – если б этот писатель заявил хотя б о том, что он гордится историей последних лет своей страны и убежден, что законы этой истории будут и есть уже перестраивающими мир, – это было бы политически значимо. Мне казалось, что именно для того, чтобы окончательно исправить свои ошибки и использовать мое положение для революции, мне следовало бы съездить за границу, тем паче, что это было у меня в обычае, так как с 1921 года, когда я впервые был за границей, я переезжал советские границы четырнадцать раз, а сейчас не был там с 1928 года.
Кроме этого, у меня есть другие причины, по которым мне надо ехать за границу.
Полупричиной я считаю то обстоятельство, что, не приехав на место, я никак не могу наладить моих переводно-литературных дел, когда переводчики меня безбожно обворовывают, – хотя эта полупричина дала бы Госбанку в год тысячу-полторы валютных рублей, если бы я наладил получение гонораров.
Главная причина – следующая. Годы уходят, и время не ждет, и с дней десятилетия годовщины Октября я задумал написать роман, к которому я подхожу, как к первой моей большой и настоящей работе. Мой писательский возраст и мои ощущения говорят мне, что мне пора взяться за большое полотно и силы во мне для него найдутся. Этот роман посвящен последним полуторадесятилетиям истории земного шара, – и я хочу противопоставить нашу, делаемую, строимую, созидаемую историю всей остальной истории земного шара, текущей, проходящей, происходящей, умирающей, – ведь на самом деле перепластование последних лет истории гигантско, – и на самом деле историю перестраиваем мы. Сюжетная сторона этого романа уже продумана, уже лежит в моей голове, – место действия этого романа – СССР и САСШ, Азия и Европа, – Азию и Европу я представляю, в САСШ я не был, – у меня не хватает знаний, а роман я должен сделать со всем напряжением.
Эти мои соображения я излагал ряду моих товарищей-партийцев, и по совету с ними я подал ходатайство о разрешении мне выезда за границу, месяцев на три – на шесть. Валюты я не прошу, так как все же часть моих переводов оплачена.
В разрешении выехать за границу мне отказано.
Почему – я не знаю. Неужели мне надо предположить, что обо мне думают, что я убегу, что ли, – но ведь это же чепуха! Не могу же я убежать от самого себя и от своей писательской судьбы, от революции, от своей страны, от языка, от жены, от детей!?
Надо предположить, что это есть продолжение недоверия ко мне, – или меня наказывают? Я оказался в положении мальчишки, потому что, после разговоров с товарищами, я был убежден в получении паспорта, – озаботился в связи с этим об иностранных визах, переговорил с отделом печати НКИД, с ВОКСом о моих маршрутах и о предполагаемых делах и выступлениях за границей. Если это есть наказание, то оно очень жестоко.
Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы, что, если Вы мне поможете выехать за границу и работать, я сторицей отработаю Ваше доверие. Я могу поехать за границу только лишь революционным писателем. Я напишу нужную вещь.
Позвольте в заключение сказать о моем теперешнем состоянии. Я говорил о моих ошибках и о том методе, который я избрал, чтобы их исправить. Всем сердцем и всеми помыслами я хочу быть с революцией, и очень часто у меня за последний год возникает ощущение, что кто-то меня отталкивает от нее, – я окружен недоверием, в окружении которого работать нельзя, – если бы Вы знали хотя б о том, сколько я обивал порог «Известий», чтобы напечатать ту статью, которую я шлю Вам, и обиваю до сих пор, чтобы допечатать мои таджикские очерки, которые приняты, но для которых катастрофически отсутствует в газете место.
Не ходить же мне ко всем и не говорить: верьте мне.
Но Вас я могу просить об этом, – и я прошу Вас мне помочь.
С величайшим нетерпением жду Вашего ответа.
Позвольте пожелать Вам всего хорошего».
Разумеется, Сталин ничему из того, в чем клялся Пильняк, не поверил. Иосиф Виссарионович был убежден, что осторожно помянутая писателем «полупричина» – желание наладить положение с переводами и получить причитающиеся гонорары – и есть подлинная причина его стремления на Запад. Сталин же Пильняка не простил и вполне справедливо считал своим врагом. И отнюдь не из-за «Красного дерева», старательно поминаемого Пильняком в письме, а из-за «Повести непогашенной луны».
В тот раз Пильняка после покаянного письма в тот же «Новый мир» как будто простили, постановлением Политбюро от 24 января 1927 года сняв запрет на сотрудничество в журналах и на публикацию пильняковских сочинений. Однако дело было в том, какие именно слухи отразил Пильняк в злополучной повести. Это были слухи о том, что глава военного ведомства старый большевик и бывший земгусар М.В. Фрунзе под давлением Сталина должен был согласиться на роковую операцию язвы желудка, причем Иосиф Виссарионович был заранее уверен, что Михаил Васильевич этой операции не перенесет. Эти слухи вряд ли соответствовали истине. В конце концов, вопрос об операции решал консилиум врачей, и Политбюро, обязав Фрунзе пойти на операцию, лишь выполняло рекомендации профессуры. Да и не было у Сталина серьезных мотивов убирать Фрунзе, к Троцкому никаких симпатий не питавшего и в близости ни к кому из потенциальных соперников в Политбюро не замеченного. Для Сталина в случае с «Повестью непогашенной луны» важнее было другое. Писатель понял, что Сталин мог так поступить с одним из ближайших соратников по партии. Значит, вождь способен уничтожить любого, кто станет на его пути. В этом своем прогнозе Пильняк не ошибся, но и Сталин, естественно, собирался рано или поздно перевести такого человека из разряда живых в разряд мертвых. Хотя, впрочем, Иосиф Виссарионович, быть может, допускал возможность, что Пильняк предпочтет остаться в «эмигрантском далеко». И не видел в этом ничего особенно страшного, полагая, что иностранной публике он интересен только как революционный писатель из России, рискующий критиковать неприглядные стороны социалистической действительности. В качестве писателя-эмигранта его очень быстро забудут и на родине, и за ее пределами.
Но пока что Сталин сделал вид, что внял аргументам Пильняка. И предложил членам Политбюро выезд писателя за границу разрешить. Самому же Пильняку Сталин 7 января 1931 года писал:
«Уважаемый тов. Пильняк!
Письмо Ваше от 4.I. получил. Проверка показала, что органы надзора не имеют возражений против Вашего выезда за границу. Были у них, оказывается, колебания, но потом они отпали. Стало быть, Ваш выезд за границу можно считать в этом отношении обеспеченным.
Всего хорошего».
В тот момент вождь, очевидно, не сомневался, что Пильняк благополучно вернется назад, и его заграничное путешествие можно будет разрекламировать как образец терпимости Советской власти и ее заботы о литературных кадрах. Вот, хоть и подвергали не раз Пильняка суровой критике (последней – в 1929 году, в связи с «Красным деревом»), но беспрепятственно выпустили в Европу. А он, как надеялся Сталин, постарается показать себя революционным писателем, чтобы и в дальнейшем иметь право прикоснуться к европейской жизни.
В середине мая 1935 года Пильняк вновь обратился с просьбой к Сталину, на этот раз, чтобы его выпустили за границу вместе с женой: «Прошу мне и жене моей Кире Георгиевне (Андроникашвили. – Б. С.), студентке Государственного института кинематографии, выдать заграничные паспорта для поездки в Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию и Норвегию. В Латвии, Эстонии и Финляндии я сделал бы доклады в связи с продлением пактов о ненападении, что находит необходимым отдел печати НКИД, где и возникла мысль о моей поездке. Швецию и Норвегию я никогда не видел и хотел бы написать о них для советского читателя, равно как написал бы и о лимитрофах, бывших российских губерниях. Моя жена никогда не была за границей, и я считаю нужным взять ее с собой для того, чтобы будущий советский режиссер заграницу знал. Мы намереваемся пробыть за границей не больше двух месяцев. Я хотел бы выехать за границу около пятнадцатого мая». И опять благополучно выехал. Сталин начертал на письме резолюцию: «Можно удовлетворить». Члены Политбюро, разумеется, не возражали.
Если бы Пильняк сделал логически верные выводы из истории с «Повестью непогашенной луны», то должен был бы сообразить, что Сталин его не простит и не пощадит. Однако он так и не остался за границей ни в одной из своих зарубежных поездок, последовавших после письма Сталину. Может быть, то, что его теперь легко выпускали за кордон, создавало иллюзию, что время в запасе еще есть.
Американский журналист Юджин Лайонс, корреспондент ЮПИ в СССР, вспоминал: «Весной 1931 года Борис Пильняк, над которым всего несколько лет назад сгущались грозные политические тучи, получил визу для заграничного путешествия. Это стало литературной сенсацией сезона. Вставал молчаливый вопрос, готов ли писатель вернуться в Советский Союз. Однажды вечером в Нью-Йорке я задал ему этот вопрос. «Нет, – ответил Пильняк задумчиво. – Я должен ехать домой. Вне России я чувствую себя словно рыба, вынутая из воды. Я просто не могу писать, и даже ясно думать нигде, кроме как на русской почве». Любовь к родной почве обернулась для Пильняка трагедией. В октябре 1937 года он был арестован, а 21 апреля 1938 года расстрелян.
Не помогло писателю даже публичное славословие в адрес Сталина. Так, в 1935 году он писал о Сталине в одной из своих статей как о «поистине великом человеке, человеке великой воли, великого дела и слова». Он послушно клеймил подсудимых на процессе «параллельного троцкистского центра» в январе 1937 года, требуя им смертного приговора, призывал «уничтожить каждого, кто посягнет на нашу Конституцию». Иосиф Виссарионович в эту риторику, тем не менее, не поверил и уничтожил самого Пильняка.
Интересно, что в разговоре с Лайонсом Пильняк фактически полемизировал со знаменитым булгаковским письмом к правительству от 28 марта 1930 года, текст которого был ему известен. Кстати сказать, Булгаков подавал прошение о заграничной поездке одновременно с Пильняком, но его, вдоволь поиздевавшись, так и не выпустили в Европу. В том письме Михаил Афанасьевич открыто заявил себя «горячим поклонником» свободы печати и высказал мнение: «…Если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода». Он задавался вопросом: «Мыслим ли я в СССР?» и просил правительство: «…Приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР…» Пильняк же готов был идти на компромисс относительно свободы, лишь бы только остаться в родной стране, вне которой своего творчества не мыслил. За что и поплатился пулей в затылок.
Борис Андреевич Пильняк (Вогау) был арестован 28 октября 1937 года и расстрелян 21 апреля 1938 года по ложному обвинению в шпионаже в пользу Японии. В 1956 году его реабилитировали.
Уже знакомый нам американский журналист Юджин Лайонс в 1953 году выпустил книгу «Наши секретные союзники – народы России». Здесь впервые было употреблено выражение «Гомо советикус», тоже, как кажется, имеющее в основе русский источник – еще в 1918 году философ о. Сергий Булгаков в «современных диалогах» «На пиру богов» говорил о появлении в России «Гомо социалистикуса». Лайонс доказывал, что новый человек, сформировавшийся в СССР, «Гомо советикус», существо с мучительно раздвоенным сознанием, советскую идеологию воспринимает лишь по необходимости, из чувства самосохранения, в глубине души оставаясь русским патриотом и противником большевизма. Эта его подлинная сущность рано или поздно проявится и сделает его союзником Запада в начавшейся «холодной войне». Американский журналист был убежден, что старая Россия, которую большевики стремились представить отсталой страной, оказавшейся на обочине мирового развития, вовсе не была «интеллектуальной Сахарой», хотя в какой-то мере была «Сахарой экономической». «Лучшим доказательством этого… служат ее вершинные достижения в литературе, искусстве, науке, – писал Лайонс. – Они выражены в именах, которые пересекли границы России, чтобы сделаться частью достояния цивилизованного человечества, – имена, вроде Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Льва Толстого, Чехова, Мережковского, Горького в литературе, Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева в музыке, Репина в живописи, Станиславского и Немировича-Данченко в театре, Менделеева в химии, Мечникова в медицине, Павлова в физиологии, Струве в астрономии, Бакунина, Кропоткина и, да, Ленина в социальной теории. Весь мир вдохновлен русской литературой, Московским Художественным театром, русским балетом».
В качестве примера «Гомо советикуса» Лайонс привел Алексея Толстого, с которым был близко знаком. Однажды Лайонс с женой были на вечере в особняке Толстого в Детском Селе, стены которого украшали эрмитажные гобелены и картины. Стол ломился от вин и закусок, хотя в то время горожане сидели на карточках, а крестьяне пухли с голода. После изрядной выпивки хозяин вдруг пригласил американца наверх в мансарду, где располагалась его библиотека. В комнате Лайонс увидел массивный рабочий стол в центре и множество книг по стенам. Из окна открывался типично русский пейзаж: деревянная церковь, коровы на лугу, мужики за работой. Толстой показал Лайонсу посмертную маску Петра Великого, над романом о котором как раз работал. Затем обернулся к окну и тихо сказал: «Джин, вот это настоящая Россия, моя Россия… Остальное – обман. Когда я вхожу в эту комнату, то стряхиваю с себя советский кошмар, закрываюсь от его зловония и ужаса. На то малое время, пока я со своим Петром, я могу сказать этим мерзавцам (это слово Лайонс процитировал по-русски): идите к чертям… В один прекрасный день, поверьте, вся Россия пошлет их к чертям… Это все, что я хотел, чтобы вы знали. А теперь вернемся к гостям».
Лайонс так прокомментировал этот монолог: «Хотя он больше никогда не высказывал мне своих подлинных чувств, это осталось между нами тихим секретом. С тех пор всегда, когда я слышу рассуждения о том, что приверженный традиции русский человек умер, что его заменил роботоподобный «Гомо советикус», я вспоминаю тот случай в библиотеке. Это был один из многочисленных случаев, которые убедили меня, что поверхностный слой советского конформизма может быть очень тонким. Сотни раз я видел, как под воздействием водки или еще более пьянящей обстановки конфиденциальности, этот слой разрушался, и вскоре перестал удивляться, когда люди, на виду у всех казавшиеся образцами правоверных коммунистов, внезапно начинали ругать все советское. Одержимость Толстого эпохой Петра была, в определенном смысле, бегством от ненавистного настоящего. Были и другие, кто пытался спрятаться в прошлом, в произведениях на историческую тему, чтобы избежать необходимости врать о современности».
Итак, по мнению Юджина Лайонса, «Гомо советикуса» нет и никогда не было, по крайней мере, среди русской интеллигенции (а он приводит немало примеров искренней ненависти к «нашим новым барам» со стороны рабочих, домохозяек и крестьян).
Алексей Толстой, как и Демьян Бедный, слишком любил жизненные блага, чтобы согласиться хотя бы на полудиссидентское существование в литературе, хотя бы на то, чтобы, как Пастернак, существовать главным образом переводами и неидеологизированной литературной поденщиной. Вот о чем свидетельствует Осаф Литовский: «Алексей Николаевич любил рассказывать про еду. Он с увлечением описывал мне особый способ изготовления печеной картошки, так, чтобы соль выступила наружу («Ты ее сначала помой, потом мокрую посоли – и в духовку… Соль-то и выступит кристаллами, шкурка сморщится, хрустит… Хороша! Ну, и выпить, конечно!»). Печеная картошка была любимой закуской Алексея Николаевича.
С полным пониманием дела мог Толстой поговорить и о сравнительном качестве разных кусков мяса, и о преимуществе вареной говядины над жареной. У Алексея Николаевича вкус к еде был одной из сторон его полнокровного, радостного существования.
Здоровый человек, который не любит есть и пить, – пропащий человек, в этом Алексей Николаевич был убежден. А по мнению Демьяна Бедного, такой человек даже и доверия не заслуживал…
Когда я сейчас его вспоминаю, я вижу широкую, исключительно приветливую улыбку и озорной глаз Толстого: он разглядывает со всех сторон только что вынутый из щей большой дымящийся кусок вареного мяса. Разговор идет своим чередом: он спрашивает, я отвечаю, но главное не забывается.
Поставлена «серьезная задача»: захватить мозговую косточку и все, что вокруг нее. И хотя мы знаем наперед, что лакомый кусочек непременно попадет Алексею Николаевичу – таковы уж правила игры, – все-таки во взгляде Толстого азарт.
Итак, трофей захвачен!
Толстой радостно, совершенно по-детски, смеется, издевается надо мной. И лишь после этого мы приступаем к священнодействию…
Можно было бы при тяготении к литературным образам назвать Алексея Николаевича Толстого Гаргантюа, но мне кажется, что никакое иностранное сравнение не подошло бы к этой чисто русской фигуре. Русский, русский с головы до пят!»
Не с Толстого ли писал Булгаков Никанора Ивановича Босого во время обеда в «Мастере и Маргарите»? Сравните: «Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек водки, выпил, налил второй, выпил. Подхватил на вилку три куска селедки… и в это время позвонили. А Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, – мозговая кость…
Никанор Иванович разливательной ложкой поволок из огнедышащего озера – ее, кость, треснувшую вдоль. И в эту минуту в столовую вошли двое граждан, а с ними почему-то очень бледная Пелагея Антоновна».
Дальнейшее – известно.
И Алексей Толстой, и Демьян Бедный, и другие писатели и деятели искусства прекрасно сознавали, что за ними в любой момент могут прийти двое в штатском или в форме, и спешили пить чашу жизни до дна, как и, кстати сказать, герой булгаковского рассказа «Чаша жизни».
Сталин стремился выстроить в партии строгую иерархию, при этом постепенно растворяя в аппарате старых большевиков, для которых он не был безусловным вождем, теми, кто вступил в партию уже после 1917 года и настроениями которых было куда легче манипулировать. Еще 17 апреля 1923 года, выступая с организационным отчетом на XII съезде партии – последнем, прошедшем при жизни Ленина, Сталин заявил: «Внутри ЦК имеется ядро в 10–15 человек, которые до того наловчились в деле руководства политической и хозяйственной работой наших органов, что рискуют превратиться в своего рода жрецов по руководству. Это, может быть, и хорошо, но это имеет и очень опасную сторону: эти товарищи, набравшись большого опыта по руководству, могут заразиться самомнением, замкнуться в себе самих и оторваться от работы в массах… Если они не имеют вокруг себя нового поколения будущих руководителей, тесно связанных с работой на местах, то эти высококвалифицированные люди имеют все шансы закостенеть и оторваться от масс… Ядро внутри ЦК, которое навострилось в деле руководства, становится старым, ему нужна смена. Вам известно состояние здоровья Владимира Ильича; вы знаете, что и остальные члены основного ядра ЦК достаточно поизносились. А новой смены еще нет – вот в чем беда. Создать руководителей партии очень трудно: для этого нужны годы, 5—10 лет, более 10-ти; гораздо легче завоевать ту или другую страну при помощи т. Буденного, чем выковать 2—3-х руководителей из низов, могущих в будущем действительно стать руководителями страны». Так исподволь Сталин готовил замену старой гвардии в ЦК своими аппаратными выдвиженцами, будто бы «тесно связанными с массами» и зачастую не имевшими ни нормального образования, ни опыта дореволюционной подпольной борьбы. Объявленный же после смерти Ленина массовый так называемый «ленинский призыв» в партию еще больше укрепил позиции Сталина. Ведь призывом управлял его аппарат, а для новообращенных партийцев Сталин был уже почитаемым вождем.
Когда Зиновьев и Каменев заключали со Сталиным блок против Троцкого, они рассчитывали что Коба не будет представлять для них, опытных ораторов и публицистов, популярных в массах, никакой серьезной опасности. Но, помимо прочего, Григорий Евсеевич и Лев Борисович не учли одного важного обстоятельства. К тому времени гражданская война закончилась, и в стране установилась однопартийная диктатура. Убеждать массы в своей правоте и искать их популярности вождям больше не требовалось. За них это делал пропагандистский аппарат. А организационный аппарат занимался подбором людей на съезды и конференции, а также подбором кадров во все партийные и государственные учреждения. Сталин же, как генеральный секретарь, успел подчинить себе партаппарат, что предопределило его победу. И в дальнейшем в схватках за власть, когда возникал вопрос о преемнике, победу неизменно одерживал тот из вождей, кто контролировал партию: так Хрущев одолел Маленкова, а Брежнев – Шелепина и других конкурентов в борьбе за власть. Сталину же только на руку было то, что Каменев и Зиновьев недооценили его как выдающегося политического тактика, а также его способность в нужный момент предавать товарищей по партии, с которыми только недавно заключил блок или союз. Разумеется, ни Зиновьев, ни Каменев не были людьми особо моральными, и с «чуждыми элементами» могли поступать вполне аморально. Троцкий, по словам Б. Бажанова, несколько отличался в этом плане от других партийных вождей: «Я бы сказал, что Троцкий – тип верующего фанатика. Троцкий уверовал в марксизм; уверовал затем в его ленинскую интерпретацию. Уверовал прочно и на всю жизнь. Никаких сомнений в догме и колебаний у него никогда не было видно. В вере своей он шел твердо. Он мог только капитулировать перед всей партией, которую он считал совершенным орудием мировой революции, но он никогда не отказывался от своих идей и до конца дней своих в них твердо верил; верил с фанатизмом. Из людей этого типа выходят Франциски Ассизские, и Петры Отшельники, и Савонаролы; но и Троцкие, и Гитлеры…
Не приняв специфической морали Ленина, он был в отличие от него человеком порядочным. Хотя и фанатик, и человек нетерпимый в своей вере, он был отнюдь не лишен человеческих чувств – верности в дружбе, правдивости, элементарной честности. Он в действительности не был ленинским большевиком».
Подчеркну, что эти качества Троцкого – фанатизм, честность и следование моральным принципам хотя бы в отношениях с однопартийцами – решающим образом ослабляли его позиции в борьбе со Сталиным. Тот фанатиком не был, и поэтому проявлял необходимую гибкость в схватке за власть, с легкостью заключал временные союзы, чтобы завтра же предать и даже уничтожить союзников. Кстати, позднее фанатизм Гитлера, невозможность отказаться от расовой доктрины и привлечь на свою сторону народы СССР сослужили фюреру плохую службу в борьбе со Сталиным.
Характерно, что проблема террора ни Зиновьева, ни Каменева, ни Троцкого, ни Бухарина не беспокоила, пока они сами в конце концов не стали его жертвами. Но по отношению к партийцам они еще считали нужным соблюдать хоть какие-то партийные нормы и не думали, что Сталин поступит с ними столь круто и подло, сначала выбросив на обочину политической жизни, а затем уничтожив – сперва морально, а потом физически.
Мощным орудием в руках Сталина стала система номенклатуры. 8 ноября 1923 года ЦК РКП(б) принял постановление о порядке подбора всех руководящих партийных и государственных работников. Еще в 1919 году в ЦК был создан Учетно-распределительный отдел, ведавший распределением по ответственным должностям наиболее надежных и проверенных коммунистов. Уже к 1922 году Учраспред произвел назначения на 10 тысяч постов. И вот в 1923 году постановление ЦК завершило формирование в основных чертах номенклатурной системы. В дальнейшем вошли в обиход выражения «номенклатура ЦК», «номенклатура обкома». Для масс существовала Советская власть, которую они, пусть и весьма условно, особенно после «сталинской конституции» 1936 года, но все-таки выбирали. Действительное же назначение на все посты осуществляли партийные органы, которые утверждали, в том числе, и кандидатов в Советы всех уровней, и деятельность которых проходила под покровом тайны.
Само слово «номенклатура» – латинское. В античном Риме был специальный раб, в обязанность которого входило громко выкрикивать имена гостей. Его называли «номенклатор». Отсюда «номенклатура» – список имен или названий.
Согласно постановлению 1923 года было создало 7 комиссий по пересмотру состава работников основных государственных и хозяйственных органов. Комиссии занимались промышленностью, кооперацией, торговлей, транспортом и связью, финансово-земельными органами, органами просвещения, административно-советскими органами. Отдельная комиссия курировала наркоматы иностранных дел и внешней торговли. Список 3500 наиболее важных постов, в том числе членов Совнаркома, ВЦИК, ЦИК СССР, членов президиумов и коллегий наркоматов, руководство ВЦСПС и ВСНХ и т. д., вплоть до руководителей крупнейших промышленных предприятий и кооперативов, составил номенклатуру № 1. Заместители начальников главков и управлений центральных органов попали в другой список – номенклатуру № 2, а руководители на местах составили номенклатуру № 3. Всего в номенклатуру тогда было включено 13 163 человека. Это была номенклатура ЦК РКП(б). Дальше следовали номенклатуры работников, находящихся в ведении республиканских, областных, городских и районных комитетов партии. Как отмечалось в советском учебнике «Партийное строительство», «номенклатура – это перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые предварительно рассматриваются, рекомендуются и утверждаются данным партийным комитетом (райкомом, горкомом, обкомом партии и т. д.). Освобождаются от работы лица, входящие в номенклатуру партийного комитета, также лишь с его согласия. В номенклатуру включаются работники, находящиеся на ключевых постах». Наряду с партийной, существовала подчиненная ей хозяйственная номенклатура. Были должности номенклатуры министерства, главка и т. д. И, разумеется, ни в каких конституциях и законах номенклатура никогда не отражалась – только в документах с грифом «секретно» или, в крайнем случае, «для служебного пользования».
Советские органы существовали только как ширма, прикрывавшая от народа диктатуру партии. Все решения как бы принимались от имени Совета министров, исполкомов местных Советов, правительств союзных республик. Широкая публика не ведала, что каждому такому решению предшествовала соответствующая директива партийного органа. Когда в 1923 году заместитель наркома внешней торговли М.И. Фрумкин передал постановление пленума ЦК ВКП(б) о монополии внешней торговли уполномоченному Наркомвнешторга Украины и сослался на это постановление в телеграмме торгпредам, то удостоился гневной отповеди от Бюро Секретариата ЦК: «Постановления ЦК оформляются в советском порядке в виде законодательных актов или распоряжений. Поэтому сами вопросы часто по существу не являются секретными, но, наоборот, доводятся до сведения широких слоев населения в советском порядке. Секретным является порядок прохождения вопросов через партийную организацию, постановления которой являются директивой партии тому или иному члену. Поэтому каждый член партии, получив директиву партийного органа, проводит таковую в жизнь от своего имени по занимаемой должности».
Инициатором официального оформления номенклатурных списков был именно Сталин. В апреле 1923 года на XII партсъезде он заявил: «Доселе дело велось так, что дело учраспреда ограничивалось учетом и распределением товарищей по укомам, губкомам и обкомам. Теперь учраспред не может замыкаться в рамках укомов, губкомов, обкомов… Необходимо охватить все без исключения отрасли управления». Система номенклатуры стала основой неограниченной диктатуры партийного вождя.
Сталин на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года, давая старт кампании репрессий против представителей партийного аппарата, говорил, выражая свою приверженность к военному порядку построения партии и общества: «В составе нашей партии… около 3–4 тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, – генералитет нашей партии. Далее идут 30–40 тысяч средних руководителей. Это – наше партийное офицерство. Дальше идут около 100–150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство». Перед нами – на военный манер построенная вертикаль исполнительной власти в отсутствие власти законодательной и власти судебной – тот идеал, который построил Сталин.
Автор классического труда «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза», изданного в СССР только в год его падения, Михаил Восленский писал: «Главное в номенклатуре – власть. Не собственность – власть». У номенклатуры путинского призыва, особенно из числа силовиков, задача другая – власть как можно быстрее трансформировать в собственность. И тот же Восленский заметил, что на ответственные посты обычно выдвигали людей, которые не слишком к этим постам подходили. Это делалось умышленно – чтобы человек ощущал, что он поставлен на это место только благодаря воле начальства и только лояльность начальству гарантирует его выживание. А поскольку бездарностью управлять легче, чем талантом, в номенклатуре преобладали люди неяркие, посредственные, иногда просто глупые. Стоит посмотреть на нынешних членов путинской команды, хотя бы на главу Совета Федерации, чтобы уяснить себе, что данная номенклатурная заповедь здесь свято соблюдается.
Против номенклатурной системы попытался робко возразить Каменев. 21 декабря 1925 года, на XIV съезде партии, где зиновьевцы попытались дать бой Сталину, Лев Борисович заявил: «Мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против того, чтобы делать «вождя». Мы против того, чтобы Секретариат, фактически объединяя и политику и организацию, стоял над политическим органом. Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полновластие Политбюро, объединяющее всех политиков нашей партии, и вместе с тем чтобы был подчиненный ему и технически выполняющий его постановления Секретариат… Лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб… Именно потому, что я неоднократно говорил это т. Сталину лично, именно потому, что я неоднократно говорил группе товарищей-ленинцев, я повторяю это на съезде: я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба… Эту часть своей речи я начал словами: мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя!»
Это был глас вопиющего в пустыне. Ведь делегатов съезда за пределами лояльной Зиновьеву ленинградской парторганизации назначал все тот же ненавидимый Каменевым, но полностью подвластный Сталину секретариат. Это одно уже предрешало исход борьбы со всеми оппозициями. Восстание секретариата случилось лишь один раз в истории – против Хрущева, который уж очень нервировал аппаратчиков своими экспериментами и критикой Сталина, критикой, во многом лишавшей их смысла существования.
Сталин опирался на «сынов нужды и борьбы» – выходцев из рабочих и крестьян, пополнивших партию после октября 1917 года, а еще больше – после января 1924 года, в рамках так называемого «ленинского призыва». Заняв номенклатурные посты, они были обязаны своим выдвижением только Сталину и поддержали его во всех перипетиях внутрипартийной борьбы, что все равно не избавило многих из них от печальной участи в 1937 году и позже.
В период борьбы с оппозицией Сталин не раз прибегал к угрозе своей отставкой. Это был чисто риторический прием, призванный сплотить вокруг него партийные ряды. Впервые Сталин написал заявление об отставке 19 августа 1924 года. Это была хорошо рассчитанная игра на высокопоставленную партийную публику, ибо Иосиф Виссарионович прекрасно знал, что никто его отставку принимать не собирается. Заодно Сталин «опустил» в глазах соратников по партии своих коллег по «триумвирату» Каменева и Зиновьева, все более превращавшихся в конкурентов в борьбе за ленинское наследство и власть в партии и в стране. Его письмо пленуму ЦК РКП(б) гласило:
«Полуторагодовая совместная работа в Политбюро с тт. Зиновьевым и Каменевым после ухода, а потом и смерти Ленина, сделала для меня совершенно ясно невозможность честной и искренней совместной политической работы с этими товарищами в рамках одной узкой коллегии. Ввиду этого прошу считать меня выбывшим из состава Пол. Бюро ЦК.
Ввиду того, что ген. Секретарем не может быть не член Пол. Бюро, прошу считать меня выбывшим из состава Секретариата (и Оргбюро) ЦК.
Прошу дать отпуск для лечения месяца на два.
По истечении срока прошу считать меня распределенным либо в Туруханский край, либо в Якутскую область, либо куда-либо за границу на какую-либо невидную работу.
Все эти вопросы просил бы Пленум разрешить в моем отсутствии и без объяснений с моей стороны, ибо считаю вредным для дела дать объяснения, кроме тех замечаний, которые уже даны в первом абзаце этого письма.
Т-ща Куйбышева просил бы раздать членам ЦК копию этого письма.
С ком. прив. И. Сталин».
Сталин юродствовал, предлагая отправить себя на места былых ссылок, Сталин издевался над коллегами по Политбюро, которые все еще терпели эти издевательства, видя в генсеке единственную и желаемую альтернативу Троцкому. И, разумеется, пленум отставки не принял.
Еще раз Сталин попросился в отставку 27 декабря 1926 года, в разгар борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией, мотивируя свою просьбу тем, что «не в силах больше работать на этом посту», и нисколько не сомневаясь, что товарищи по партии эту просьбу отвергнут. А третий раз, для законченности сюжета, Сталин заявил о намерении уйти в отставку 19 декабря 1927 года, в официальный день своего рождения и вскоре после окончательной победы над Троцким. Во всех трех случаях это был не более чем риторический жест, поскольку Иосиф Виссарионович нисколько не сомневался, что ЦК единогласно (или почти единогласно) попросит его остаться.
Все время своего нахождения на высшем партийном посту Сталин неизменно клялся именем Ленина, освящал все свои действия авторитетом создателя партии и главного архитектора Октябрьской революции. Например, 21 января 1925 года, в первую годовщину со дня смерти Ленина, Сталин писал в письме в редакцию «Рабочей Газеты»: «Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя (от избытка патетики Иосиф Виссарионович невольно сбился на белый стих. – Б. С.). Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру, – по Ильичу. Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних, – по Ильичу. Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое, – в этом один из важных заветов Ильича».
Данный текст более всего напоминает народную сказку, адаптированную для детей. Простые слова, многократный, ритмический повтор слов и мыслей. Очень напоминает, замечу, гайдаровскую «Сказку о Мальчише-Кибальчише»: «Летят самолеты – салют мальчишу, плывут пароходы – салют мальчишу». Как и другие статьи и выступления Сталина, это письмо было рассчитано на полуграмотную массу, действовало на подсознание, должно было воодушевлять на трудовые подвиги и беспощадную борьбу с врагами, побуждать бездумно доверять живому вождю, воплощающему в жизнь заветы умершего вождя, превращенного теперь в нетленного бога.
Как сторонники, так и противники Сталина противопоставляли и до сих пор противопоставляют его Ленину. Одни, как Троцкий и те из «шестидесятников», кто пытался вернуться к «неискаженному ленинскому социализму», противопоставляли Ленина Сталину как положительного культурного героя – отрицательному. Другие, как, например, сторонники некоторых фашистских течений в русской эмиграции в 30—40-е годы и позднейшие националисты-сталинисты уже в СССР и в постсоветской России, противопоставляют Сталина Ленину уже в качестве положительного героя – истинного русского патриота, отказавшегося от ленинских «интернационалистских бредней» и «химер мировой революции» (последнее, впрочем, сталинисты в большей мере склонны приписывать Троцкому) и создавшего великую империю – мировую сверхдержаву. Порой сталинисты, особенно из числа национал-большевиков, смягчают это противопоставление, признавая определенные заслуги и за Лениным и делая также и его одним из своих культурных и политических героев, но все-таки – героем № 2, вслед за героем № 1 – Сталиным. Если же объективно сравнивать Ленина и Сталина, то можно сказать, что между ними не было сколько-нибудь принципиального различия. Оба делали упор на построение социализма прежде всего в одной стране. В этом было их принципиальное сходство. В борьбе и Ленин и Сталин беспощадно применяли террор, но первый использовал его только против «чужих», а второй – также и против своих оппонентов из числа большевиков. Принципиально отличался от них Троцкий, который мыслил себе победу коммунизма только в мировом масштабе. На самом деле даже теоретической возможности победы мировой революции, хотя бы в виде ее торжества не только в России, но еще также, например, в Германии и Италии, не было в принципе. Надежды на это были утопией. В более благополучных, чем Россия, странах лишь меньшинство населения желало радикального переустройства общества на коммунистических началах, и активность этого меньшинства в целом уравновешивалась теми слоями, которых отнюдь не вдохновлял пример Москвы. И невозможно было себе представить, чтобы сразу в нескольких странах в один и тот же момент сложились бы столь экстремальные внешние и внутренние условия, как в России в 1917 году. Но Троцкий, ошибаясь насчет мировой революции, безусловно оказался прав в том смысле, что торжество ленинско-сталинского социализма в России так и не привело к его победе во всемирном масштабе и вообще, по историческим меркам, оказалось довольно коротким – каких-нибудь 70 лет.
Сравнение Ленина и Сталина стало, повторю, общим местом. Сталина и Троцкого сравнивают реже и часто не в пользу Троцкого. Расхожим является мнение, будто Сталин просто заимствовал программу Троцкого. Но в действительности Троцкий никогда не предполагал насильственную коллективизацию по типу сталинской, и когда она случилась, категорически осудил ее методы, хотя и приветствовал результат. Он также не предполагал делать индустриализацию за счет полного ограбления крестьянства и говорил о необходимости уменьшить ножницы цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Троцкий после неудачи похода на Варшаву (противником которого он был, считая непосильным для Красной Армии) также придерживался мнения, что Красная Армия должна придерживаться стратегии истощения, а не сокрушения, и оборонительного, а не наступательного образа действий. Лев Давыдович видел мировую революцию как результат внутреннего взрыва, наподобие того, что произошел в России в 17-м, а не как результат интервенции Красной Армии. Сталин в этом плане был куда большим реалистом и понимал, что за пределы СССР коммунистические порядки можно принести только на красноармейских штыках.
Внук одного из «отцов» советской водородной бомбы Игоря Тамма Леонид Вернский вспоминал, как однажды они с дедом и с другим «отцом» водородной бомбы Андреем Сахаровым обсуждали, «что бы вышло, приди к власти не Сталин, а Троцкий. Дед полагал, что жертв было бы в 10 раз меньше, АДС – в 100, а я – в 1000… Дед сравнивал Троцкого с Берией, подчеркивая их рационализм и проницательность. Ему запомнилось, как Троцкому удавалось быстро схватить суть совершенно незнакомых ему вопросов. (Еще будучи наркомвоенмором, Троцкий посетил электроламповый завод, а Тамм давал ему необходимые пояснения.) Точно так же Берия во время «ядерных» совещаний мгновенно улавливал суть дела и задавал вполне разумные вопросы. Он совершенно игнорировал «неблагонадежность» тех, кто был нужен для дела… Он-то знал цену любому компромату…
Но дед Гора (так Вернский называл И.Е. Тамма. – Б. С.) вспоминал и о том, как «фанатик» Троцкий во время гражданской войны раскатывал в залитом электричеством бывшем царском салон-вагоне. Дед был настолько убежден (с 17-го года!) в преимуществах социалистического строя, что даже неоправданные жертвы пытался объяснить «детской болезнью»».
Насчет салона-вагона Троцкого стоит заметить, что Сталин тоже не в теплушке по фронтам гражданской войны разъезжал. Однако разница в этом отношении между Сталиным и Троцким действительно существовала. Лев Давыдович был неравнодушен к жизненным благам, будь хорошая одежда, гастрономические деликатесы или красивые женщины (у председателя Реввоенсовета было немало любовниц, и даже его убийство, осуществленное спецгруппой НКВД, сталинская пропаганда пыталась представить как результат разборок из-за женщин). Сталин тоже аскетом не был, в отличие от Гитлера, в пище себя не ограничивал, от спиртных напитков не отказывался, да и прекрасным полом, как мы убедились на примере его амурных похождений еще в дореволюционные годы, отнюдь не пренебрегал. Однако в целом Иосиф Виссарионович к роскоши был равнодушен, модно и красиво одеваться не стремился. Как влез в 43-м в маршальский мундир, так и проходил в нем одном 10 лет, до самой смерти. Для Сталина на первом месте была власть и только власть, власть сама по себе, а не для осуществления какой-нибудь великой, с его точки зрения, идеи или какого-либо государственного замысла. В этом было отличие Сталина от Гитлера, для которого власть была тоже абсолютной ценностью, но необходимой только для реализации одной идеи – превосходства германской расы во всемирном масштабе. Троцкому же скорее важна была даже не власть, а идея. В принципе он готов был бы смириться, что она у кого-нибудь другого, если этот кто-то осуществит идею мировой «пролетарской революции». Для Льва Давыдовича было важно быть идеологом, теоретиком, мыслителем, чей авторитет признавали бы за ум и выдающиеся, как он полагал, административные качества, а отнюдь не ловкость в политической борьбе. То, что власть была главным и единственным принципом Сталина, давало ему громадное преимущество во внутрипартийной борьбе, освобождало его от химеры идеологии и от каких-либо моральных оков. Троцкий был революционер, а не политик. Сталин был политик, а не революционер.
Еще в январе 1918 года, выступая на III Всероссийском съезде Советов, Сталин откровенно заявил: «Нам, представителям рабочих, нужно, чтобы народ был не только голосующим, но и правящим. Властвуют не те, кто выбирает и голосует, а те, кто правит». Если вспомнить другое высказывание Сталина, можно сказать, что властвует не тот, кто выбирает, а тот, кто считает голоса. Отмечу, что постсоветская действительность дает тому массу примеров.
А вот пример типичной для Сталина передержки. В декабре 1925 года, на XIV съезде партии, где был дан бой ленинградской «новой оппозиции» во главе с Зиновьевым, Сталин провозгласил: «Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование, – вот в чем суть, основа нашей генеральной линии».
Позиция оппонентов Сталина в его «Краткой биографии» была расценена следующим образом: «Сталинскому плану социалистической индустриализации Зиновьев и Каменев пытались противопоставить свой «план», согласно которому СССР должен был остаться аграрной страной. Это был предательский план закабаления СССР и выдачи его со связанными ногами и руками империалистическим хищникам». На самом деле «новая оппозиция» отнюдь не была противником индустриализации и критиковала Сталина не по этому, а по другим пунктам – за слишком большие, по ее мнению, уступки, сделанные кулаку, в угоду Бухарину, за отказ от провоцирования мировой революции, за ликвидацию внутрипартийной демократии. Но это было одним из приемов, который Сталин нередко использовал в полемике: подменить один тезис другим, чтобы поставить противника в неудобное положение и заставить аудиторию забыть, из-за чего, собственно, идет спор.
По поводу данной ему в ленинском завещании не самой лестной характеристики Сталин заявил, выступая 23 октября 1927 года на объединенном пленуме ЦК и ЦКК, где троцкистско-зиновьевской оппозиции был нанесен последний удар: «Говорят, что в этом «завещании» Ленин предлагал съезду ввиду «грубости» Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается. Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, обязали Сталина остаться на своем посту.
Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моем характере, ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Человек я, как уже раньше об этом говорил, подневольный, и, когда партия обязывает, я должен подчиниться.
Через год после этого я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту.
Что же я мог еще сделать?
Что же касается опубликования «завещания», то съезд решил его не опубликовывать, так как оно было адресовано на имя съезда и не было предназначено для печати».
Троцкий пожинал плоды собственной беспринципности. В 1925 году, подчиняясь решению Политбюро, он в отклике на книгу американского журналиста Истмена фактически отрицал подлинность опубликованного там текста ленинского завещания и утверждал: «Всякие разговоры о скрытом или нарушенном «завещании» представляют собой злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича и интересов созданной им партии». Сталин со злорадством процитировал на пленуме эти слова своего главного оппонента. Тем более, что в бюллетене, предназначенном для руководящих партийных органов и изданном более чем десятитысячным тиражом, Иосиф Виссарионович ленинское завещание все-таки издал.
Внешнеполитическая программа Сталина в 20-е годы заключалась прежде всего в противостоянии с державами Антанты и ассоциировавшимися в его сознании с ними Соединенными Штатами Америки. Стратегической же задачей было вбить клин между Европой и Америкой, в частности отдалить США от решения германских дел. Именно неустойчивость положения в Германии создавала надежду на новую мировую войну. Но возможности влиять на европейские и мировые дела в то время у Сталина были весьма ограничены. Сокращенная после гражданской войны Красная Армия едва превышала по численности армии государств-лимитрофов, взятых вместе. Разумеется, опасаться совместного нападения этих государств на Советский Союз не было никаких оснований, хотя бы потому, что между ними существовали достаточно серьезные противоречия (взять хотя бы виленский спор между Литвой и Польшей). Что еще важнее, правительства лимитрофов совсем не хотели рисковать своей недавно обретенной государственностью или, в случае с Румынией, новыми территориями в столкновении с Советским Союзом. Но и сил у СССР для успешного нападения на пояс лимитрофов тогда еще не было. Как торговый партнер Советский Союз, ориентированный на автаркию и не имевший в своем распоряжении конкурентоспособных на мировом рынке товаров, большого интереса не представлял. Автаркия, а также бедность населения препятствовали также широкомасштабному импорту в СССР из Западной Европы потребительских товаров. Оставалось только с помощью местной компартии вносить свой вклад в поддержание политической нестабильности в Германии (благо такая нестабильность успешно сохранялась и без советского вмешательства) и делать упор на милитаризацию экономики (для широких масс она называлась модным словом «индустриализация»), результаты которой должны были дать Сталину возможность проводить политику с позиции силы.
В декабре 1925 года, выступая на XIV съезде партии, Сталин заявил: «В данный момент Америка не желает войны в Европе. Они как бы говорят Европе: я тебе ссудила миллиарды, ты не рыпайся, если хочешь и впредь получать денежки, если не хочешь, чтобы твоя валюта вверх тормашками полетела, сиди и работай, зарабатывай денежки и выплачивай проценты по долгам (сам Иосиф Виссарионович по долгам платить не любил и продолжил ленинскую традицию отказа от уплаты по обязательствам царского и Временного правительства тем, что отказался рассчитываться с Англией и США за ленд-лиз: «Мы не лохи, чтобы платить!» – Б. С.)…
Со времени победы пролетарской революции в нашей стране из мировой системы капитализма выпала целая громадная страна с громадными рынками сбыта, с громадными источниками сырья, и это, конечно, не могло не повлиять на хозяйственное положение Европы. Потерять одну шестую часть мира, потерять рынки и источники сырья нашей страны это значит для капиталистической Европы сократить свое производство, поколебать его коренным образом. И вот для того, чтобы положить конец этой отчужденности европейского капитала от нашей страны, от наших рынков и источников сырья, оказалось необходимым пойти на некую полосу «мирного сожительства» с нами, чтобы пробраться к нашим рынкам и к источникам сырья, – иначе нет, оказывается, возможности достичь какой-нибудь хозяйственной устойчивости в Европе…»
Здесь Сталин, не знаю, искренне или лукаво, в пропагандистских целях, преувеличивал степень зависимости мировой экономики от России. Не то чтобы российские зерно или нефть совсем уж ничего не значили на мировом рынке. Но, в конце концов, зерно можно было покупать еще и в США, Канаде, Австралии или Аргентине. Да и на бакинской нефти свет клином не сошелся. Ее можно было закупать в той же Румынии, Иране, Индонезии, Венесуэле… Российский уголь вообще никогда не играл существенной экспортной роли. Что же касается России как рынка, то тот же текстиль или посуда с гораздо большим успехом могли найти спрос и у более состоятельного европейского потребителя.
Сталин был прав, что европейскую, да и мировую экономику еще до великой депрессии 1929–1933 годов серьезно лихорадило. Но причиной этого было вовсе не «выпадение России из системы мирового капиталистического хозяйства», как утверждал Сталин, а положение Германии, изнемогавшей под гнетом репарационных выплат и не способной в прежнем объеме поставлять промышленную продукцию своим соседям. Еще важнее было то, что Германия практически выпала из мировой финансовой системы, что делало последнюю заведомо нестабильной.
На XIV съезде Сталин предложил программу сотрудничества с капиталистическими странами – с тем, чтобы потом их вернее закопать: «Мы не можем отменить известного закона нашей страны, изданного в 1918 году, – об аннулировании царских долгов. Мы остаемся на основе этого закона. Мы не можем аннулировать тех декретов, которые были провозглашены и которые узаконили у нас экспроприацию экспроприаторов. На базе этих законов мы стоим и будем стоять в будущем. Но мы не прочь некоторые исключения, в плане в порядке практических переговоров, сделать и для Англии и для Франции по части бывших царских долгов, с тем чтобы малую толику выплатить и кое-что получить за это. Мы не прочь бывших частных собственников удовлетворить предоставлением им концессий, но опять-таки с тем, чтобы условия концессий были не кабальными…
Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны.
Есть две генеральные линии: одна исходит из того, что наша страна должна остаться еще долго страной аграрной, должна вывозить сельскохозяйственные продукты и привозить оборудование, что на этом надо стоять и по этому пути развиваться и впредь. Эта линия требует, по сути дела, свертывания нашей индустрии… Эта линия ведет к тому, что наша страна никогда, или почти никогда, не могла бы по-настоящему индустриализироваться, наша страна из экономически самостоятельной единицы, опирающейся на внутренний рынок, должна была бы объективно превратиться в придаток общей капиталистической системы. Эта линия означает отход от задач нашего строительства.
Это не наша линия.
Есть другая генеральная линия, исходящая из того, что мы должны приложить все силы к тому, чтобы сделать нашу страну страной экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке, страной, которая послужит очагом для притягивания к себе всех других стран, понемногу отпадающих от капитализма и вливающихся в русло социалистического хозяйства. Эта линия требует максимального развертывания нашей промышленности, однако в меру и в соответствии с теми ресурсами, которые у нас есть. Она решительно отрицает политику превращения нашей страны в придаток мировой системы капитализма. Это есть наша линия строительства, которой держится партия и которой будет она держаться и впредь. Эта линия обязательна, пока есть капиталистическое окружение».
И еще Сталин коснулся государственной винной монополии: «Кстати, два слова об одном из источников резерва – о водке. Есть люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках. Это – грубейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам, не можем принять тех кабальных условий, которые они нам предлагали и которые мы отвергли, – то останется одно: искать источники в других областях. Это все-таки лучше, чем закабаление».
Автаркия – вот какой экономический курс взял Сталин окончательно и бесповоротно. А автаркическую экономику, т. е. экономику, абсолютно не зависящую от импорта и ориентированную исключительно на внутренние ресурсы, создают те государства, которые готовятся к войне. Но для создания военной промышленности было необходимо современное оборудование, которое в СССР не производилось. Для его закупок требовалось продавать продукцию сельского хозяйства, а чтобы сподручнее было изымать ее у крестьян в пользу государства, Сталин провел коллективизацию и загнал крестьян в колхозы, где они не имели уже никаких прав на продукты своего труда. Вот когда Красная Армия получит с избытком вооружения и боевой техники, тогда можно будет начать с ее помощью «притягивать» к СССР другие страны и помещать их «в русло социалистического хозяйства».
Сталин, как и Ленин, любил представлять СССР центром мирового развития, к которому будто бы постоянно обращены взоры как друзей, так и врагов. Но на самом деле в 20-е годы внутреннее положение Советского Союза и происходившая там борьба за власть не слишком волновало великие державы Запада, занятые преодолением последствий Первой мировой войны. А в той мере, в какой западных политиков все же волновало соперничество Сталина и Троцкого, первый казался меньшим из двух зол. С Троцким прочно ассоциировалась идея мировой революции, именно он был вождем Красной Армии, когда она пыталась ворваться в Польшу. Сталин казался более вменяемым политиком, с которым можно иметь дело, можно так или иначе договориться. И Кобе такая позиция была, безусловно, на руку.
На объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 года, где троцкистско-зиновьевской оппозиции был нанесен решающий удар и ее лидеры были выведены из руководства партии, Сталин говорил о себе уже в третьем лице: «Вы слышали здесь, как старательно ругают оппозиционеры Сталина, не жалея сил. Это меня не удивляет, товарищи. Тот факт, что главные нападки направлены против Сталина, этот факт объясняется тем, что Сталин знает лучше, может быть, чем некоторые наши товарищи, все плутни оппозиции, надуть его, пожалуй, не так-то легко, и вот они направляют удар прежде всего против Сталина. Что ж, пусть ругаются на здоровье (расстрелять мы их всегда успеем. – Б. С.).
Да что Сталин, Сталин человек маленький. Возьмите Ленина. Кому не известно, что оппозиция во главе с Троцким, во время Августовского блока, вела еще более хулиганскую травлю против Ленина. Послушайте, например, Троцкого:
«Каким-то бессмысленным наваждением кажется дрянная склока, которую систематически разжигает сих дел мастер Ленин, этот профессиональный эксплуататор всякой отсталости в русском рабочем движении» (см. Письмо Троцкого Чхеидзе в апреле 1913 г.).
Язычок-то, язычок какой, обратите внимание, товарищи. Это пишет Троцкий. И пишет он о Ленине.
Можно ли удивляться тому, что Троцкий, так бесцеремонно третирующий великого Ленина, сапога которого он не стоит, ругает теперь почем зря одного из многих учеников Ленина – тов. Сталина.
Более того, я считаю для себя делом чести, что оппозиция направляет всю свою ненависть против Сталина. Оно так и должно быть. Я думаю, что было бы странно и обидно, если бы оппозиция, пытаясь разрушить партию, хвалила Сталина, защищающего основы ленинской партийности».
Миф великого Ленина, который начал создаваться еще при жизни основоположника большевистской партии, в полной мере использовался Сталиным для возвеличивания собственной персоны. Он неоднократно скромно именовал себя одним из многих учеников великого Ленина. Однако только Иосиф Виссарионович на съездах и пленумах позволял говорить сам о себе в третьем лице. Уже одно это давало понять партийцам, кто есть самый верный и самый главный ленинский ученик. И, в полном соответствии с законами построения мифа, главный злодей Троцкий должен был стремиться извести главного культурного героя Сталина, но неизменно терпел неудачу. Здесь миф отнюдь не расходился с жизнью. Троцкий действительно избрал главной мишенью своей критики Сталина, но совсем не преуспел в борьбе с ним.
Кстати, Троцкий, как и Сталин, неоднократно подчеркивал, что является учеником Ленина, а своих сторонников называл «подлинными марксистами-ленинцами». В статье, посвященной памяти Ленина, он, в частности, писал: «Наши сердца поражены сейчас такой безмерной скорбью, что мы все, великой милостью истории, родились современниками Ленина, работали рядом с ним, учились у него… Как пойдем вперед? – С фонарем ленинизма в руках…»
Троцкому припомнили и его небольшевизм, и острую полемику с Лениным. О последних же ленинских записках, где Ленин во многом солидаризировался с Троцким и остро критиковал Сталина, Иосиф Виссарионович предпочитал не вспоминать. А послушное воле генсека большинство делегатов, естественно, вспоминало только об ошибках Троцкого, Зиновьева и Каменева и их действительных и мнимых разногласиях с Лениным.
В борьбе с троцкистско-зиновьевским блоком задачу Сталина сильно облегчало то обстоятельство, что еще вчера Троцкий, с одной стороны, и Зиновьев и Каменев – с другой, были врагами и объединились, по сути, только по тактическим соображениям – чтобы попытаться сместить Сталина с поста генсека и не допустить установления его диктатуры в партии и в стране. Поэтому Сталину не надо было грешить против истины, подводя на XV партсъезде в декабре 1927 года итоги борьбы с оппозицией: «Известно, что в конце 1924 года Троцкий издал брошюру под названием «Уроки Октября». Известно, что в этой брошюре Троцкий квалифицировал Каменева и Зиновьева как правое, полуменьшевистское крыло нашей партии. Известно, что брошюра Троцкого послужила причиной целой дискуссии в нашей партии. И что же? Прошло всего около года – и Троцкий отказался от своих взглядов, провозгласив, что Зиновьев и Каменев представляют не правое крыло нашей партии, а ее левое, революционное крыло.
Еще пример, уже из области истории зиновьевской группы. Известно, что Зиновьев и Каменев написали целый ворох брошюр против троцкизма. Известно, что еще в 1925 году Зиновьев и Каменев объявили, вместе со всей партией, о несовместимости троцкизма с ленинизмом. Известно, что Зиновьев и Каменев, вместе со всей партией, проводили резолюции как на съездах нашей партии, так и на V конгрессе Коминтерна, о мелкобуржуазном уклоне троцкизма. И что же? Не прошло и года после того, как они отреклись от своих взглядов, отказались от них и провозгласили, что группа Троцкого является подлинно ленинской и революционной группой в составе нашей партии. (Голос: «Взаимная амнистия!») … Не ясно ли из этого, что никому еще в нашей партии не удавалось так легко и свободно отрекаться от своих принципов, как Троцкому, Зиновьеву и Каменеву? (Смех.)».
И тогда же, на XV съезде, Сталин уже наметил программу коллективизации, заявив о необходимости перехода «мелких и распыленных крестьянских хозяйств на крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки земли… на базе новой, высшей техники». В тот момент Бухарин еще был союзником Сталина, и тот, чтобы успокоить друга и соратника, подчеркнул, что коллективизация должна иметь сугубо добровольный характер: «Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяйства на основе общественной, товарищеской, колхозной обработки земли, с применением сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением научных приемов интенсификации земледелия. Другого выхода нет». И Бухарин поверил. А всего через год другой выход нашелся. К тому времени выяснилось, что «в порядке показа» крестьян завлечь в колхозы невозможно, что большинство из них не желает отдавать в безраздельную собственность государству плоды своего труда в обмен на жалкие подачки в виде трудодней и право обрабатывать себе на пропитание крошечные приусадебные участки. «Научные приемы интенсификации земледелия» не вышли за пределы опытных участков. Тракторов, правда, уже к концу 30-х годов появилось много, но только потому, что тракторные заводы вообще-то предназначались для выпуска танков. Оттого трактора получались громоздкие, тяжелые и не очень приспособленные для работы на земле.
Не знаю, действительно ли Сталин в 1927 году верил, что крестьян можно добром побудить вступать в колхозы. Думаю, вряд ли он так считал. Ведь на памяти был совсем недавний опыт продразверстки, когда крестьяне не проявляли никакой готовности даром отдавать хлеб, а оказывали продотрядам вооруженное сопротивление и поднимали восстания. Дать же им что-то существенное взамен за сданный хлеб государство не могло ни в 1918 году, ни в конце 20-х годов. Ведь тогда даже костюмы, платья и сапоги выдавались только по ордерам. Развивать же в ходе первых пятилеток планировалось только тяжелую промышленность, которая никак не могла уменьшить потребительский голод в стране. К 1927 году валовой сбор зерна был уже почти на уровне довоенного 1913 года, а вот товарная часть урожая составляла лишь 37 процентов от уровня царских времен. Крестьяне побогаче, кулаки и середняки, не торопились продавать урожай, поскольку на вырученные деньги мало что можно было купить. Так что Сталин и в 1927 году наверняка понимал, что крестьян придется загонять в колхозы «в порядке нажима». А Бухарин еще питал иллюзии о возможности «мирного врастания» крестьянина в социализм.
Комментируя параллельные официальным демонстрации, устроенные троцкистско-зиновьевской оппозицией в Москве и Ленинграде 7 ноября 1927 года, и другие акции своих противников, Сталин заявил: «Необходимость со всей ясностью поставить вопрос о троцкистской подпольной организации диктуется всей ее деятельностью последнего времени, которая заставляет партию и Советскую власть относиться к троцкистам принципиально иначе, чем относилась к ним партия до XV съезда.
7 ноября 1927 года открытое выступление троцкистов на улице было тем переломным моментом, когда троцкистская организация показала, что она порывает не только с партийностью, но и с советским режимом.
Этому выступлению предшествовал целый ряд антипартийных и антисоветских действий: насильственный захват государственного помещения для собрания (МВТУ), организация подпольных типографий и т. п. …
Год, прошедший со времени XV съезда, показал правильность решения XV съезда, исключившего активных деятелей троцкистов из партии. В течение 1928 года троцкисты завершили свое превращение из подпольной антипартийной группы в подпольную антисоветскую организацию. В этом то новое, что заставило в течение 1928 года органы Советской власти принимать репрессивные мероприятия по отношению к деятелям этой подпольной антисоветской организации.
Не могут органы власти пролетарской диктатуры допускать, чтобы в стране диктатуры пролетариата существовала подпольная организация, хотя бы и ничтожная по числу своих членов, но имеющая все же свои типографии, свои комитеты, пытающаяся организовать антисоветские стачки, скатывающаяся к подготовке своих сторонников к гражданской войне против органов пролетарской диктатуры. Но именно до этого докатились троцкисты, бывшие некогда фракцией внутри партии и ставшие теперь подпольной антисоветской организацией.
Понятно, что все, что есть в стране антисоветского, меньшевистского, все это выражает сочувствие троцкистам и группируется теперь вокруг троцкистов».
А еще раньше, в докладе на XV Всесоюзной партконференции 1 ноября 1926 года Сталин заявил, обращаясь к троцкистам: «Партия не может больше терпеть и не будет терпеть, чтобы вы каждый раз, когда вы остаетесь в меньшинстве, выходили на улицу, объявляли кризис в партии и трепали партию… Партия не может и не будет терпеть того, чтобы вы, шельмуя партийный руководящий аппарат и ломая режим в партии, ломая железную дисциплину, объединяли и оформляли все и всякие осужденные партией течения в новую партию, под флагом свободы фракций… Мы знаем, что у нас имеются большие трудности на путях строительства социализма. Мы видим эти трудности и имеем возможность преодолевать их. Мы приветствовали бы всякую помощь со стороны оппозиции в преодолении этих трудностей. Но партия не может и не будет терпеть того, чтобы вы делали попытки использовать эти трудности для ухудшения нашего положения, для нападения на партию, для атак против партии… Партия не может и не будет терпеть того, чтобы оппозиционеры продолжали и впредь сеять идейную сумятицу в партии, преувеличивать наши трудности, культивировать пораженческие настроения, проповедовать идею невозможности построения социализма в нашей стране и подрывать тем самым основы ленинизма. Партия не может и не будет терпеть этого».
Фактически Троцкий и его сторонники не могли быть терпимы в тоталитарной системе, поскольку угрожали создать конкурирующую со сталинской вторую политическую партию, подвергали сомнению декларируемые Сталиным догматы, критиковали, и отнюдь нелицеприятно, его действия. А Сталину нужна была только одна, истинно верная линия, которая не должна была вызывать сомнения ни у рабочих, ни у крестьян. Интеллигенция пусть сомневается, лишь бы помалкивала. И столь же опасны были призывы повысить зарплату рабочим в тот момент, когда для создания тяжелой промышленности, предназначенной для войны, требовалось потуже затянуть пояса. Подготовку к войне можно было осуществлять в советских условиях только в отсутствие всякой оппозиции. Троцкий, Зиновьев, Каменев, а потом Бухарин, Рыков, Томский были обречены. Ради идеологической монолитности общества их требовалось уничтожить, сначала морально, а потом физически.
Кстати, на той же XV партконференции Троцкий как будто начал допускать возможность, что капитализм, быть может, еще совсем не загнивает, и тогда не только мировая пролетарская революция невозможна в сколько-нибудь обозримом будущем, но и Октябрьская революция в России теряет смысл. Лев Давыдович гнал от себя эту мысль, бежал от нее, как черт от ладана, но все же рискнул высказать товарищам по партии, пребывать в которой ему осталось всего лишь год, крамольное предположение: «А что же будет, если и в тридцать лет не будет мировой революции? Думаете ли вы, что капитализм может обеспечить себе новую полосу подъема, расширенное воспроизведение того процесса, который был до империалистической войны? Если считать, что это возможно (а я полагаю, что на это шансов у капитализма нет), если теоретически это допустить, то это означало бы, что капитализм в европейском и мировом масштабе своей миссии не исчерпал, что это не империалистический загнивающий капитализм, а развивающийся капитализм, ведущий хозяйство и культуру вперед, – но это означало бы, что мы пришли слишком рано».
Сталина подобные «тонкие материи» не волновали. Ему была важна власть, а не идея. Кобе важно было получить в свои руки власть в одной стране, а потом употребить ее и для достижения господства в соседних государствах, а дальше – как бог даст. Если при этом местный пролетариат восстанет, Красной Армии – очень хорошо. Но в идеале Красную Армию надо сделать настолько мощной, чтобы она не зависела от симпатий и антипатий иностранных трудящихся, а сам Сталин – от позиций местных компартий. Для того же, чтобы Красная Армия была сильной, нужна индустриализация, что и требовалось доказать.
В борьбе с троцкистами Сталин, пусть и не открыто, использовал, в форме своеобразной «серой» пропаганды, еврейское происхождение лидеров оппозиции, играя на антисемитских настроениях значительной части народа. Замечу, что в борьбе с руководством правых этот тезис был бесполезен, поскольку верхушка этой группировки состояла из этнических русских. А вот по отношению к молодым марксистам – теоретикам и журналистам из так называемой «школы Бухарина» этот прием также использовался, но в достаточно прикрытом виде.
В феврале 1937 года в статье «Термидор и антисемитизм» Троцкий утверждал: «Во время последнего московского процесса («параллельного троцкистского центра» в январе 1937 года. – Б. С.) я отметил в одном из своих заявлений, что в борьбе с оппозицией Сталин эксплуатирует антисемитские настроения в стране…
Евреи – типично городское население. На Украине, в Белоруссии, даже в Великороссии они составляют значительный процент городского населения. Советский режим нуждается в таком количестве чиновников, как никакой другой режим в мире. Чиновники вербуются из более культурного городского населения. Естественно, если евреи занимают в среде бюрократии, особенно в ее нижних и средних слоях, непропорционально большое место… Ненависть крестьян и рабочих к бюрократии есть основной факт советской жизни (поэтому в Великую Отечественную войну население, особенно на недавно присоединенных территориях, нередко с энтузиазмом выдавало немцам партийных функционеров. – Б. С.). Деспотический режим, преследование всякой критики, удушение живой мысли, наконец, судебные подлоги представляют собой лишь отражение этого основного факта. Даже априорно невозможно допустить, чтобы ненависть к бюрократии не принимала антисемитской окраски, по крайней мере там, где чиновники-евреи составляют значительный процент населения.
В 1923 году я на партийной конференции большевистской партии Украины выставил требование: чиновник должен уметь говорить и писать на языке окружающего населения. Сколько по этому поводу было иронических замечаний, исходивших в значительной мере от еврейской интеллигенции, которая говорила и писала по-русски и не хотела учиться украинскому языку! Надо признать, что в этом отношении положение значительно изменилось к лучшему. Но мало изменился национальный состав бюрократии и, что неизмеримо важнее, антагонизм между населением и бюрократией чудовищно возрос за последние 10–12 лет. О наличии антисемитизма, причем не только старого, но и нового, «советского», свидетельствуют решительно все серьезные и честные наблюдатели, особенно те, которым приходилось длительное время жить среди трудящихся масс.
Советский чиновник чувствует себя морально в осажденном лагере. Он стремится всеми силами выскочить из своей изолированности. Политика Сталина по крайней мере на 50 % продиктована этим стремлением. Сюда относятся: лжесоциалистическая демагогия («социализм уже осуществлен», «Сталин даст, дает, дал народу счастливую жизнь» и пр. и пр.); 2) политические и экономические меры, которые вокруг бюрократии должны создать широкий слой новой аристократии (непропорционально высокий заработок стахановцев, чины, ордена, новая «знать» и пр.) и 3) подлаживание к националистическим чувствам и предрассудкам отсталых слоев населения…
Мои сыновья со дня рождения носят фамилию своей матери (Седова). Никогда никакой другой фамилии у них не было – ни в школе, ни в университете, ни в дальнейшей деятельности. Что касается меня, то я в течение 34 лет ношу фамилию Троцкий. За советский период никто и никогда не называл меня фамилией Бронштейн (строго говоря, называли. Например, Маяковский в поэме 1927 года «Хорошо» вложил в уста контрреволюционно настроенного штабс-капитана Попова (прототипом которого послужил вполне реальный мемуарист и писатель штабс-капитан 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского полка Константин Сергеевич Попов) следующую тираду: «Офицерам – Суворова, Голенищева-Кутузова благодаря политикам ловким быть под началом Бронштейна бескартузого, какого-то бесштанного Левки?!» – Б. С.), как Сталина никто не называл Джугашвили. Чтоб не заставлять сыновей менять фамилию, я для «гражданских» надобностей принял фамилию жены (что по советским законам вполне допускается). После того, однако, как мой сын Сергей Седов был привлечен по совершенно невероятному обвинению в подготовке истребления рабочих, ГПУ сообщило советской и иностранной печати, что «настоящая»(!) фамилия моего сына не Седов, а Бронштейн. Если б эти фальшивомонетчики хотели подчеркнуть связь обвиняемого со мной, они назвали бы фамилию Троцкого, ибо политически фамилия Бронштейн никому ничего не говорит. Но им нужно было другое, именно: подчеркнуть мое еврейское происхождение и полуеврейское происхождение моего сына. Я остановился на этом эпизоде только потому, что он имеет животрепещущий и отнюдь не исключительный характер. Вся борьба против оппозиции полна таких эпизодов.
Между 1923 и 1926 годом, когда Сталин входил еще в «тройку» с Зиновьевым и Каменевым, игра на струнах антисемитизма носила очень осторожный и замаскированный характер. Особо вышколенные агитаторы (Сталин уже тогда вел подспудную борьбу против своих союзников) говорили, что последователями Троцкого являются мелкие буржуа из «местечек», не определяя национальности. На самом деле это было неверно (действительно, трудно было вообразить себе не только евреев-нэпманов, но и мелких торговцев и ремесленников, которые были бы в большом восторге от Троцкого, с именем которого связывались террор и насилие в отношении «буржуазии». – Б. С.). Процент еврейской интеллигенции в оппозиции был, во всяком случае, не выше, чем в партии и в бюрократии. Достаточно назвать штаб оппозиции 23—25-х годов: И.Н. Смирнов, Серебряков, Раковский, Пятаков, Преображенский, Крестинский, Муралов, Белобородов, Мрачковский, В. Яковлева, Сапронов, В.М. Смирнов, Ищенко – сплошь коренные русские люди (строго говоря, из приведенного списка Раковский (Станчев) был болгарином, Мрачковский, скорее всего, имел если не еврейские, то польские корни, а Ищенко, скорее всего, был украинцем. Однако в целом преобладание в этом списке троцкистов этнических русских несомненно. – Б. С.). Радек в тот период был только полусочувствующим. Но, как и в судебных процессах взяточников и других негодяев, так и при исключении оппозиционеров из партии бюрократия охотно выдвигала случайные и второстепенные еврейские имена на первый план. Об этом совершенно открыто говорилось в партии, и в этом обстоятельстве оппозиция уже в 1925 году видела безошибочный симптом загнивания правящего слоя.
После перехода Зиновьева и Каменева в оппозицию положение резко изменилось к худшему. Теперь открылась полная возможность говорить рабочим, что во главе оппозиции стоят «три недовольных еврейских интеллигента». По директиве Сталина Угланов в Москве и Киров в Ленинграде проводили эту линию систематически и почти совершенно открыто. Чтоб легче демонстрировать перед рабочими различие между «старым» курсом и «новым», евреи, хотя бы и беззаветно преданные генеральной линии, снимались с ответственных партийных и советских постов. Не только в деревне, но даже на московских заводах травля оппозиции уже в 1926 году принимала нередко совершенно явный антисемитский характер. Многие агитаторы прямо говорили: «Бунтуют жиды». У меня были сотни писем, клеймившие антисемитские приемы в борьбе с оппозицией.
На одном из заседаний Политбюро я написал Бухарину записку: «Вы не можете не знать, что даже в Москве в борьбе против оппозиции применяются методы черносотенной демагогии (антисемитизма и пр.)». Бухарин уклончиво ответил мне на той же бумажке: «Отдельные случаи, конечно, возможны». Я снова написал ему: «Я имею в виду не отдельные случаи, а систематическую агитацию партийных секретарей на больших московских предприятиях. Согласны ли вы отправиться со мной для расследования, например, на фабрику «Скороход» (я знаю ряд других предприятий)». Бухарин ответил: «Что ж, можно отправиться…» Тщетно, однако, я пробовал заставить его выполнить обещание: Сталин строго-настрого запретил ему это.
В месяцы подготовки исключения оппозиции из партии, арестов и ссылок (вторая половина 1927 года) антисемитская агитация приобрела совершенно разнузданный характер. Лозунг «бей оппозицию» окрашивался нередко старым лозунгом: «Бей жидов, спасай Россию». Дело зашло так далеко, что Сталин оказался вынужден выступить с печатным заявлением, которое гласило: «Мы боремся против Троцкого, Зиновьева, Каменева не потому, что они евреи, а потому, что они оппозиционеры» и пр. Для всякого политически мыслящего человека было совершенно ясно, что это сознательно двусмысленное заявление, направленное против «эксцессов» антисемитизма, в то же время совершенно преднамеренно питало его. «Не забывайте, что вожди оппозиции – евреи», таков был смысл заявления Сталина, напечатанного во всех советских газетах. Когда оппозиция в ответ на репрессии перешла к более открытой и решительной борьбе, Сталин в виде многозначительной «шутки» сказал Пятакову и Преображенскому: «Вы теперь против ЦК прямо с топорами выходите, тут видать вашу «православную» работу; Троцкий действует потихоньку, а не с топором». Пятаков и Преображенский рассказали мне об этом разговоре с горячим возмущением. Попытки противопоставить мне «православное» ядро оппозиции делались Сталиным десятки раз».
Оппозиционеры, будучи интернационалистами и сторонниками мировой революции, никогда не опускались в антисталинской пропаганде до тезиса, например, о «кавказском засилье» в Политбюро. Хотя повод для подобной спекуляции на чувствах славянского большинства был – в сталинской группировке в Политбюро, кроме Сталина, были еще Орджоникидзе и Микоян, а позднее, в 1939 году, кандидатом в члены Политбюро Берия, которому и довелось организовать убийство Троцкого.
В дальнейшем, в 30-е годы, слово «троцкист» стало синонимом слова «враг». Самыми страшными политическими статьями стали «контрреволюционно-троцкистская» и «троцкистско-террористическая» деятельность. Сторонников Троцкого обвиняли в шпионаже в пользу всех «империалистических держав», в том числе и нацистской Германии, объявляли их «пятой колонной» Германии и Японии в СССР, обвиняли в террористических намерениях против Сталина и других партийных и государственных руководителей. Троцкистами называли не только действительных сторонников Троцкого, но и всех, к кому НКВД намеревался применить особо жестокие политические репрессии. Троцкистами называли и сторонников Бухарина, и деятелей прежней «рабочей оппозиции», и «децистов», и любых других участников партийных оппозиций. Да и вообще всех, кто особо не нравился органам, даже если в оппозициях и даже в партии несчастный никогда не состоял. Считалось, что все троцкисты – изменники и предатели, которые спят и видят, как бы помочь иностранным интервентам поработить Советскую страну.
Действительность Великой Отечественной войны, разумеется, все эти пропагандистские построения начисто опровергла. Из настоящих троцкистов никто не встал и не мог встать в ряды вермахта, не стал пособником Гитлера. Да иного и нельзя было ожидать. И не только потому, что среди сторонников Троцкого было значительное число (но отнюдь не большинство) евреев, которым расовая доктрина Третьего рейха не оставляла места на земле. Главным было то, что троцкисты были искренними приверженцами идеи мировой пролетарской революции и ни с какими империалистами, а тем более фашистами (нацистами) сотрудничать никогда не собирались, даже если бы ценой такого сотрудничества можно было надеяться свергнуть горячо ненавидимого ими Сталина. Видный деятель троцкистского подполья на Украине в начале 30-х годов журналист Эммануил Казакевич, ставший впоследствии известным писателем, войну начал в ополчении, а закончил ее в Германии помощником начальника разведки армии. Видный троцкист поэт Иосиф Уткин в 1944 году погиб на фронте. Многие другие троцкисты вступили в ополчение рядовыми (офицерами их не брали из-за неблагонадежности, несмотря на то, что многие имели опыт командования в гражданскую войну), и уцелевшие порой сделали довольно успешную карьеру. Кадры же коллаборационистов рекрутировались совсем из других людей. Прежде всего, это были сторонники национальных партий, выступавших за независимость соответствующих территорий, особенно на Северном Кавказе, а также донские и кубанские казаки, жители недавно присоединенных Прибалтики и Западной Украины и Западной Белоруссии, а также некоторые ветераны Белого движения, ориентировавшиеся на ту (меньшую) часть белой эмиграции, которая сотрудничала с Гитлером. Наиболее крупное русское коллаборационистское движение – Русскую освободительную армию возглавил кадровый генерал Красной Армии А.А. Власов, всю свою карьеру сделавший при Сталине и ни в каких партийных оппозициях никогда не состоявший. Среди других руководителей РОА были как люди, подвергшиеся репрессиям (Малышкин, Мальцев), или выходцы из дворян (Трухин), но и вполне правоверный сталинский партийный функционер Жиленков. Сложнее обстоит дело с одним из идеологов власовского движения М. Зыковым, чья подлинная биография до сих пор не написана (он бесследно исчез в Берлине в 1944 году). Однако, судя по имеющимся отрывочным сведениям, он был сторонником не Троцкого, а Бухарина, хотя, возможно, и не подвергся за это репрессиям и, во всяком случае, избежал ГУЛАГа.
Руководителей же другого крупного коллаборационистского формирования – Русской освободительной народной армии (РОНА) – инженеров Воскобойника и Каминского, НКВД причислял к сторонникам мифической Трудовой крестьянской партии. Изучение же документов РОНА заставляет думать, что взгляды ее создателей были близки эсеровским, например лозунг «Все для народа, все через народ».
Террористических намерений, которые им приписывал Сталин, троцкисты в действительности не имели, и уж тем более они не были агентами иностранных государств. Деятельность троцкистского подполья ограничивалась агитацией – распространяли печатавшийся за границей «Бюллетень оппозиции» или сами изготовляли листовки. Особой угрозы Сталину от этой деятельности, надо признать, никогда не было. Тиражи троцкистских листовок были мизерными, их авторы чаще всего рано или поздно попадали в руки ОГПУ – НКВД, и большого влияния на общество троцкистская пропаганда иметь никак не могла.
В отличие от троцкистов, которые действительно боролись против Сталина, в том числе и в подполье, те, кого Сталин отнес к «правому уклону», борьбы против него не вели. Бухарин, Рыков, Томский и другие вместе со Сталиным громили Троцкого и Зиновьева. Когда же между ними и Сталиным обнаружились принципиальные разногласия по вопросу о методах и темпах коллективизации сельского хозяйства, то «правые», в отличие от троцкистов, не пытались сместить Сталина с поста генсека, а лишь старались убедить его в правильности своего курса. Лишь когда стало ясно, что это – пустая затея, Бухарин и Рыков в июле 1928 года попытались вступить в союз с опальными Сокольниковым и Каменевым, но не представляя ни способов, каким может быть осуществлен подобный блок, ни методов, какими надо бороться со Сталиным. Этим они лишь приблизили свой трагический конец. Тем более, что троцкисты, когда в начале 1929 года стало ясно, что песенка Бухарина спета, обнародовали факт встречи и содержание переговоров Каменева и Бухарина в специальной листовке. После этого доверие Сталина к Бухарину было подорвано окончательно и бесповоротно.
Сталин, выступая на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 года, утверждал: «Рыков говорил здесь в своей речи, что генеральная линия у нас одна, и если у нас имеются некоторые «незначительные» разногласия, то это потому, что существуют оттенки в понимании генеральной линии.
Верно ли это? К сожалению, неверно. И не только неверно, но прямо противоположно истине. В самом деле, если линия у нас одна и существуют между нами лишь оттенки, то почему Бухарин бегал ко вчерашним троцкистам, во главе с Каменевым, пытаясь устроить с ними фракционный блок против ЦК и его Политбюро? Разве это не факт, что Бухарин говорил там о «гибельности» линии ЦК, о принципиальных разногласиях Бухарина, Томского и Рыкова с ЦК партии, о необходимости коренного изменения состава Политбюро? Если линия одна, почему Бухарин конспирировал со вчерашними троцкистами против ЦК и почему его поддерживали в этом деле Рыков и Томский? Если генеральная линия одна, то как можно допустить, чтобы одна часть Политбюро, придерживающаяся одной общей генеральной линии, строила подкопы против другой части Политбюро, придерживающейся той же самой генеральной линии?
Разве можно допускать такую политику перелетов при наличии одной общей генеральной линии?..
Рыков уверял здесь, что Бухарин является одним из самых «безупречных» и «лояльных» членов партии в отношении ЦК нашей партии.
Позвольте в этом усомниться. Мы не можем верить на слово Рыкову. Мы требуем фактов. А фактов-то и нет у Рыкова.
Взять, например, такой факт, как закулисные переговоры Бухарина с группой Каменева, связанной с троцкистами, об организации фракционного блока, об изменении политики ЦК, об изменении состава Политбюро, об использовании хлебозаготовительного кризиса для выступления против ЦК. Спрашивается, где же тут «лояльность», «безупречность» Бухарина в отношении своего ЦК?
Не есть ли это, наоборот, нарушение всякой лояльности со стороны одного из членов Политбюро в отношении своего ЦК, в отношении своей партии? Если это называется лояльностью в отношении ЦК, то что называется тогда предательством своего ЦК?
Бухарин любит говорить о лояльности, о честности, но почему он не попытается взглянуть на себя и спросить себя: не нарушает ли он самым нечестным образом элементарные требования лояльности в отношении своего ЦК, ведя закулисные переговоры с троцкистами против своего ЦК и предавая таким образом свой ЦК?
Бухарин говорил здесь об отсутствии коллективного руководства в ЦК партии, уверяя нас, что требования коллективного руководства нарушаются большинством Политбюро ЦК…
Конечно, наш пленум все терпит. Он может стерпеть и это бесстыдное и лицемерное заявление Бухарина. Но нужно действительно потерять чувство стыда, чтобы взять на себя смелость выступить на пленуме в таком духе против большинства ЦК.






