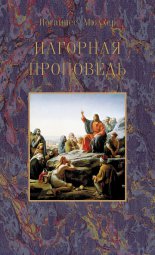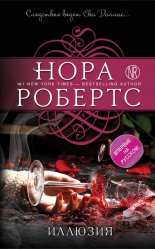Сесиль. Стина (сборник) Фонтане Теодор

Глава десятая
Гордон еще раз пробежал глазами письмо и остался доволен своей характеристикой Сесили. Но то, что он написал о Сент-Арно, показалось ему недостаточным и побудило приписать еще несколько слов.
«Дорогая Клото, – нацарапал он на полях, – я только что перечитал мое длинное послание и нахожу, что портрет Сент-Арно нуждается в ретуши. Хочу добиться большего сходства с оригиналом, хотя бы и за счет его привлекательности. Если я представляю его тебе как гвардейского полковника comme il faut, то это верно, но лишь с одной стороны. По крайней мере, с тем же правом я могу характеризовать его как старого холостяка из высших слоев общества. Нельзя представить себе что-либо более неженатое, чем он, несмотря на всю его куртуазность, а иногда даже заботливую внимательность по отношению к молодой жене. Но все это кажется показным и, если не полностью, то во всяком случае больше чем наполовину, объясняется светской привычкой ухаживать за дамами. К тому же у него какой-то „смущенный взгляд“. В этом он похож на Сесиль, но ей застенчивость идет, более того, усиливает ее очарование, а в нем – отталкивает. В какие-то моменты он, страшно сказать, производит впечатление игрока и бретера, который здесь, в Тале, разыгрывает добряка и копит силы для новой кампании. Надеюсь, что теперь ты поймешь, чем вызвано мое любопытство. Еще раз, Бог в помощь.
Твой Роби».
Лишь теперь он сунул письмо в конверт и отправился в читальню, дабы углубиться в «Таймс», чтение коей вошло у него в привычку с его индийско-персидских дней.
Пока Гордон сочинял письмо, супруги Сент-Арно, как всегда после завтрака, совершали утренний моцион. Когда они дважды обошли большой парковый луг, Сесиль устало присела на скамью, скрытую в тени кустов сирени и ракитника. Это было укромное место, до полудня самое красивое в парке, откуда можно было любоваться не только лесистым склоном, возвышавшимся прямо перед взором наблюдателя, но и Лысой горой, и Конским копытом, с их поблескивающими на солнце крышами гостиниц. Погода стояла тихая, лишь изредка тишину нарушал легкий порыв ветра.
Сесиль, занимавшая самое тенистое место, закрыла зонтик.
– Разумеется, – заметила она, – барышня очень интересна, но все же слишком эмансипирована, или, если угодно, слишком уверена в себе и самонадеянна. Ты говоришь, она художница? Хорошо. Но что значит художница? Иногда она так умничает и задается, словно приходится Гордону троюродной бабушкой.
– Ну и пусть.
– Пусть, – согласилась Сесиль. – Если бы не сплетни.
– Сплетни, – язвительно повторил Сент-Арно слово, которое всегда его нервировало.
Но Сесиль, обычно столь чуткая к его интонации, сегодня пропустила ее мимо ушей. Указывая зонтиком на фронтон стоявшего поблизости дома, выглядывавший из-за купы деревьев, она сказала:
– Это Хубертусбад, да? И как же прошел вчерашний концерт? Я открыла окно и успела услышать последний номер: «Поедем со мною в мой замок»[61]. И представила Розу в роли Церлины[62].
– А Сесиль в роли Донны Эльвиры.
Она от души рассмеялась, потому что Сент-Арно произнес это с симпатией, без всякого упрека или раздражения.
– Донна Эльвира, – повторила она. – Роль отвергнутой презираемой женщины! Признаюсь, я бы этого не вынесла. Как подумаю, что бывают обиды…
– … терпеть которые еще труднее, чем те, что должны переносить мы. Да, Сесиль, говори смело, меня ты можешь не стесняться. И тебе следует помнить об этом каждый день. Конечно, легче проповедовать мораль, чем жить по ее правилам. Но мы должны хотя бы попытаться.
Каждое слово действовало на нее благотворно. Прижавшись к нему в мимолетном порыве нежности, она сказала:
– Как ты все верно сказал. Вроде бы я склонна хандрить. А ты наоборот. Ах, Пьер, нам пришлось искать тихое место, вдали от большого города, чтобы избежать разных неприятностей. Хорошо найти тихое место, а лучше несколько таких мест, и переезжать из одного в другое. Какая здесь легкая и приятная жизнь. А почему? Потому что постоянно заводишь новые отношения и знакомства. Вот оно, преимущество путешествий, живешь минутой и вообще получаешь все, что тебе нравится.
– И все-таки «жить на чемоданах» трудновато. Не каждый день встречаешь безупречного кавалера, в котором добродетели военного воспитания сочетаются с учтивостью светского денди. Ты знаешь, кого я имею в виду. Какие обширные познания – и абсолютное отсутствие хвастовства. У него восхитительные манеры; словно он стесняется, что пережил так много испытаний.
Она согласно кивнула.
– Вчера вечером, когда вы с ним вместе провожали эту барышню с концерта до отеля, ты имел разговор с господином фон Гордоном. Я стояла у окна и видела, как вы прохаживались по тропинке, усыпанной гравием. Расскажи. Ты знаешь, вообще-то я не любопытна, но уж если чем-то интересуюсь…
– То?
– То de tout mon coeur[63]. Итак, что он такое? Почему отправился странствовать по свету? Такой видный мужчина, знатного рода, ведь шотландцы все из хороших семей. Среди наших кавалеров при дворе… Вот откуда я это знаю. Впрочем, я вовсе не прошу читать мне лекцию о шотландской аристократии. Так почему он вышел в отставку?
Сент-Арно рассмеялся.
– Дорогая моя Сесиль, тебя ждет жестокое разочарование. Он вышел в отставку…
– Ну?
– Просто из-за долгов. И с этого момента начинается его карьера, самая банальная карьера наемника. Сначала наш chevalier errant[64] служил в саперах в Магдебурге, потом в железнодорожном батальоне под командованием Гольца. В этом отряде народ достаточно умен и ловок, чтобы не влезать в долги. Но у каждого правила есть исключения. Короче, он не удержался. И переселился (если в его положении уместно говорить о переселении) в Англию, где надеялся найти практическое применение своим научным познаниям. Это ему удалось, и в середине семидесятых, по поручению одного английского общества, он отправился в Суэц прокладывать кабель через Красное море и Персидский залив. Ты вряд ли представляешь себе, где это, но я покажу тебе на карте…
– Рассказывай дальше.
– Позже он служил в Персии, где под его руководством была проведена телеграфная связь между двумя столицами, после чего поступил на русскую службу. Как раз в это время Скобелев, которого ты помнишь по Варшаве, праздновал победу под Самаркандом. Позже, когда театр военных действий переместился, Гордон был с этим генералом под Плевной[65]. Но среди русских усилилась ненависть ко всему немецкому, и служба в России стала невыносимой. Он вышел в отставку, и ему удалось восстановить прежние связи. В настоящий момент он является уполномоченным той самой английской фирмы, где начинал свою карьеру, и занимается прокладыванием нового кабеля в Северном море. Однако же он страстно желает вернуться на прусскую службу, чего он, без сомнения, добьется, так как имеет протекцию в верхах.
– И это все?
– Но Сесиль…
– Ты прав, – рассмеялась она. – Жизнь довольно бурная. Но я и в самом деле нахожу, что прокладывать какую-то проволоку или кабель вдоль неизвестного мне берега (а сколько берегов мне неизвестно) столь же банально, как залезать в долги.
– А что же, по-твоему, не банально? Соблаговоли удовлетворить мое любопытство.
– Ну, например, жизнь Регенштайнера. Она намного романтичнее. И уж если ты не можешь стать Регенштайнером, тебе остаются приключения, охота на тигров, пустыня, блуждания…
– Географические блуждания или моральные заблуждения?
– И то, и другое.
– Ну, кто знает, чужая душа потемки. Не мог же он сразу посвятить меня в свои сердечные дела. Но ты только взгляни…
Порыв ветра, только что налетевший на большую клумбу столетних роз, поднял и понес к Сесили целое облако розовых лепестков.
– Ты только взгляни, – повторил полковник, и в этот самый миг лепестки, которым преградил путь куст сирени, упали к ногам прекрасной дамы.
– Ах, как красиво, – сказала Сесиль. – Для меня это добрая примета.
И она наклонилась, подняла один из лепестков и прижала к губам. Потом встала, весело взяла под руку Сент-Арно и направилась к гостинице.
Глава одиннадцатая
До обеда оставалось еще довольно много времени. Сент-Арно, большой любитель географических карт, намеревался углубиться в изучение карты Гарца. Сесиль, напротив, хотела отдохнуть.
– Разбуди меня, Пьер, минут через десять, – сказала она, укладываясь на шезлонге и укрываясь лежавшей на коленях шалью. И тут же заснула, подложив левую руку под красивую голову и придерживая шаль правой рукой.
Через два часа все собрались за общим столом. На этот раз хозяин, никогда не упускавший из виду предпочтения и желания гостей, разместил сотрапезников по-новому. Супруги Сент-Арно остались на прежнем месте, однако Гордон был посажен не напротив Сесили, а слева от нее, священник занял освободившееся место визави, а слегка приведший себя в порядок приват-доцент (ибо именно таковым он оказался) получил место рядом с ним. Роза отсутствовала. Гордон появился, когда уже разносили суп, и как солдат был несколько смущен своим опозданием. Но еще больше его смутило новое размещение гостей.
– Право, не знаю, – обратился он к Сесили, – чем я заслужил такое предпочтение со стороны хозяина. Я ведь пью содовую воду, а не шампанское.
Замечание это вызвало игривую светскую улыбку пенсионера, в то время как приват-доцент, оценив всю серьезность ситуации, сдвинул на лоб очки в роговой оправе и уставился на Гордона скорее с научно-исследовательским, чем с обычным вежливым интересом. Но внимание Гордона было настолько поглощено красивой женщиной, что он не замечал ни ухмылки пенсионера, ни пристального взгляда естествоиспытателя из Аскании. Не покидавшее его волнение прорывалось в быстрых вопросах, касавшихся мелких происшествий кведлинбургской экскурсии, фамильного склепа, Роланда и дома Клопштока, который (и тут Сесиль рассмеялась с ним вместе) «к сожалению, оказался слишком уж зеленым». Напрашивались и другие вопросы, и только об аббатисах и, в частности, о портрете красавицы-графини Авроры Гордон не упомянул ни единым словом.
– Но я заболтался, – вдруг перебил он сам себя, – и не удосужился спросить о главном, о вашем самочувствии, мадам. Мне показалось, что на обратном пути здоровье ваше подверглось серьезной опасности. Не могу припомнить таких поездов, даже в Америке, где, как известно, все помешались на «свежем воздухе». Ох, как я ненавижу эти большие салон-вагоны, где самомалейшая осторожность обречена на фиаско. Ведь по правилам вы можете закрыть лишь одно окно, но разве это поможет? Шесть остальных окон, за которыми нельзя уследить из-за разного рода перегородок (воистину коварный умысел конструкторов), обеспечат вам постоянный перекрестный сквозняк. Вчера вы, наверное, обратили внимание на толстенького господина в соседнем купе? Это он был виноват. Устроил настоящий скандал, с треском опустил все закрытые окна, и при этом озирался с таким гордым и вызывающим видом, что у меня не хватило духу помешать его убийственной деятельности. Ох уж, эти мне энтузиасты проветривания!
– Но, может быть, – заметил Сент-Арно, – его антагонист, ненавистник проветривания, еще опаснее, чем этот энтузиаст? Не знаю.
– Если сравнивать две крайности, вы, безусловно, правы. Избыток свежего воздуха всегда лучше, чем недостаток. Но если не брать в расчет крайние случаи, то я отдаю предпочтение врагу проветривания. Он может оказаться столь же назойливым, как и его противник, столь же опасным для здоровья и даже, если угодно, более опасным; но он не так оскорбителен. Дело в том, что энтузиаст проветривания отличается чувством безусловного превосходства, считая себя защитником не только здоровья, но и нравственности, морали, чистоты. Тот, кто открывает все окна настежь, – свободен, смел, всегда герой. Тот, кто их закрывает, – всегда слабак, трус, un lche[66]. И несчастному закрывателю окон это известно, поэтому он робок и скрытен и предпочитает дождаться момента, когда его противник вроде бы уснет. Но враг не дремлет, он всегда настороже, ибо воодушевлен высшей нравственностью. Пылая праведным гневом, он вскакивает и снова открывает настежь окна, в точности как вчерашний толстячок. Можно держать пари десять к одному, что противник сквозняка и ветра всегда исполнен робости и смирения, а энтузиаст свежего воздуха одержим духом противоречия.
– Отлично сказано, – вмешался пенсионер.
– Однако, – продолжал Гордон, – нам подают форель, мадам. Это важный повод отложить на время наш спорный вопрос. Могу я предложить вам вот этот великолепный экземпляр? И немного масла. Обратите внимание на вон ту странную масляную птичку на втором блюде, такую желтую-желтую с глазками из двух перечных зерен. Есть в ней что-то гротескное, даже жуткое. Кондитеры и повара отличаются самой извращенной творческой фантазией.
– С чем не могу не согласиться, – заявил длинноволосый приват-доцент, впадая в научный раж. – Однако же я, с вашего позволения, должен констатировать, что из общего правила бывают случайные исключения. Известная немецкая сказка, разговор о происхождении коей завел бы нас слишком далеко. Позвольте представиться: Эгинхард Аусдемгрунде. Эта немецкая сказка с древнейших времен повествует об идеальном пряничном доме. Пряничный дом как идея – вот что подлежит констатации. Если теперь, благодаря прихоти кондитеров, мы можем воочию увидеть вещь, до сих пор лишь маячившую в нашем воображении, то в чем же тогда заключается прегрешение против хорошего вкуса? Ответ на этот вопрос отнюдь не представляется мне легким. Вы можете ответить «да» или «нет», но в обоих случаях ваш ответ никак нельзя полагать неоспоримым. Лично меня, признаюсь в этом открыто, он касается в том смысле, что каждое Рождество у Дегенбродта на Лейпцигской улице я имею возможность осязать и обонять пряник, каковой еще несколько лет назад существовал лишь в идее. А ныне Дегенбродт специализируется на его выпекании. Это обогащает фантазию, нисколько ее не парализуя. Реализм, искажающий нашу эпоху и наше искусство, таит в себе опасности, но в то же время, как мне кажется, имеет свой резон и свои преимущества.
– Разумеется, разумеется, – сказал Гордон. – Сдаюсь. Все равно нельзя спорить, когда ешь рыбу. Один мой знакомый профессор подавился рыбной костью и помер.
– У форели нет костей.
– Но есть жабры. И, во всяком случае, хорда. Будьте осторожны, господин профессор.
– Вы приписываете мне звание…
– Пардон. Я полагал… Впрочем, форель в Гарце имеет чрезвычайно тонкий вкус и аромат.
– Форель есть форель.
– Примерно так, как люди есть люди. Белые, черные, ученые – все имеют различный вкус, даже с антропофагической, то есть каннибалической точки зрения, равно как и форели. На вкус они и впрямь совсем разные. Кому ж это знать, как не мне. Если подсчитать, я перепробовал примерно дюжину сортов.
– И где самая лучшая форель?
– В Германии, мадам, альпийские форельки из Боденского озера (они особенно хороши под белое маркграфское), а в Италии – марены из озера Больсена… Но, безусловно, самую прекрасную форель я отведал недавно у себя на родине. Я имею в виду Шотландию, родину моих предков.
– И как она называется?
– Осетровая, из озера Кинросс. Там, посреди озера, в старом замке Дугласов, томилась в заточении Мария Стюарт. И кроме любви Вилли Дугласа, кстати, незаконного, то есть вдвойне обольстительного потомка Дугласов, ее могла утешить разве что осетровая форель.
– И все же, – перебил его пенсионер, – я дерзну утверждать, что рыба у нас в Гарце, то есть у нас в Боде, может потягаться с той, что водится в этом вашем озере…
– Кинросс.
– В озере Кинросс. Пусть не осетровая, и совсем даже не форель, но зато…
–Что?
– … зато у нас голец! Что значит форель по сравнению с гольцом!
– Гольцы? – заинтересовалась Сесиль. – Что это? Вам известно, господин фон Гордон?
– О, разумеется. Помню их с детства. Я всегда был лакомкой и не упущу случая предпринять познавательную экскурсию в обетованную страну гольцовых рыбок. Далеко она отсюда?
– Всего несколько часов пути.
– И где это?
– В Альтенбраке. Так называется большое село на берегу Боде, туда можно попасть через долину, а можно через горы. Но если соберетесь на экскурсию, обычно рекомендуются оба удовольствия, иными словами, туда вы идете через горы, а возвращаетесь по берегу Боде. Первый маршрут проходит мимо охотничьего замка Тодтенроде, а второй мимо крепости Трезебург. Весьма, весьма рекомендую.
– Может быть, сударь, вы присоединитесь к ней и будете нашим проводником?
– С превеликим удовольствием, – согласился пенсионер. – Тем более что мне таким образом представится случай повидаться с человеком, в ком чувство юмора счастливо сочетается с сильным характером, а наивность – с жизненной мудростью.
– И кто же сей счастливец?
– Альтенбракский наставник.
– И что это означает?
– Во-первых, то и означает: учитель. Но не каждый учитель может стать наставником. Назначение моего знакомого (ему сейчас много за семьдесят) состоялось еще в то время, когда в деревнях, где не было сельского священника, учитель получал специальное звание прецептора, то есть наставника. По крайней мере, у нас, в Брауншвейге. Звание сие давало понять, что его обладатель – человек, так сказать, высшего порядка, правомочный и обязанный каждое воскресенье читать для общины Евангелие или даже какую-нибудь назидательную историю из сборника проповедей.
Сесиль, которая до сих пор не слишком интересовалась разглагольствованиями старика о гольцах и чудаках-наставниках, вдруг навострила уши. Свойственная ей мистическая религиозность, к тому же еще усиленная чтением душеспасительных брошюр, заставляла ее прислушиваться всякий раз, когда произносились слова, характерные для миссионеров и разного рода сектантов, прежде всего, разумеется, для мормонов. И хотя в данный момент вроде бы не предвиделось ничего, столь же интересного, она громко сказала, обращаясь через стол к своему сотрапезнику:
– И такой наставник живет в деревне, где водятся гольцы?
– Да, милостивая государыня. Но, к сожалению, бывший наставник больше не наставник, он сложил с себя эту обязанность. Между прочим, вопреки желанию своего церковного начальства.
– Из-за преклонного возраста?
– Отнюдь, сударыня. Его побудила к этому его совесть.
– Но, судя по вашему описанию, почтенный старец не терзается угрызениями совести?
– В известном смысле все-таки терзается.
– О, как интересно. Вы расскажете нам его историю?
– Непременно. Расскажу вдвойне охотно, поскольку она рисует моего друга в самом лестном для него свете. Я упомянул о муках совести, не так ли? Так вот: то, что мы называем угрызениями, всегда говорит о совестливости человека. Совесть – то доброе, хорошее, что поднимается в нас и предъявляет иск к нам самим.
Сесиль смотрела на него во все глаза. Но вскоре поняла, что он ни на что не намекает. И она только дружески кивнула ему, заметив:
– Ну, рассказывайте.
– Ну, рассказываю. В моем старом наставнике вдруг взбунтовалась его чистая нечистая совесть. Произошло это так. По инструкции ему было положено читать прихожанам Евангелие и проповеди. Но когда ему стукнуло семьдесят, и буквы в сборнике проповедей, несмотря на приобретение сильных очков, заплясали у него перед глазами, он поддался тому, что позже назвал наваждением, а именно: оставил все книги дома и принялся вещать с амвона по наитию. Иными словами, он проповедовал не как наставник, но как священник. Так продолжалось несколько лет. Но однажды он вдруг осознал, что в своей гордыне и дерзновении совершает то, что не положено ему по чину. Это показалось ему (и не без оснований) перебором, превышением полномочий и беззаконием. Некоторое время он носил свои сомнения в себе, но наконец набрался решимости и отправился в Брауншвейг, дабы свидетельствовать в консистории[67] против самого себя.
– И что же произошло? – перебил его Сент-Арно. – Боюсь, высокая консистория, как водится, оказалась настолько же мелочной, насколько велик был этот старец.
– Нет, господин полковник, все разрешилось благополучно. И если какой-либо сюжет имеет право на двух героев, то в моей истории их два, поелику советник консистории не уступал в благородстве наставнику. Зная давно о превышении полномочий, он, однако же, учел и другое: с того дня, когда наставник впервые дерзнул превысить полномочия и, нарушив запрет, начал проповедовать по наитию, жители Альтенбрака стали такими усердными прихожанами, какими не были никогда прежде. И вот, поднявшись со своего кресла, советник сказал:
– Мой милый Роденштайн (это фамилия наставника), ваша жалоба отклоняется. Возвращайтесь спокойно в Альтенбрак и продолжайте делать то, что делали до сих пор. Да поможет вам Бог.
И наставник в самом деле вернулся домой. Но, как ни благодарил он советника за его сугубую снисходительность и доброту, в глубине души старик остался при своем мнении и по возвращении подал письменное прошение об отставке и получил на то милостивое соизволение в письменной же форме. С тех пор он живет в своем замке Роденштайн, и лишь приход гостей скрашивает его одиночество.
– В замке Роденштайн?
– Да, его обитель можно так назвать. Во всяком случае, сам он называет ее так. А его называют отшельником из Роденштайна. А замок Роденштайн есть не что иное, как чудесный, возведенный на утесе странноприимный дом или гостиница, хозяин коей, как и его знаменитый тезка, при любых обстоятельствах поднесет вам доброго вина и угостит наилучшими гольцами. Альтенбрак и замок Роденштайн и есть та обетованная земля, о которой я вам рассказывал.
– Значит, мы должны туда отправиться, – сказал Гордон, и Сесиль одобрительно захлопала в ладоши. – Мы должны туда отправиться, чтобы раз и навсегда решить спор между форелями и гольцами. А господин пенсионер возьмет на себя роль нашего предводителя. Он уже дал свое согласие. И господин Эгинхард… простите, запамятовал…
– Аусдемгрунде.
– И господин Эгинхард Аусдемгрунде, – повторил Гордон, отвешивая поклон приват-доценту, – будет сопровождать нас. Не так ли?
Глава двенадцатая
Экскурсия в Альтенбрак была назначена на следующее утро, но до нее оставалось еще много времени, и когда гости, отобедав, вышли в коридор, неоднократно прозвучал вопрос о том, как провести «неожиданно» жаркие послеполуденные часы. Приват-доцент предложил прогулку в долину Бодеталь, однако же его идея не встретила одобрения.
– Только не Бодеталь! – заявил Гордон. – И уж тем более не этот вечный «Лесной кот»[68]. Настоящий кабак на военной дороге. Воняет кухонными помоями и конюшнями, народу полно, кругом валяются промасленные обертки и калеки с гармошками. Нет, нет, я предлагаю Линденберг.
– Линденберг, – решил Сент-Арно, а Сесиль выразила готовность отправиться на прогулку немедленно.
– Сначала тебе следует отдохнуть, – сказал полковник. – В такую жару ты быстро устанешь.
Но красавица, всегда выражавшая несогласие в тех случаях, когда Сент-Арно указывал ей на необходимость в отдыхе или, того хуже, на приступы слабости, возразила и на этот раз. Она еще прежде попросила приват-доцента сопровождать ее, заверив, что «никогда не устанет за хорошей беседой». В ответ на ее реверанс Эгинхард пришел в неописуемый восторг, и его тут же озарила глубокомысленная идея написать трактат о превосходстве аристократических форм жизни и образования. Одновременно он твердо решил показать себя достойным столь лестного доверия. Увы, первая его попытка в этом направлении обернулась неудачей.
– Частное владение Микеля, милостивая государыня, – начал он, указывая на виллу, окруженную ухоженным садом, тянувшимся вдоль проселочной дороги.
– Чье владение? – переспросила Сесиль.
– Доктора Микеля, бывшего бургомистра Оснабрюка, а ныне бургомистра Франкфурта.
– На Одере?
– Нет, на Майне.
– Но что могло побудить этого господина искать летней свежести в простой деревне в Гарце? Ведь живописные окрестности Франкфурта предпочтительней. Почему он приобрел виллу именно здесь?
– Вопрос вполне уместный, и единственно возможный ответ на него, по моему разумению, дает германская приверженность господина Микеля императорскому дому. Несмотря на уязвимость такой формулировки со стороны языка, она точно выражает мою мысль. Хотелось бы изложить ее вам подробнее. Вы позволите, милостивая государыня?
– Прошу вас об этом от всего сердца.
– Итак. Можно считать историческим фактом, что у нас бывали и ныне еще встречаются мужи, в коих приверженность имперской идее громко заявила о себе еще прежде, чем возникла империя. Это пророки, имеющие обыкновение предсказывать каждый великий феномен. Пророки и предтечи.
– И к ним вы причисляете…
– Прежде всего, также доктора Микеля из Франкфурта. Воистину, он был одним из тех, в чьей груди еще в юности зародилась имперская идея. Она требовала своего осуществления, искала места под солнцем. Но где можно было найти наилучшее для нее место? Где можно было, скорее всего, вскормить ее и продвинуть в жизнь? На этот вопрос, милостивая государыня, есть лишь один ответ: здесь. Ибо здесь, в нашем благословенном Гарце вещает в полный голос все имперское, все императорское. Я уж не говорю о Кифхойзере[69], где спит вечным сном император Фридрих Барбаросса (к тому же горы сии наполовину принадлежат Тюрингии). Но именно здесь, на северной окраине Гарца, каждая пядь земли обнаруживает, по меньшей мере, одного императора. В церкви Кведлинбургского аббатства (я с радостью узнал, что вы оказали ей честь своим посещением) покоится первый великий кайзер Саксонии; в Магдебургском соборе – второй, еще более великий. Не стану обременять вас, сударыня, перечислением имен. Но позвольте привести вам факты. В Гарцбурге, на вершине Бургберг (хотелось бы рекомендовать вам подняться на эту гору, у ее подножия вы наймете ослов) стоит любимая крепость Генриха, того самого, что совершил покаянное паломничество в Каноссу. А в Госларе, в сравнительной близости к упомянутой вершине Бургберг, до наших дней сохранился большой императорский дворец. В своих стенах он видел самых могущественных государей, носителей гибеллинской идеи[70] уже в до-гибеллинские времена. Так что воспоминания об императорах у нас здесь на каждом шагу. И в этом, милостивая государыня, я вижу причину, которая привлекла сюда, именно в нашу местность, господина Микеля, ратоборца имперской идеи.
– Несомненно. И вы рассказываете обо всем этом с такой теплотой…
Приват-доцент поклонился.
– … с такой теплотой, что я прямо представила себе вас среди пророков и предтеч. И что ваши изыскания завершились восторженной приверженностью к истории немецких императоров.
– Разумеется, милостивая государыня, хотя признаюсь вам откровенно, ход немецкой истории не таков, каким ему надлежит быть.
– И что же вас не устраивает?
– То, что сместился центр тяжести. Произошла ошибка, которая была исправлена лишь в наши дни. Когда немецкие курфюрсты избирали саксонских императоров, коих мы по меньшей мере с тем же правом могли бы назвать кайзерами Гарца, мы были на верном пути. Но при окончательном, однако слишком уж преждевременном угасании саксонской династии, следовало сместить центр тяжести германской нации к северо-востоку.