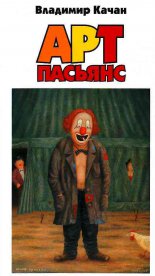Голем и джинн Уэкер Хелен

– Чего только не случается на свете! – покачала головой Мариам.
Арбели пристально вглядывался в ее лицо, страшась обнаружить признаки сомнения. Поверила ли она в их тщательно придуманную историю? Многие сирийцы попадали в Нью-Йорк довольно фантастическими путями: пешком через канадские леса или перегоняя груженые баржи из Нового Орлеана. Но теперь, услышав собственную выдумку, высказанную вслух, Арбели засомневался. Слишком уж невероятной она показалась. Да и Джинн чересчур румян и силен для человека, едва оправившегося после тяжелой болезни. Скорее, он похож на парня, который может запросто переплыть Ист-Ривер. Впрочем, менять что-то уже поздно. Арбели улыбнулся Мариам, от всей души надеясь, что она ничего не заподозрит.
– А вы сами из Захле? – продолжала расспросы женщина.
– Нет, я бедуин, – объяснил Джинн. – В Захле я просто доставил партию овечьих шкур.
– Вот как? – Она еще раз оглядела его с головы до ног. – Это поразительно! Бедуин-беженец в Нью-Йорке! Непременно загляните к нам в кофейню. Все захотят с вами познакомиться.
– Почту за честь, мадам, – поклонился ей Джинн и вернулся в заднюю комнатку.
– Какая невероятная история! – вполголоса сказала Мариам Арбели, провожавшему ее до дверей. – И какая выдержка нужна, чтобы проделать такое путешествие! Но вы поразили меня в самое сердце, Бутрос. Уж вы-то должны быть разумнее! А если бы он умер у вас на руках?
Арбели съежился от неловкости, которая была притворной лишь отчасти:
– Он был очень настойчив, а я не хотел огорчать больного.
– Да, он поставил вас в непростое положение. Но, конечно, все бедуины очень гордые. – Она быстро взглянула на него. – А он правда бедуин?
– Думаю, да, – подтвердил Арбели. – Во всяком случае, он почти ничего не знает про города.
– Очень странная история, – произнесла женщина, словно разговаривая сама с собой. – Непохоже, чтобы он…
Она замолчала, и лицо ее на миг омрачилось, но скоро на нем опять засияла привычная улыбка. Женщина тепло поблагодарила Арбели за прекрасную работу. И в самом деле, старый кувшин выглядел превосходно. Арбели выправил все вмятины, тщательно отполировал его, а потом заново нанес прежний узор с мельчайшими подробностями. Довольная женщина расплатилась и ушла, потребовав на прощанье:
– Как бы то ни было, вы просто обязаны привести Ахмада к нам в кофейню. Поверьте, несколько недель все только о нем и будут говорить.
Но судя по небывалому притоку посетителей в мастерской, Мариам не стала дожидаться обещанного визита, а со свойственным ей энтузиазмом немедленно оповестила всех своих друзей и клиентов о бедуине, ставшем учеником Арбели. Теперь собственный кофейник жестянщика непрерывно булькал на плите, а в дверь то и дело заглядывали соседи, желающие собственными глазами увидеть новичка.
К счастью, Джинн прекрасно справлялся со своей ролью. Он охотно развлекал гостей рассказом о морском путешествии и о болезни, но в излишние подробности не вдавался, чтобы не запутаться. Вместо этого широкими мазками он рисовал портрет прирожденного странника, который в один прекрасный день, практически ни с того ни с сего, решил повидать Америку. Уходя, гости качали головой и поражались причудам Провидения, которое, похоже, и правда хранит глупцов и маленьких детей. Многие удивлялись тому, что Арбели согласился принять такого странного молодого человека в подмастерья, но ведь Арбели и сам был чудаком, так что, если разобраться, ничего невероятного тут не было.
– А кроме того, – рассуждали мужчины в кофейне, сидя за нардами, – Арбели вроде бы спас ему жизнь, или что-то в этом роде, а у бедуинов на этот счет правила строгие – оставаться в долгу они не любят.
– Ну, будем надеяться, что Арбели не прогадает и из парня получится хороший жестянщик, – кивал второй игрок, бросая кости.
Бутрос Арбели вздохнул с облегчением, когда поток любопытных обмелел и превратился в ручеек. Он устал от необходимости постоянно лгать, а кроме того, столько времени тратил на разговоры, что совсем запустил работу. А ведь каждый из его гостей считал своим долгом принести с собой какую-нибудь утварь, нуждающуюся в починке, и теперь мастерская была завалена погнутыми лампами и прохудившимися кастрюлями. Большинство работ были чисто косметическими, и владельцы, очевидно, принесли вещи в ремонт, просто чтобы поддержать соседа. Арбели испытывал к ним благодарность и мучился угрызениями совести. Судя по забитым полкам, всю Маленькую Сирию вдруг охватила эпидемия неуклюжести.
Джинна такое внимание забавляло. Он хорошо выучил свою историю, а большинство гостей были слишком вежливы, чтобы требовать подробностей. По словам Арбели, бедуинов окружал некоторый ореол, который сейчас работал в их пользу.
– Напусти на себя загадочности, – советовал Арбели, когда они готовили свой план. – Побольше рассуждай про пустыню. Это произведет впечатление. И кстати, – вдруг спохватился он, – тебе ведь понадобится имя.
– Какое ты предлагаешь?
– Какое-нибудь обычное, я думаю. Башир, Ибрагим, Ахмад, Гарун, Хуссейн, – начал перечислять он.
– Ахмад? – прервал его Джинн.
– Тебе нравится? Хорошее имя.
Джинну не то что нравилось, но просто оно вызывало меньше возражений, чем другие. Если вслушаться, его повторяющееся «а» немного напоминало шум ветра в пустыне, словно было эхом его прошлой жизни.
– Если ты считаешь, что мне нужно имя, сойдет и это.
– Имя тебе определенно необходимо – значит, будешь Ахмадом. Только не забывай отзываться, когда услышишь.
Джинн и не забывал, но эта часть придуманного Арбели плана, единственная, вызывала у него чувство неловкости. Смена имени означала такие глубокие перемены в нем, словно и сам он стал совсем другим, не тем, чем был прежде. Он старался поскорее прогонять эти мрачные мысли, думать вместо этого о правдоподобии своей истории и о правилах вежливости, но все-таки часто, вполуха слушая болтовню гостя, он повторял про себя свое настоящее имя и находил в его звуке утешение.
Из всех услышавших от Мариам Фаддул о новом помощнике жестянщика только один человек не проявил к рассказу никакого видимого интереса; это был Махмуд Салех, мороженщик с Вашингтон-стрит.
– Вы уже слышали? – завела она разговор. – У Бутроса Арбели новый подмастерье.
В ответ Салех промычал что-то невнятное и, зачерпнув в чане порцию мороженого, положил ее в вазочку. Они разговаривали на тротуаре напротив кофейни Мариам. Перед Салехом стояла небольшая очередь из детей, сжимающих в кулаках медяки. Он протягивал ладонь, ребенок клал в нее монетку и взамен получал сладкий шарик, а монетка отправлялась в карман к мороженщику, который старательно отводил глаза от лица ребенка, и лица Мариам, и от всего остального, кроме своего стоящего на тротуаре чана.
– Спасибо, мистер Махмуд, – бормотал малыш, вытягивая из специального стакана, прикрепленного к тележке, ложечку, и продавец знал, что подобной вежливостью обязан только присутствию Мариам.
– Он бедуин, – продолжала Мариам. – Довольно высокий, надо сказать.
Салех промолчал. Он вообще говорил очень мало. Но Мариам, единственную из соседей, его молчание нисколько не обескураживало. Она знала, что он слушает.
– А у вас в Хомсе были знакомые бедуины, Махмуд? – не унималась она.
– Немного, – ответил мороженщик и снова протянул руку.
Еще одна монетка, еще одна порция. На родине, в Хомсе, он старался держаться подальше от бедуинов, живших на окраине города, ближе к пустыне. Он считал их бедным, угрюмым и суеверным народом.
– А я никогда не была знакома ни с одним, – вздохнула Мариам. – Он интересный человек. Говорит, что проник на судно и сбежал в Америку просто так, шутки ради, но чувствую, он чего-то недоговаривает. Бедуины ведь вообще довольно скрытные люди, верно?
Салех опять что-то промычал. Мариам Фаддул ему нравилась – можно сказать, она была единственным его другом, – но он бы предпочел поговорить о чем-нибудь другом. Разговор о бедуинах будил воспоминания, которые лучше лишний раз не тревожить. Он заглянул в чан. Мороженого оставалось всего на три порции.
– Сколько вас здесь? – спросил он, не поднимая головы. – Посчитайтесь, пожалуйста.
– Один, два, три, – раздались детские голоса, – четыре, не толкайся – я первый пришел, пять, шесть.
– Номерам от четвертого до шестого придется прийти попозже.
Вздохи разочарования от несостоявшихся покупателей и топот убегающих детских ножек.
– Запомните свой номер в очереди! – крикнула Мариам им вслед.
Салех обслужил оставшуюся троицу и дождался лязга жестяных вазочек, которые дети возвращали на место на тележке, поверх мешка с каменной солью.
– Ну, мне надо возвращаться в кофейню, – заявила Мариам. – Саиду сейчас понадобится моя помощь. Удачного дня, Махмуд.
Она ласково пожала его руку, а он краем глаза успел заметить оборки на ее блузке и взмах темной юбки – Мариам ушла.
Он пересчитал монетки в кармане: достаточно, чтобы закупить продукты для новой партии. Но день уже повернул к вечеру, а солнце прикрыла пелена облаков. К тому времени, когда он купит молоко, лед и приготовит мороженое, дети его уже не захотят. Лучше уж подождать до завтра. Он закрепил свое имущество на тележке и медленно начал толкать ее вдоль тротуара. Голова его была низко опущена, и он видел только, как мерно двигаются его собственные ноги: черные на сером.
Соседи были бы поражены, скажи им кто, что человек, которого они называли Мороженщиком Салехом, или Безумным Махмудом, или просто «этим странным мусульманином, который торгует мороженым», звался когда-то доктором Махмудом Салехом и был одним из самых уважаемых врачей в большом городе Хомсе. Сын состоятельного купца, он с самого детства жил в достатке и мог выбрать себе занятие по вкусу. Махмуд отлично учился в школе и легко поступил в медицинский университет в Каире. В это время прямо на его глазах в выбранной им профессии происходили чудесные изменения. Один англичанин установил, что можно легко избежать послеоперационной гангрены, если перед использованием окунать инструменты в раствор карболовой кислоты. Вскоре после этого другой англичанин обнаружил бесспорную связь между холерой и неочищенной питьевой водой. Отец Салеха всем сердцем одобрял выбранную им профессию, но очень рассердился, когда узнал, что в Каире его собственный сын занимается препарированием трупов: неужели мальчик не понимает, что в день Страшного суда эти люди восстанут изуродованными, с открытыми всем взорам внутренностями? На это сын сухо отвечал, что, если уж понимать воскрешение столь буквально, человечество возродится в таком разложившемся виде, что следы вскрытия на этом фоне будут незаметны. На самом деле он и сам испытывал на этот счет некоторые сомнения, но гордость не позволяла ему признаться в них.
Закончив обучение, Салех вернулся в Хомс и приступил к работе. Условия жизни его пациентов приводили доктора в ужас. Даже самые состоятельные семьи понятия не имели о современной гигиене. Больных держали в душных запертых комнатах. Часто Салех начинал с того, что, невзирая на протесты домочадцев, распахивал окна. Несколько раз ему попадались пациенты со следами ожогов на груди и руках – старый обычай, призванный излечить больного от меланхолии и раздражительности. Доктор перебинтовывал раны, а потом отчитывал родных пациента, рассказывая им об опасностях сепсиса.
Хотя иногда ему казалось, что эта борьба безнадежна, были в жизни Салеха и свои радости. Сводная сестра его матери как-то заговорила с ним о своей дочери, которая на глазах доктора превратилась из девочки в красивую и кроткую молодую женщину. Вскоре они поженились, и у них родилась собственная дочь: прелестный ребенок, который вставал своими ножками на ноги отца и заставлял его так гулять по двору, рыча при этом, как лев. Даже когда отец Салеха умер и лег в могилу рядом с его матерью, доктор утешался тем, что отец гордился им, несмотря на все несходства в их взглядах.
Так мирно шли год за годом, пока однажды в дом Салеха не явился богатый землевладелец. Он сказал доктору, что в семье бедуинов, работающих на его земле, заболела девочка. Вместо того чтобы пригласить к ней доктора, они позвали беззубую старуху-знахарку, которая творит над девочкой какие-то чудовищные обряды. Не в силах смотреть на страдания ребенка, землевладелец сам отправился за врачом и пообещал заплатить ему из собственного кармана.
Семья бедуинов жила в хижине на самой окраине города, и тщательно обработанные и ухоженные посевы являли странный контраст беспорядку и грязи в доме. Мать девочки встретила Салеха в дверях. На ней были тяжелые черные одежды, а щеки и подбородок, как это принято у ее народа, украшали татуировки.
– Это ифрит, – заявила она. – Его надо изгнать.
Салех ответил, что прежде всего ребенка надо осмотреть. Он велел женщине принести таз с кипяченой водой и зашел в хижину.
Девочка корчилась в конвульсиях. Знахарка успела разбросать по полу пригоршни сухих трав и теперь сидела, скрестив ноги, на полу и что-то бормотала себе под нос. Не обращая на нее внимания, Салех попытался прижать больную к постели и приподнять ей хотя бы одно веко, чтобы заглянуть в глаз: это удалось ему как раз в тот момент, когда старуха закончила бормотать свои заклинания и трижды плюнула на пол.
На мгновение ему показалось, что он увидел в глазу ребенка нечто метнувшееся в его сторону…
А потом это нечто уже было внутри его головы и билось там, пытаясь вырваться…
Нестерпимая боль пронзила его. Все вокруг накрыла темнота.
Когда сознание вернулось к Салеху, на губах его была пена, а во рту – кожаный ремешок. Он закашлялся и выплюнул его.
– Это чтобы ты не откусил себе язык, – объяснила знахарка глухим голосом, который доносился к нему словно издалека.
Доктор открыл глаза и увидел склонившуюся над ним женщину с лицом сухим и бесплотным, словно луковая кожура, и с зияющими дырами там, где должны быть глаза. Он страшно закричал, отвернулся, и его вырвало.
Хозяин участка скоро привел одного из коллег доктора. Вместе они погрузили еще не пришедшего в себя Салеха в телегу и отвезли домой, где врач смог тщательно осмотреть его. Окончательный диагноз так и не был поставлен: подозревали кровоизлияние в мозг или какую-то скрытую до поры до времени болезнь, чем-то внезапно спровоцированную. Никакой ясности.
С этого дня Салех словно отстранился от мира. Ощущение нереальности овладело всеми его чувствами. Глаза уже не могли правильно оценивать расстояние: он протягивал за чем-нибудь руку и не мог дотянуться до предмета. Руки его дрожали, и он больше не мог держать инструмента. Иногда у него случались припадки, и тогда он падал на землю, а на губах выступала пена. Хуже всего было то, что он больше не мог без тошнотворного, непреодолимого ужаса смотреть на человеческие лица, мужские и женские, чужие и любимые.
Шли недели и месяцы. Салех пытался вернуться в профессию, выслушивал жалобы, ставил простейшие диагнозы. Но скрыть его болезнь было невозможно, и постепенно последние пациенты оставили его. Семье пришлось ограничивать себя в средствах, но скоро закончились и последние сбережения. Старая одежда все больше изнашивалась, а дом разваливался без ремонта. Салех целые дни проводил в комнате с задернутыми шторами и непрерывно читал медицинские книги, с трудом разбирая текст, в надежде найти какое-то объяснение.
Его жена заболела. Сначала она скрывала это, потом у нее началась лихорадка. Бывшие коллеги предлагали помощь, а он только беспомощно слушал их, сидя у ее постели. Ей становилось все хуже. Однажды ночью, в жару и бреду, она приняла его за своего давно умершего отца и попросила мороженого. Что он мог сделать? В буфете давно стояла мороженица, купленная в былые счастливые дни. Он прикатил ее на кухню и отмыл от грязи и пыли. Курицы, за которыми ухаживала его дочь, тем утром отложили несколько яиц. Сахар в доме еще был, а также соль, лед и молоко от соседской козы.
Очень осторожно, чтобы не расплескать и не рассыпать чего-нибудь, он разложил продукты на столе, молотком измельчил соль, взбил яйца с молоком и сахаром. Потом он смешал измельченный лед с солью и обложил этой смесью внутренний цилиндр, куда вылил ингредиенты будущего мороженого. Он и сам не понимал, откуда знает все это. Конечно, он видел, как жена делает мороженое, желая порадовать дочь и ее подруг, но никогда не обращал особого внимания. Сейчас же он действовал так, словно занимался этим всю жизнь. Он закрыл внутренний цилиндр крышкой и, взявшись за ручку, начал вращать его. Приятно было снова делать что-то полезное. Постепенно смесь начала густеть. Чистый рабочий пот выступил на лбу и под мышками доктора. Он прекратил вращение, когда почувствовал, что пора.
Вернувшись в спальню с маленькой вазочкой мороженого, Салех обнаружил, что жену сильно знобит. Он отставил вазочку в сторону и долго сидел у кровати, держа ее за руку. Она так и не пришла в сознание, а на рассвете умерла. Салех не узнал признаков начавшейся агонии и не успел разбудить дочь, чтобы та попрощалась с матерью.
На следующий день Салех в одиночестве сидел на кухне, пока сестры жены обмывали и обряжали ее тело. Кто-то окликнул его и опустился рядом с ним на колени. Это была его дочь. Она обняла отца и прижалась к нему, а он закрыл глаза и постарался вспомнить ее лицо таким, каким видел его до своей болезни: темные волосы, блестящие глаза и нежная россыпь веснушек на щеках. Потом она заметила чан с мороженым:
– Кто это сделал, отец?
– Я. Для твоей матери.
Она не удивилась, а только зачерпнула пальцем немного мороженого и отправила его в рот. Ее покрасневшие глаза широко раскрылись от удивления.
– Очень вкусно.
После этого Салех уже не думал о том, чем заняться дальше. Он должен был прокормить себя и дочь. Продав дом, они поселились с семьей брата покойной жены, но те не были богаты, и Салех не хотел бесконечно пользоваться их добротой. Поэтому, обмотав вокруг головы белый платок от солнца, доктор Махмуд Салех превратился в Мороженщика Салеха. Скоро все привыкли к его фигуре, вышагивающей по улицам Хомса с небольшой тележкой, увешанной колокольчиками. «Мороженое! Мороженое!» – кричал он. Двери отворялись, и из них, сжимая монетки, выбегали дети. Салех старательно отворачивал голову, чтобы не видеть их прозрачных на солнце тел и страшных бездонных дыр на месте глаз.
Он стал самым успешным продавцом мороженого в округе. Отчасти благодаря качеству его продукта. Все соглашались, что его мороженое не в пример нежнее прочих. Другие продавцы клали чересчур много льда, и мороженое слишком быстро замерзало, становясь зернистым и грубым. Другие слишком мало крутили цилиндр, и вместо густого крема детям доставался какой-то полузамерзший суп. У Салеха оно всегда было идеальным. Но небывалой популярностью он был обязан еще и своей трагической истории. «Вон идет Мороженщик Салех, который был раньше известным врачом». Для детей покупка у Салеха была настоящим приключением. Упадет ли он сегодня на землю и пойдет ли у него изо рта пена? Когда этого не происходило, они чувствовали себя обманутыми, хотя мороженое было, как всегда, превосходным и служило некоторым утешением. Чувствуя приближение припадка, Салех предупреждал детей: «Не пугайтесь» – и сам словно со стороны слышал, как неясно звучит его речь. Потом в глазах у него темнело, и он оказывался в ином мире, полном шепота, видений и странных ощущений. Очнувшись, он никогда не мог их вспомнить и сознавал только, что лежит лицом в пыли, а все его покупатели разбежались.
Так он провел несколько лет: его голос охрип, ноги были сбиты, а волосы поседели. Все деньги, какие мог, Салех откладывал для дочери, потому что рассчитывать на щедрый калым они больше не могли. И потому оба очень удивились, когда для серьезного разговора к Салеху явился владелец местной лавки. Дочь Салеха, объявил он, поразила его своей редкой и беззаветной любовью к отцу, и лучшей жены и матери для своих детей он не желал. Соседи были о нем не слишком высокого мнения, и славился он главным образом своими не слишком дружелюбными высказываниями в их адрес, но он хорошо зарабатывал и, кажется, был незлым.
– Если бы Создатель пообещал выполнить только одно мое желание, – сказал Салех дочери, – я бы попросил Его выстроить перед тобой всех принцев мира и объявить: «Выбирай любого, ибо нет такого, кто был бы слишком богат или благороден для тебя».
Он говорил все это, не открывая глаз: прошло уже восемь лет с тех пор, когда он в последний раз видел лицо своей дочери.
Она поцеловала его в лоб и сказала:
– Тогда я должна благодарить Создателя за то, что Он не предлагает исполнить твое желание, ведь я слышала, из принцев получаются очень плохие мужья.
Тем же летом был подписан брачный договор, а меньше чем через год она умерла от кровотечения при родах; ребенок задохнулся и тоже погиб. Акушерка не смогла их спасти.
Тетки подготовили ее тело к похоронам, как раньше готовили тело ее матери: они обмыли, умастили его благовониями и обернули в пять белых простыней. Салех стоял в открытой могиле, когда ему передали на руки тело дочери. После беременности оно потяжелело и словно стало податливее и мягче. Ее голова лежала у него на плече, и он не отрываясь смотрел на прикрытый белой тканью пейзаж ее лица, на прямую линию носа и провалы глаз. Он бережно положил ее на правый бок, лицом к Мекке и Каабе. Ароматы, пропитавшие саван, смешивались с резким и чистым запахом сырой земли. Он понимал, что все ждут, но не спешил подниматься. В могиле было прохладно и тихо. Он протянул руку и провел пальцами по шершавой глиняной стенке, почувствовал бороздки от лопаты могильщика и выступившую на поверхности влагу. Затем подогнул колени и сел на землю и, наверное, лег бы рядом с дочерью, если бы его не вытащили из могилы, подхватив под мышки: зять и имам решили, что лучше поскорее закончить этот спектакль.
Тем летом, хоть оно и выдалось очень жарким, покупателей у Салеха стало заметно меньше. Он слышал, как, проходя мимо, родители шепчут детям: «Нет, милый, только не у мистера Салеха». Он понимал, что теперь его не просто жалели, но боялись: он был проклят.
Он не мог вспомнить, когда ему впервые пришла в голову мысль собрать все оставшиеся деньги и уехать в Америку, но скоро она завладела им целиком. Семья его жены решила, что он окончательно свихнулся. Как он выживет в Америке совершенно один, если он по родному Хомсу ходит с трудом? Зять объяснял ему, что в Америке нет мечетей и там он не сможет правильно молиться. На это Салех ответил, что молитвы ему больше не нужны и что их пути с Аллахом разошлись.
Никто из них не понимал, зачем он это делает. А для Салеха Америка не должна была стать новым началом. И он не собирался выживать там. Он собирался взять свою мороженицу, пересечь океан и там умереть от болезни, голода или, возможно, от какой-нибудь случайности. Он хотел закончить свою жизнь вдали от сочувствия, жалости и любопытных взглядов, среди незнакомцев, которые знают, кто он, но не знают, кем он когда-то был.
И он уехал, сев на пароход в Бейруте. Рейс был невыносимо тяжелым, он задыхался на тесной, пропитанной миазмами нижней палубе, не спал ночами, слушая кашель других пассажиров, и прикидывал, чем он скорее заразится. Тифом? Холерой? Но на берег он сошел целым и невредимым и тут же подвергся унизительному допросу и осмотру на острове Эллис. Двум молодым братьям-близнецам он отдал свои последние гроши, чтобы они выдали его за своего дядю, и юноши сдержали слово, пообещав чиновнику, что станут помогать Салеху и не позволят ему впасть в нищету. Медицинский осмотр он успешно прошел только потому, что врач не сумел установить, что именно с ним не так. Братья отвезли его в Маленькую Сирию и, не слушая протестов совершенно растерявшегося от всех этих перемен Салеха, нашли ему жилье: маленькую комнатку в пропахшем гнилыми фруктами подвале, за которую просили сущие гроши. Свет в нее проникал лишь через крошечное, забранное решеткой окошко под самым потолком. Потом они провели его по окрестностям и показали, где можно купить молоко, соль, лед и сахар. А на следующий день, закупив несколько мешков всякой галантерейной мелочи, пожелали ему удачи и отправились в место под названием Гранд-Рапидс. После их отъезда Салех обнаружил у себя в кармане два доллара мелочью, которых раньше там не было. Он был так измучен путешествием и морской болезнью, что у него даже не осталось сил рассердиться.
И так он снова стал Мороженщиком Салехом. Улицы Нью-Йорка были многолюднее и опаснее, чем в Хомсе, но его маршрут тут был короче и проще. Обычно он делал небольшую петлю: от Вашингтон-стрит на юг до Сидар-стрит, потом от Гринвича на север до Парка и опять на Вашингтон-стрит. Дети так же быстро, как их ровесники в Хомсе, научились класть монетки в протянутую руку и никогда не заглядывать ему в глаза.
Однажды раскаленным летним утром он накладывал мороженое в маленькую жестяную вазочку, когда чья-то мягкая рука вдруг коснулась его локтя. От удивления Салех оглянулся и успел заметить женскую щеку. Он поспешно отвернул голову.
– Сэр? – позвал его нежный голос. – Я принесла вам воды. Сегодня такая жара.
Его первым желанием было сказать «нет». Но жара действительно стояла невыносимая, а такой влажности он не мог и припомнить. У него болела голова, а горло словно распухло. Он вдруг понял, что не в силах отказаться от воды.
– Спасибо, – пробормотал он наконец и протянул руку в сторону голоса.
Наверное, у нее был удивленный вид, потому что детский голос тут же объяснил:
– Дайте ему стакан прямо в руку, он никогда ни на кого не смотрит.
– Понятно, – сказала женщина и осторожно вложила стакан в его руку.
Вода была холодной и чистой, и он выпил всю.
– Спасибо, – сказал он, возвращая ей стакан.
– Пожалуйста. Могу я узнать, как вас зовут?
– Махмуд Салех. Я из Хомса.
– А я Мариам Фаддул. Мы стоим как раз напротив моей кофейни. Мы с мужем и живем здесь же, на втором этаже. Если вам что-нибудь понадобится – вода или просто место, где можно посидеть в жару, – заходите, пожалуйста.
– Спасибо, мадам.
– Прошу вас, называйте меня просто Мариам. – По ее голосу он понял, что она улыбается. – Все меня так зовут.
После этого Мариам частенько выходила, чтобы поболтать с ним и с детьми, когда он со своей тележкой медленно брел мимо ее кофейни. Похоже, все дети любили Мариам: она разговаривала с ними серьезно, как со взрослыми, помнила все имена и каждую мелочь их жизни. Когда Мариам стояла рядом с ним, у него сразу же прибывало покупателей: подходили не только дети, но и их матери, и даже другие продавцы, и фабричные рабочие, возвращающиеся домой после смены. Маршрут Салеха теперь был куда короче, чем в Хомсе, но мороженого он продавал столько же. Иногда это даже раздражало его: он приехал в Америку совсем не для того, чтобы преуспеть, но, похоже, сама Америка не давала ему пропасть.
Проходя со своей тележкой мимо мастерской Арбели, он вспомнил слова Мариам о новом подмастерье-бедуине. Раньше он никогда не заходил в мастерскую, только чувствовал, как обдает его горячий воздух, когда он проходит мимо открытой двери. Сейчас ему на мгновение захотелось заглянуть внутрь. Но тут же, разозлившись на себя за ненужные воспоминания, он решил больше не думать об этом и смотрел уже только на свои ноги, неуклонно шагающие в сторону его подвального жилища.
Дожди, три дня поливавшие Сирийскую пустыню, кончились. Вода впиталась в землю, и долина между склонами холмов скоро покрылась зеленым ковром молодой травы. Для бедуинских племен этот короткий отрезок времени был очень важен: теперь они могли выгнать свой скот на пастбища и дать ему хорошенько наесться перед началом иссушающей жары.
Случилось так, что однажды утром бедуинская девочка по имени Фадва аль-Хадид выгнала свое маленькое козье стадо попастись на травке рядом с их семейным стойбищем. Напевая что-то себе под нос и изредка стегая отбившуюся козу прутиком, она забралась на вершину невысокого холма и тут прямо перед собой увидела огромный сверкающий дворец, весь сделанный из стекла.
На секунду девочка застыла, не веря своим глазам, но сомнений быть не могло: это действительно дворец и он стоит прямо перед ней. Вне себя от восторга, она быстро согнала коз в кучку и погнала их к отцовскому шатру, крича на бегу о неизвестно откуда взявшемся сверкающем чуде.
– Это был мираж, – заявил ее отец Джалал ибн Карим аль-Хадид, которого все в его клане называли Абу Юсуфом.
Мать девочки, Фатима, только фыркнула, покачала головой и вернулась к заботам о младенце, своем младшем сыне. Но Фадва, которой исполнилось пятнадцать, упрямая и решительная, уже за руку тащила отца вон из шатра, чтобы он взглянул на чудо вместе с ней.
– Дочка, пойми, не может там быть никакого дворца.
– Ты что, думаешь, я маленькая? Не смогу отличить мираж от настоящего? – настаивала она. – А дворец был настоящим, и я видела его, как тебя.
Абу Юсуф вздохнул. Он знал это выражение на лице дочери и понимал, что никаких его доводов она не слышит. Хуже того, он знал, что сам виноват в этом. Их клану в последнее время везло, и, наверное, поэтому он чересчур потакал ей. Зимы были теплыми, а дожди начинали лить вовремя. Жены обоих его братьев родили здоровых сыновей. И как-то в конце прошлого года, греясь на закате у пылающего костра и наблюдая, как вокруг суетятся, едят и играют его родные, он решил, что можно и подождать с замужеством Фадвы. Пусть девочка проведет еще год с семьей, прежде чем распрощаться с ней навсегда. Сейчас Абу Юсуф уже подумывал о том, что его жена была права и он избаловал девчонку сверх всякой меры.
– Нет у меня времени, чтобы убивать его на чепуху! – резко сказал он. – Скоро мы с братьями погоним овец на пастбище. Если там есть дворец, мы его увидим. А сейчас иди и помоги матери.
– Но…
– Иди и делай, как я сказал!
Он редко кричал на дочь, и она, обиженная, не посмела возражать. Вместо этого она молча повернулась и пошла в женский шатер.
Фатима, которая все слышала, вошла туда вслед за дочерью, укоризненно цокая языком. Фадва отвернулась, чтобы не смотреть ей в глаза. Она опустилась на колени перед низким столиком, где поднималось тесто, и, отрывая от него куски, начала кулаком расплющивать их на столешнице, прикладывая куда больше силы, чем для этого требовалось. Мать вздохнула, слушая производимый ею шум, но ничего не сказала. Пусть девчонка устанет, а не то будет ныть все утро.
Женщины стряпали, доили и чинили одежду, а солнце совершало свой ежедневный небесный переход. Фадва искупала своих маленьких братьев, выслушав при этом обычную порцию рева и жалоб. Стемнело, а мужчины еще не вернулись. Лицо у Фатимы стало напряженным. Бандиты в эту часть долины заглядывали нечасто, но три человека с большим стадом представляли собой очень уж легкую мишень.
– Прекрати! – прикрикнула она на Фадву, которая пыталась одеть извивающегося и верещащего малыша. – Я сама сделаю, раз ты не можешь. Иди лучше займись своим свадебным платьем.
Фадва подчинилась, хотя, будь ее воля, охотно выбрала бы любое другое занятие. Вышивала она плохо – у нее не хватало терпения. Она умела ткать и могла не хуже Фатимы починить шатер, но вышивка?! Крошечные стежки, которые должны лечь именно так, а не иначе. Работа была очень скучной, и от нее быстро уставали глаза. Уже не один раз, проверив результат, Фатима приказывала дочери распороть все и начать сначала. Никогда она не потерпит, чтобы ее дочь выходила замуж в таком безобразном наряде.
Сама Фадва с удовольствием швырнула бы свадебное платье в огонь и еще пела бы, пока оно горело. Жизнь в их поселении с каждым днем становилась все скучнее, но это было ерундой по сравнению с ужасом, который она испытывала при мысли о замужестве. Она знала, что избалована; знала, что отец ее любит и никогда не выдаст только ради выгоды за человека злого или глупого. Но ведь все могут ошибиться, даже ее отец. И потом, расстаться со всеми, кого она знает, жить с совсем чужим человеком, лежать под ним и беспрекословно слушаться его родных – разве это не похоже на смерть? Конечно, ведь она больше не будет Фадвой аль-Хадид. Она станет кем-то иным, совсем другой женщиной. И ничего тут не поделаешь: рано или поздно ей придется выйти замуж. Это так же верно, как то, что по утрам восходит солнце.
Она подняла голову, услышав, как радостно вскрикнула мать. Мужчины со стадом возвращались домой. Овцы брели покачиваясь, сонные после обильной еды и долгого перегона.
– Хороший день, – крикнул издалека дядя Фадвы. – Трава такая, что лучше не бывает.
Скоро мужчины сидели за ужином, руками отрывая куски хлеба и сыра. Женщины подносили еду, а потом ушли в свой шатер, чтобы там съесть то, что осталось. Муж благополучно вернулся, и настроение Фатимы заметно улучшилось; она смеялась со своими невестками и восхищалась младенцем, которого кормила одна из них. Фадва молча ела и не сводила глаз с мужского шатра и крепкой спины отца.
Позже вечером Абу Юсуф отвел ее в сторону:
– Мы прошли мимо того места, о котором ты говорила. Я внимательно смотрел, но ничего не увидел.
Фадва кивнула; она расстроилась, но нисколько не удивилась. Она и сама уже начала сомневаться в существовании дворца.
Абу Юсуф улыбнулся, глядя на ее расстроенное лицо:
– Я тебе рассказывал о том, как видел целый караван, которого на самом деле не было? Мне было тогда столько же лет, сколько тебе. Как-то утром я пас овец и вдруг увидел огромный караван, который спускался ко мне по склону холма. Человек сто, не меньше, и они подходили все ближе и ближе. Я видел глаза людей и слышал дыхание верблюдов. И я побежал домой, чтобы рассказать своим. А овец оставил на пастбище.
Фадва широко раскрыла глаза. Такого легкомыслия она от него не ожидала, хотя он и был тогда совсем молод.
– Когда я вернулся вместе с отцом, от каравана не осталось и следа. И от моих овец тоже. Мы весь день разыскивали и собирали их, а некоторые охромели, карабкаясь по камням.
– А что сказал тебе отец?
Даже спрашивать было страшно. Карим ибн Мурхаф аль-Хадид умер задолго до ее рождения, но рассказы о его тяжелом нраве стали в их клане легендой.
– Сначала ничего не сказал, просто выпорол меня. А позже он рассказал мне свою историю. Как однажды, еще маленьким, он играл в женском шатре и вдруг поднял глаза и увидел незнакомую женщину, одетую в синее. Она стояла на границе стойбища, улыбалась и тянула к нему руки. Он даже услышал, как она зовет его и просит поиграть с ней. Девчонка, которой поручили следить за малышом, уснула. Он спокойно вышел из шатра и пошел за женщиной в пустыню – один, в самый летний полдень.
– И он выжил! – ахнула Фадва.
– Едва выжил. Они искали его несколько часов, и за это время у него уже кровь закипела. Он потом долго болел. Он сказал мне, что поклялся бы именем отца, что женщина была настоящая. А сейчас, – улыбнулся он, – у тебя появилась история, которую ты будешь рассказывать своим детям, когда они прибегут к тебе и станут кричать, что видели озеро чистой воды посреди высохшей долины или стаю джиннов в небе. Вот тогда ты и расскажешь им о прекрасном сверкающем дворце и о своем ужасном, упрямом отце, который отказался тебе поверить.
– Ты знаешь, что я такого никогда не скажу! – улыбнулась Фадва.
– Может, и не скажешь. А теперь, – он поцеловал ее в лоб, – иди доделывай свою работу, дочка.
Он смотрел ей вслед, пока она шла к женскому шатру. Улыбка его сначала потускнела, а потом и вовсе погасла. Он не был честен с дочерью. Рассказы о караване и приключении его отца были правдивыми, но днем, гоня овец через холм, Абу Юсуф оглянулся и на секунду ослеп при виде сверкающего дворца в долине. Он моргнул – и видение исчезло. Он долго смотрел на пустое место и убеждал себя, что это солнечный свет сыграл с его зрением злую шутку. И все-таки он был потрясен. Как и говорила дочь, дворец не был похож на размытый, колеблющийся в воздухе мираж; Абу Юсуф ясно различил мельчайшие подробности: шпили и зубчатые стены и чисто выметенный внутренний двор. А чуть в стороне от распахнутых ворот стоял человек и смотрел прямо на него.
6
Был уже конец сентября, а безжалостная летняя жара все не хотела сдаваться. В полдень улицы города становились почти безлюдными: все норовили спрятаться в тени под каким-нибудь навесом. Камни и кирпичи Нижнего Ист-Сайда, весь день впитывавшие жар, на закате начинали отдавать его. Железные трясучие лестницы на задних стенах домов превращались в вертикальные спальни: жильцы вытаскивали свои матрасы на площадки или укладывались спать на крышах. Воздух напоминал горячий протухший бульон, и вдыхать его можно было только через силу.
Десять дней покаяния были совсем невыносимыми. Синагоги стояли полупустые: многие предпочитали молиться дома, где можно хотя бы открыть окно. Канторы с побагровевшими лицами пели всего для нескольких самых набожных прихожан. В Иом-кипур, праздник праздников, некоторые молящиеся, ослабленные жарой и постом, падали в обморок прямо во время службы.
Впервые со времени своей бар-мицвы равви Мейер не соблюдал пост в Иом-кипур. Старикам это дозволялось, но равви все равно тяжело переживал такую уступку возрасту. Он всегда считал пост кульминацией трудной духовной работы, проводимой за Десять дней покаяния, символом очищения души. И вот в этом году он вынужден был признать, что его тело чересчур ослабло. Соблюдение поста стало бы теперь «плохой записью» в Книге жизни, знаком суетности и отказом смиряться с законами реальности. Сколько раз он сам предостерегал свою паству от этого греха? И все-таки завтрак в день Иом-кипура не доставил ему никакого удовольствия, а лишь вызвал неясные угрызения совести.
Немного утешало только то, что еды было очень много: за последнее время у Голема появилось новое увлечение – кулинария.
Собственно, это была идея самого равви, и он упрекал себя только за то, что не подумал об этом раньше. Впервые она пришла ему в голову, когда он однажды зашел в пекарню и в задней комнате заметил молодого человека, который скатывал тесто в жгуты, а потом заплетал их в косички, чтобы испечь праздничные халы. Буханка за буханкой выходили из его ловких рук. Быстрые, почти автоматические движения говорили, что он делает эту работу уже не первый год, и в тот момент равви показалось, что сам парень чем-то похож на голема. Правда, големы не едят, но это же не значит, что они не могут печь?
В тот же день он принес домой толстую и солидную книгу на английском и вручил ее Голему.
– «Сборник рецептов Бостонской кулинарной школы», – удивленно прочитала она и с трепетом открыла толстый том.
К ее удивлению, книга оказалась простой, практичной и ясно написанной. В ней не было ничего непонятного – только ясные и подробные инструкции. Она вслух читала названия блюд равви, сначала по-английски, а потом на идише, и очень удивилась, когда он заявил, что даже не слышал о многих из них. Как выяснилось, он никогда не пробовал ни финдонскую пикшу – судя по всему, как-то особенно приготовленную рыбу, – ни ньокки а la romaine, ни картофель дельмонико, ни один из сложных омлетов с непроизносимыми названиями. Она тут же объявила, что приготовит ему обед. Может, жареную индейку со сладким картофелем и молодой кукурузой? Или суп из омара на первое, классический бифштекс на второе и клубничный пирог на десерт? Равви поспешно, хоть и с некоторым сожалением, объяснил ей, что все эти блюда слишком дорогие для их скромного хозяйства, а омар – еще и не кошерный. Может, стоит начать с чего-нибудь попроще, а потом уже переходить к подобным деликатесам. Он, например, давно уже мечтает о свежеиспеченном кексе к кофе. Как она считает, это не слишком сложно для начала?
И вот на следующее утро женщина вышла из дому и отправилась в бакалейную лавку на углу. На полученные от равви деньги она купила яйца, сахар, соль, муку, несколько пакетиков со специями и упаковку очищенных грецких орехов. Впервые со времени своего прибытия в Нью-Йорк она оказалась на улице совершенно одна. Она успела привыкнуть к окрестностям, потому что вот уже несколько недель они с равви выходили на прогулки, – он наконец решил, что ее потребность в жизненном опыте куда важнее соседских сплетен. Во время таких прогулок он не спускал с нее глаз. По ночам ему стало часто сниться, что он теряет ее в толпе, потом в панике ищет, бегая по улицам, а потом находит в окружении разъяренной толпы, громко требующей уничтожить ее.
Конечно, женщина чувствовала эти сны, хоть и не читала их так ясно, как его мысли в часы бодрствования. Но она понимала, что равви боится за нее и немного боится ее. Она огорчалась и старалась об этом не думать. Какая польза от того, что она станет носиться со своей печалью и одиночеством?
Истово выполняя все инструкции из книги, она испекла кекс, и первая попытка оказалась удачной. Ее приятно удивила простота задачи и волшебное превращение бесформенного жидкого теста во что-то плотное, теплое и ароматное. Равви съел два куска и объявил, что никогда не пробовал кекса вкуснее.
Днем она опять вышла из дому и накупила новых продуктов. Проснувшись на следующее утро, равви обнаружил, что весь стол в гостиной заставлен разнообразной выпечкой. Там были булочки и пончики, горы печенья и высокая стопка блинчиков. Плотная, пахнущая пряностями буханка оказалась коврижкой.
– Я и не думал, что можно столько всего наготовить за одну ночь! – воскликнул он весело, но она, разумеется, почувствовала его смятение.
– И вы не рады.
– Ну, может, не надо было печь так много, – снова улыбнулся он. – У меня ведь всего один рот и один желудок. Жалко будет, если все это зачерствеет и испортится. И знаешь, надо быть немного поэкономнее. Здесь ведь продуктов на целую неделю.
– Простите меня. Конечно, я даже не подумала…
Охваченная стыдом, женщина отвернулась от стола. А она-то, глупая, гордилась своими успехами! И ей было так приятно работать, проводить всю ночь в кухне, отмерять, смешивать, следить за маленькой духовкой, затопляющей и без того душную комнату своим жаром. А теперь ей было противно смотреть на результаты своего труда.
– Я все делаю не так! – с горечью выкрикнула она.
– Дорогая, не стоит себя корить, – поспешил успокоить ее равви. – Конечно, такие заботы для тебя внове, это я живу с ними не один десяток лет! – Вдруг ему в голову пришла удачная мысль. – И потом, все это не пропадет. Ты согласна поделиться с другими этими вкусными вещами? У меня есть племянник Майкл, он сын моей сестры. Он управляет общежитием для только что прибывших иммигрантов, и ему каждый день надо кормить много-много ртов.
Ей хотелось сказать, что она испекла все это для равви, а не для каких-то чужих людей, но она понимала, что ей великодушно предлагают выход из неловкого положения.
– Конечно. Я буду рада.
– Ну и хорошо, – улыбнулся равви. – Давай сходим вместе и отнесем все это. Пора тебе поговорить с кем-нибудь, кроме мясника и бакалейщика.
– Вы думаете, я готова?
– Да.
Она взволновалась так, что ей трудно было устоять на месте.
– Какой он, ваш племянник? Что я ему скажу? А что он обо мне подумает?
Равви рассмеялся и поднял руку, чтобы остановить этот поток вопросов:
– Во-первых, Майкл – очень славный мальчик. Вернее, славный человек, потому что ему уже почти тридцать. Я уважаю его и восхищаюсь той работой, что он делает, хотя мы на многое смотрим по-разному. Жаль только, что… – Он замолчал, но сразу же вспомнил, что она все равно что-то поймет и почувствует, поэтому лучше объяснить, а не оставлять ее в замешательстве. – Когда-то мы с Майклом были очень близки друг с другом. Моя сестра умерла, когда он был еще маленьким, и мы с женой вырастили его. Много лет он был нам как сын. А потом… потом мы наговорили друг другу много горьких слов. К сожалению, это обычное непонимание между молодыми и старыми. И мы так до конца и не помирились. Теперь мы видимся гораздо реже.
Женщина понимала, что на самом деле все гораздо сложнее: не то что равви специально умолчал о чем-то, но просто она не в силах понять многое из случившегося между ним и племянником. Уже не впервые она почувствовала, какая глубокая пропасть разделяет их: его, прожившего больше семи десятков лет, и ее, чей опыт в жизни ограничивается одним месяцем.
– А насчет того, что вы скажете друг другу, ты не волнуйся, – продолжал равви. – Вам ведь не обязательно вести долгую беседу. Просто объяснишь ему, что за продукты мы принесли. Он тебя, конечно, спросит, откуда ты и как давно приехала в Нью-Йорк. Наверное, нам стоит немного порепетировать твои ответы. Скажешь ему, что недавно овдовела, что жила в городке недалеко от Данцига и что я – твой социальный помощник. Это ведь примерно соответствует истине.
Улыбка его была грустной, и она догадалась, что он сам не совсем верит в то, что говорит.
– Мне очень жаль, что ради меня вам придется лгать своему племяннику. Я этого не хочу.
Равви помолчал немного.
– Я только начинаю понимать, дорогая, что ради тебя мне придется… я должен буду делать очень многое. Но это мое решение. И ты должна простить мне небольшое сожаление, которое я почувствую, когда ради большой правды мне придется пойти на маленькую ложь. Ты и сама должна этому научиться. – Он еще помолчал, а потом продолжил: – Я еще не знаю, сможешь ли ты жить нормальной жизнью среди других людей. Но ты должна понять, что для этого тебе придется лгать всем, кого ты знаешь. Ты никому и никогда не должна рассказывать, кто ты на самом деле. Это большая тяжесть и ответственность, и я никому бы такого не пожелал.
Теперь замолчали они оба.
– Я о чем-то таком уже думала, – сказала наконец женщина, – только не до конца. Наверное, мне просто не хотелось верить в это.
Глаза у равви были влажными, но голос звучал ровно:
– Возможно, со временем эта ложь будет даваться тебе легче. И я стану помогать тебе, как смогу. – Он отвернулся и смахнул с глаз слезы и повернулся к ней уже с улыбкой. – А сейчас давай подумаем о чем-то более приятном. Я ведь должен буду представить тебя племяннику и назвать твое имя.
– У меня нет имени, – нахмурилась она.
– Вот и я о том же. Давно надо было назвать тебя как-то. Хочешь сама выбрать себе имя?
Женщина немного подумала, а потом твердо сказала:
– Нет.
Равви не ожидал такого ответа.
– Но тебе ведь нужно имя.
– Знаю, – улыбнулась она, – но я хочу, чтобы его выбрали вы.
Ему хотелось возразить. Он надеялся, что, если она сама выберет имя, это станет первым шагом к независимости. Но потом ему в голову пришла другая мысль: ведь Голем во многих отношениях еще дитя, а дети не выбирают себе имена сами. Эта честь достается их родителям, и она поняла это быстрее и лучше, чем он.
– Хорошо, – согласился равви. – Мне всегда нравилось имя Хава. Так звали мою бабушку, а я ее очень любил.
– Хава, – медленно повторила женщина.
Звук «х» был легким и воздушным, «ава» напоминало вздох. Она несколько раз негромко повторила слово, будто пробуя его на вкус. Равви с любопытством наблюдал за ней.
– Тебе нравится? – спросил он.
– Да, – ответила она.
Ей правда нравилось.
– Тогда оно твое. – Он поднял над ее головой руки и закрыл глаза. – Господи, Боже наш, Оплот жизни и Защита нас из поколения в поколение, помоги дочери своей Хаве. Пусть жизнь ее протекает в мире и благоденствии. Пусть и она будет помощницей и отрадой для своих близких. Дай ей силы и мужества идти своей дорогой, которую Ты проложил для нее. Да будет такова благословенная воля Твоя.
– Аминь, – едва слышно прошептала женщина.
Для Майкла Леви это был далеко не лучший день. Он стоял за своим заваленным бумагами столом с затравленным видом человека, на которого одновременно обрушился десяток неразрешимых проблем. В руке он держал письмо, сообщавшее, что, к сожалению, дамы, добровольно предлагавшие помощь в воскресной уборке, больше не смогут этого делать, потому что их Женская рабочая лига раскололась, вслед за чем была распущена, а вместе с ней и Благотворительный комитет. За десять минут до этого старшая сестра-хозяйка объявила, что часть прибывших на этой неделе иммигрантов больна дизентерией и чистое постельное белье вот-вот закончится. И, кроме того, он, как всегда, почти физически ощущал присутствие в спальнях наверху двух сотен вновь прибывших, за чье здоровье и благополучие он отвечал.
Еврейский приютный дом был своего рода промежуточной станцией для тех, кто только что прибыл из Старого Света и нуждался в короткой передышке, чтобы собраться с духом и силами перед прыжком в Новый. Их пребывание в доме ограничивалось пятью днями, во время которых их кормили, одевали и обеспечивали ночлегом. Через пять дней они должны были уйти, освобождая место для новых приехавших. Некоторые селились у родственников, другие становились торговцами вразнос, третьи нанимались на фабрики и спали в ночлежках, в засаленных гамаках по пять центов за ночь. По возможности Майкл старался, чтобы его подопечные не попадали на предприятия с самыми каторжными условиями, так называемые потогонки.
Майклу Леви исполнилось двадцать семь лет. У него было розовое пухлое лицо, словно обреченное на вечную молодость. Только глаза выдавали возраст: морщины и темные круги говорили о множестве прочитанных книг и об усталости. Он был выше своего дяди Авраама и издалека немного напоминал долговязое огородное пугало – результат нерегулярного питания и вечной беготни. Друзья шутили, что, со своими перепачканными чернилами манжетами и усталыми глазами, он больше похож на ученого, чем на социального работника. Он отвечал, что это вполне естественно, потому что на своей работе он узнает о жизни куда больше, чем узнал бы в любом университете.
Этот ответ звучал гордо, но было в нем и желание защитить себя. Его учителя, его тетка и дядя, его друзья и даже давно отсутствовавший в его жизни отец – все были уверены, что Майкл поступит в университет. И все они были поражены и разочарованы, когда юноша объявил, что хочет посвятить себя социальной работе и благополучию своих ближних.
«Конечно, все это очень хорошо и благородно, – говорил ему один из друзей. – Кто из нас не мечтает о том же? Но у тебя великолепные мозги. Используй их, чтобы помогать людям. Нехорошо, если мозги будут простаивать». Этот самый друг писал для Социалистической рабочей партии. Каждую неделю его подпись появлялась под новым, написанным ровно в срок шедевром, прославляющим человека труда или освещающим новые тенденции на рынке братской солидарности.
Майкл обижался, но твердо стоял на своем. Его друзья писали статьи, ходили на марши, а потом за кофе и штруделем спорили о будущем марксизма, но за их риторикой Майкл чувствовал пустоту. Он не винил друзей за то, что они выбрали легкий путь, но следовать их примеру не хотел. Он был слишком чист душою и честен и так и не научился обманывать себя.