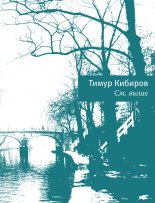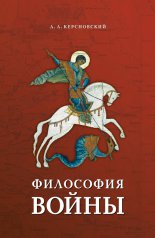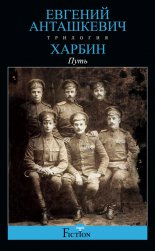Сонаты без нот. Игры слов и смыслов в книге М. Цветаевой «После России» Айзенштейн Елена

Введение
На берег невстреч
Одна за другой набегают
Соленые волны…
Жаль, что не видишь ты,
Как мои рукава промокли!1
(XIII—XIV вв.)
Книга «СОНАТЫ БЕЗ НОТ», посвящена «После России» – последнему прижизненному сборнику лирики Марины Цветаевой, объединившему стихи берлинского и чешского периодов творчества, стихи 1922—1925 годов, лучшему сборнику, в котором поэт предстает во всем величии своего таланта. За годы выхода книги «Борису Пастернаку – навстречу!» (2000), посвященной сборнику «После России», была издана обширная переписка двух поэтов, стал доступен целый ряд документов (в том числе – рабочие тетради поэта), позволивших уточнить и конкретизировать сказанное нами ранее. В настоящем издании сделан акцент на том, как Цветаева отбирала и совершенствовала поэтический материал.
Стихи «После России» – стихи поры человеческой и личностной зрелости поэта, книга-дневник, почти ежедневная запись душевных пожаров, страстей, надежд, катастроф. «Умоляю о сохранении под стихами года» (МВР, с. 85), – просила Марина Ивановна своего редактора в одном из писем. Она требовала от своего творчества «истины данного мгновения», еще с 1913—го года начав датировать стихи; хронологический принцип – в основе всех ее книг (отмечено в работах Кудровой (К97, т. 2, с. 55), Hasty (p. 56). Исключение составляют лишь «Психея» и сборник 40—го года, где Цветаева впервые не ставит дат: то ли оттого, что отобрала для книги то, что «просеяно временем, что сохранилось в просторах Души, в угодьях Духа» (Сб 40, с. 21), то ли потому что готовилась к уходу из мира чисел и Времени в мир иной. Дневниковость «После России» подчеркнута точностью датировки текстов, делением книги не на разделы, а на тетради. Предпринятое нами чтение «После России» как лирического дневника дает ключ к более глубокому пониманию, нежели при восприятии стихов вне контекста книги. Хронологический принцип сознательно почти не нарушался нами при подходе к стихотворениям, входящим в различные циклы, поскольку объединение в последние осуществлялось автором после создания отдельных вещей. Такое «дневниковое» чтение обнаруживает особую связанность «После России» с Борисом Пастернаком. В «Истории одного посвящения» (1931) Цветаева писала: «Недаром я – вовсе не из посмертной женской гордости, а из какой-то последней чистоты совести – никогда не проставляла посвящений.) – Поверх голов – к Богу! По крайней мере – к ангелам. Хотя бы по одному тому, что ни оно из этих лиц их не приняло, – не присвоило, к себе не отнесло, в получке не расписалось. Так: все мои стихи – к Богу если не обращены, то: возвращены» (IV, 135—136). Готовя «После России» к печати, Цветаева сообщала своей чешской приятельнице А. А. Тесковой: «… у меня в книге будет только два посвящения: одно Пастернаку, другое (весь цикл) Вам» (VI, 358). Цветаева проставила посвящение Тесковой цикла «Деревья»), но ей не хотелось делать чувство к Пастернаку общим достоянием. 7 октября 1927 года она писала Пастернаку: «Борис, сегодня держала корректуру своей книги, уже сверстана, со страницами (153, стихи в ряд), вся книга о тебе и к тебе, даже в самый разгар Горы – обороты на тебя» (ЦП, с. 397). Без Пастернака не было бы «После России», вернее, это была бы совсем другая книга: «Des Herzens Woge schumte nicht so schn empor, und wrde Geist, wenn nicht der alte stumme Fels, das Schicksal, ihr entgegenstnde» – «Сердечная волна не вздымалась бы так высоко и не превращалась бы в Дух, когда бы ей не преграждала путь старая немая скала – Судьба» (нем.) – эпиграф к циклу «Провода». От Пастернака у Цветаевой билось сердце, он был той «прорвой», в которую Марина Ивановна могла обрушить лавину строк, его «сторожкое» ухо было готово услышать все обертоны цветаевского голоса. Равносущий, заоблачный, «вершинный брат», рифма и пара… Книга «После России» – это страстная исповедь, жалоба, плач, любовное признание, монолог о душе, о стихах, о творчестве, об участи поэта, о жизни и смерти.
Все стихи сборника «После России», а также стихи других периодов творчества приведены в книге по БП90 без указания страниц в тексте. Остальные стихи Цветаевой, не опубликованные в БП90, все цитаты из прозы, статей и писем – по Ц7 с указанием тома и страниц в скобках. Письма к Тесковой – с указанием страницы в скобках либо по МЦТ, либо по Ц7. Некоторые цитаты из писем, ввиду обнаруженных погрешностей, приводятся по ЦТ, поскольку в этом издании тексты сверены с рукописными оригиналами.
Автор выражает благодарность Е. И. Лубянниковой и И. Д. Шевеленко – за критические замечания, благодарит Е. Б. Коркину и сотрудников РГАЛИ за помощь в работе с рукописями.
Глава первая.
«На языке двуостром»
В мае 1922 года Марина Цветаева уехала за границу в эмиграцию, продлившуюся семнадцать лет, будучи уже сравнительно известным поэтом, автором «Верст», поэмы «Царь-Девица», неопубликованных «Юношеских стихов» и «Лебединого стана»; автором «Ремесла»; сборников «Разлука» и «Стихи к Блоку», выпущенных ранней весной 1922—го, перед ее приездом в Берлин. В России от голода в Кунцевском приюте в 1920 году у нее погибла младшая дочь Ирина. Марине Цветаевой было двадцать девять лет. Она приехала в Берлин 15 мая 1922 года и вместе с дочерью Алей и поселилась вначале в пансионе на улице Прагерплац, где жили литераторы, издатели и другие эмигранты. Здесь Марина Ивановна с Алей ждали С. Я. Эфрона, бывшего белого офицера, который после разгрома белой армии стал пражским студентом. Он должен был приехать к жене и дочери из Праги. Душевное состояние Цветаевой в те дни передает стихотворение «Так, разложена и не воссоздана…», записанное 30 мая 1922 г. (не вошло в «После России»):
- Так, разложена и не воссоздана:
- Перья щебеты – и кости порознь.
- Так, доверчиво прождав, что сложится,
- Изумленная своим ничтожеством,
- Некой спорностию безголосою —
- Под законностями, под колесами.
- Так, растравленная до бесстрастия,
- Без архангела, без веры в мастера,
- Всеми клочьями поняв: не свяжется,
- Так, без легкости, но и без тяжести —
- Обесславленное и разъятое,
- Дня из дней твоих творенье: пятое.
Пятый день творения – день, когда Бог сотворил пресмыкающихся и птиц. Цветаева чувствовала себя совершенно раздавленной, у нее не было сил ни жить, ни писать (летать!), ни верить в то, что когда-нибудь будет иначе, и все же постепенно она оживает, занимается подготовкой к печати своих сборников «Психея», «Ремесло», второго издания поэмы «Царь-Девица». Марину Ивановну должны были поддержать появившиеся в печати хвалебные рецензии на ее сборники. На «Разлуку» сердечно, дружески откликнулся Эренбург открытым письмом как на книгу, свидетельствующую о «благородной поэтической генеалогии», о мудрости, о Музе подвига и героики. [2: ЦК, т. 1, с. 81—83.]
М. Л. Слоним в пражской «Воле России» написал об уходе Марины Цветаевой в круг «героического идеализма», назвав Цветаеву одной из лучших русских поэтесс (1 апреля 1922). [3: Там же, с. 87.] Тогда они еще не были знакомы, а познакомил их в Берлине в одном из кафе, где собирались писатели и издатели, поэт Саша Черный. Единственное упоминание о знакомстве Цветаевой с Сашей Черным – в воспоминаниях Слонима. Вряд ли Слоним мог «перепутать» его с А. Белым. См. строки о С. Черном как о детском поэте в прозе «Пленный дух», неодобрительный отзыв о его критической статье, посвященной Ремизову, в статье «Поэт о критике».
Андрей Белый 21 мая 1922 г. восторженно окрестил Цветаеву в своей статье о книге «Разлука» композиторшей и певицей. Несколько рецензий появится и на «Стихи к Блоку»: статьи Львова, Пильского – в апреле, Воинова – в мае Цветаева вряд ли видела; доброжелательную айскую рецензию Потемкина, вероятно, привез ей Эфрон из Праги. Был и восхищенный отклик некого Д. Гр-ва:»««Стихи к Блоку» и «Стихи о Москве» горят самоцветными камнями в кошнице нашей литературы», – писал он 10 июня 1922 года. [4: Там же, т. 1, с. 106.]
Началом июня датируются несколько неоконченных стихотворений Цветаевой: «Рук самозванческий захват…», «Божественно и безоглядно…», «А у Нежности путь отлогий…». Кажется, глухая стена молчания прорвана, настал черед стихам. Книгу «После России» впоследствии откроет стихотворение, датированное 11—ым июня 1922 года:
- Есть час на те слова.
- Из слуховых глушизн
- Высокие права
- Выстукивает жизнь.
- Быть может – от плеча,
- Протиснутого лбом.
- Быть может – от луча,
- Невидимого днем.
Способность писать стихи связана у Цветаевой с чувством и человеческим общением, питающими душу, будящими мысль. Как Гейне, окунувшийся после Германии в бурный водоворот парижской жизни, почувствовала свою поэтическую надобу Цветаева, оказавшись в Берлине. Высокие права выстукивает сердце – рождаются поэтические строки. В начале июня сердце стучит в ритме недавно возникшего «дольнего» чувства к издателю ее «Разлуки», а потом и «Ремесла», к Абраму Григорьевичу Вишняку, или Геликону, как его нарекли по названию издательства. Ей должно было нравится это прозвище: Геликон – гора в Древней Греции, где обитали музы, на ней находился источник, возникший от удара копыта крылатого коня Пегаса, символа поэтического вдохновения (такого черного Пегаса на золотом жетоне выиграла она в юности, в самом начале творческого пути в конкурсе поэтов за стихотворение «Воспоминанье слишком давит плечи…»). Геликон попросил ее перевести «Флорентийские ночи» Г. Гейне.»… это была скорее душа, чем лицо, и потому-то я никогда не мог ясно представить себе его внешний облик» [5: Гейне Г. Проза поэта. М. : Вагриус, 2001. с. 108.], строки Г. Гейне Цветаева вполне могла бы отнести к себе, но перевод остался неосуществленным, а из переписки с Геликоном в 1933 году сложится эпистолярная повесть на французском, условно названная дочерью поэта при публикации « <Флорентийские ночи>», по стиху в черновой тетради 1922 года: «Нежной ночи Флорентийской», из незавершенного стихотворения. [6: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 33 об.]
Стихи пишутся усилием «лба», «от луча, невидимого днем», от неземного освещения тайников души работой луча мысли. «Работаю и прорабатываюсь в рай…» [7: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 26 об.] – записывает Марина Цветаева на одной из страниц тетради. Для нее творчество – час подлинного наслаждения, залог будущего райского сада, того природного рая, который никогда не давал ей чувствовать себя счастливой в земном мире. Творческий час – час пожара страстей, борьбы с собой – и «тишайших», молитвенных слов, час глубочайшего уединения поэта:
- Жарких самоуправств
- Час – и тишайших просьб.
- Час безземельных братств,
- Час мировых сиротств.
Высокие, заоблачные слова, утверждает Цветаева, растут из содранных недр. Поэт чувствует не рифмами, а ребрами, его стихи – жаркость чувств, исповедь сердца. Ей вдруг показалось, что раньше она была недостаточно искренна, совершенна в слове, и вот теперь новая любовь дает ей говорить, словно мир только сегодня сотворен:
[После словес выспренных
Здравствуй, покров содранный!
Целую жизнь – рифмами,
А на сей раз – ребрами.
Древним ребром вздыбленным:
Взрывами – первоглыбами…] – [8: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 70 об.]
так начиналось стихотворение «Лютая юдоль…»,, завершенное 12 июня 1922 года. Здесь Цветаева отождествляет себя то ли с Адамом, то ли с Евой. В окончательном тексте эти строчки отброшены, но автор по-прежнему концентрирует внимание на своем двоемирии:
- Лютая юдоль,
- Дольняя любовь.
- Руки: свет и соль.
- Губы: смоль и кровь.
- Левогрудый гром
- Лбом подслушан был.
- Так – о камень лбом —
- Кто тебя любил?
Цветаева признается, что состоит из двух половин. Одна ее часть – Ева, чей удел – «дольняя», земная любовь в миру поднебесном, и вторая – нечеловеческая, духовная часть (Адам), чьим воплощением является лоб, [9: Впервые отмечено Е. Б. Коркиной: БП90, с. 25.] подслушивающий «левогрудый гром» страстей. Руки Цветаевой-поэта – свет невесомых, невидимых, ангельских крыл – и соль трудового пота. Как всякий истинный поэт, лирическая героиня живет в двух измерениях: в долине и в горнем мире, сводя две свои половины в искусстве, проверяя лбом кипенье чувств (эту тему находим в стихотворениях «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…», «В сновидящий час мой бессонный, совиный…», в других произведениях поэта). Поэзия не «замыслы» и «вымыслы», а сама Жизнь. В звучании живого ключа лирики выражена душа со всей страстностью натуры и заоблачной возвышенностью чувств:
- Бог с замыслами! Бог с вымыслами!
- Вот: жаворонком, вот: жимолостью,
- Вот: пригоршнями: вся – выплеснута
- С моими дикостями – и тихостями,
- С моими радугами заплаканными,
- С подкрадываньями, забарматываньями…
Земная любовь – временное убежище. Цветаева отождествляет себя с птицей, садящейся на правом плече жизни (жизнь здесь, кажется, дана через образ памятника, на который садится птица-поэт), только затем, чтобы, оттолкнувшись от камня, ранним утром взмахнуть крылом и взметнуться в небо:
- Милая ты жизнь!
- Жадная еще!
- Ты запомни вжим
- В правое плечо.
- Щебеты во тьмах…
- С птицами встаю!
- Мой веселый вмах
- В летопись твою.
Стихи – вклад поэта в хронику жизни, веселый «вмах» творческого крыла в жизненную летопись. Именно искусство делает поэта счастливым, дает почувствовать гармонию, увидеть жизнь не ранящей, а «милой» и «жадной».
В рамках мотива первых дней от сотворения мира и Эдема вместо «С птицами встаю» второго стиха последнего четверостишия в беловой тетради записан вариант: «Утр маня змею…». [10: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 70 об.] Поэт – обольститель и обольщенный, деятель и созерцатель, Ева и Адам в одном лице, соблазненный могуществом Природы и новой любовью. Дочь Аля назвала в своих воспоминаниях эту любовь дружбой. О герое романа матери она, тогда девятилетняя, записала совсем по-взрослому: «Геликон всегда разрываем на части – бытом и душой. <…> Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока – Северный полюс, и так же заманчива». [11: В89, с. 126.] Так же притягателен был Вишняк-Геликон для самой Цветаевой, которой не хватало простой жизни, прочного стояния на ногах, потому что парить она умела только, когда испытывала земную нежность, а без любви мучилась, не могла писать, чувствовала себя несчастной. Во время работы над стихотворением «Лютая юдоль…» после строки «С моими дикостями и тихостями» записано двустишие:
- (В две пригоршнями – в две рученьки
- Языческая великомученица…)
Великомученица утешала себя стихами. Первое поэтическое обращение к Вишняку – «Так, в скудном труженичестве дней…», написанное 15 июня 1922 года, приоткрывает, что собеседник Цветаевой – простой смертный, для кого духовный мир лирической героини странен, экзотичен, хотя и привлекателен. В своем «Я» Цветаева подчеркивает то, что отличает ее от «вечных женственностей», от не пишущих стихов прекрасных дам:
- …суровости горький дар,
- И легкой робостью скрытый жар,
- И тот беспроволочный удар,
- Которому имя – даль.
Наряду с жаром чувств, Цветаевой присущ трудный, мужественный дар поэта. Именно осененным мужским началом видела она творчество – беспроволочный удар из далей того света. Поту ведомы все людские чувства, «все древности, кроме: дай и мой», все ревности, кроме той, земной», но, как Фома Неверующий, поэт подвергает их проверке: «… – но и в смертный бой / Неверующим Фомой». Лирическая героиня заклинает своего собеседника быть осторожнее с ней, не впускать ее в сердце:
- Мой неженка! Сединой отцов:
- Сей беженки не бери под кров.
- Да здравствует левогрудый ков
- Немудрствующих концов!
Ее адресат живет земными ощущениями, жизнь его сердца не становится отлитой формулой стиха, и все же Цветаевой хочется надеяться, что Вишняк вспомнит ее рабочую, писательскую руку, уста, говорящие стихами, глаза Сивиллы, видящие сквозь веки, изучающие свою душу, как мироздание: «Глаза, не ведающие век, / Исследующие: свет». «Вы меня разнеживаете, как мех, делаете человечнее, женственнее, прирученнее» (V, 464), – признается Цветаева в письме к Вишняку 17 июня 1922 года, ощутив прилив волны лирики – и Жизни. Тем же днем помечены строки о рождении стихов:
- Ночные шепота: шелка
- Разбрасывающая рука.
- Ночные шепота: шелка
- Разглаживающие уста.
- Счета
- Всех ревностей дневных —
- и вспых
- Всех древностей – и стис-
- нув челюсти —
- и стих
- Спор —
- В шелесте…
- И лист
- В стекло…
- И первый птицы свист.
- – Сколь чист! – И вздох.
- Не тот. – Ушло.
- Ушла.
- И вздрог
- Плеча.
Записи стихотворения предшествуют любовные «ночные шепота». Спор голосов души сменяется дуновением вдохновения, которое живописуется через шелест верхушек деревьев (иносказательный образ звучащей в голове поэта мысли), звук листа по стеклу – звон стиха. Прием рассечения слова и его перенос («и стис-нув челюсти») символизирует борьбу с собой. Раздающийся лирический свист полностью освобождает от чувств, бушевавших ночью: «И вздох. Не тот – Ушло». Взмах творческого крыла возносит над страстями. Конец прилива лирики совпадает с приходом нового дня: рассвет, словно меч, разлучает с адресатом стихотворения, гасит ночные чувства: «И в эту суету сует / Сей меч: рассвет». Мотив меча, смиряющего плоть, встречаем и в поэме «Царь-Девица», и в цикле «Двое». Его истоки – в германо-скандинавском эпосе о Сигурде (Зигфриде), в евангельской символике духовного меча (От Матф. 10; 34—35).
Глава вторая.
«Город друзей»
В стихотворении следующего дня, 18 июня 1922 года, продолжая тему творчества, Цветаева обращается к прежнему адресату с призывом искать себе «доверчивых подруг, не выправивших чуда на число», то есть идти к тем, у кого чудо любви не становится «числом», формулой, стихом, к не-поэтам:
- Я знаю, что Венера – дело рук,
- Ремесленник – и знаю ремесло:
- От высокоторжественных немот
- До полного попрания души:
- Всю лестницу божественную – от:
- Дыхание мое – до: не дыши!
В первоначальном варианте акцентировалось внимание на поэтическом инструменте: «Я знаю, что кифара дело рук». [13: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 30.] Цветаева – ремесленник, подобно скульптору, создающий «Венеру», произведение искусства. Здесь, вероятно, отклик на стихотворение Баратынского «Скульптор» (1841). Поэт сначала молчит от избытка эмоций, затем перемалывает чувства в творчестве, спасается от безмерности любви и нежности в небе искусства. Вишняк – один из тех, с помощью кого Цветаева творит свою Венеру. 20 июня в полпятого утра Цветаева пишет ему любовное письмо, в котором едва заметна тень чуждости. Она отлично знает, что его душа – «бедный спорный дом» на час, и завтра она станет искать другого. 20 июня, будет записано стихотворение «Помни закон…». [14: Стихотворение «Помни закон…» получит в сборнике 40 года название «В Граде Друзей».] Неудовлетворенность романом с Вишняком, порыв к существу иного масштаба пронизывают стихотворение, задуманное 16—го июня. Об этом говорит лаконичная запись в тетради: «Город друзей», – обведенная карандашом. [15: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 30.]
- Помни закон:
- Здесь не владей!
- Чтобы потом —
- В Граде Друзей:
- В этом пустом,
- В этом крутом
- Небе мужском
- – Сплошь золотом —
- В мире, где реки вспять,
- На берегу – реки,
- В мнимую руку взять
- Мнимость другой руки…
- Легонькой искры хруст,
- Взрыв – и ответный взрыв.
- (Недостоверность рук
- Рукопожатьем скрыв!)
- О этот дружный всплеск
- Плоских как меч одежд —
- В небе мужских божеств,
- В небе мужских торжеств!
Цветаева призывает себя оставить любовь для Града Друзей, мужского горного неба «тарпейских круч», в котором на берегу Леты можно будет встретиться в дружеском рукопожатии или подобии его, в электрической искре, радуге с равными душами поэтов. Ища нужные эпитеты, она выстраивает в тетради свой столбец слов, обозначающих, о какой сильной, нестандартной, значительной руке в своей мечтает:
- Рука:
- спартанской
- двужильная
- вселенская
- страстной
- квадратная
- солдатск <ая>
- тарпейская
Цветаева грезит о заревых играх бесстрастных душ и вечных детей-поэтов «на сухом ветру» того света, тоскует о мифическом мире богов и героев:
- Так, между отрочеств:
- Между равенств,
- В свежих широтах
- Зорь, в загараньях
- Игр – на сухом ветру
- Здравствуй, бесстрастье душ!
- В небе тарпейских круч,
- В небе спартанских дружб!
Строки, зачеркнутые в рукописи, видимо, после шестнадцатого стиха, подчеркивают духовность лирической героини, для которой лоб явен, а уста условны, временны:
- [(О как блаженно-пуст
- Час и щедра судьба! / свежа алчба
- Мимо условных уст
- В полную явность лба!
- В беспрекословность лба!]
А в стихотворении «Когда же, Господин…» (22—23 июня 1922), видимо, родившемся из строки «ребро сиви <ллы>» [18: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 30 об.], записанной несколькими днями ранее, слышим ноты разочарования в жизни, усталости от страстей:
- Когда же, Господин,
- На жизнь мою сойдет
- Спокойствие седин,
- Спокойствие высот.
- Когда ж в пратишину
- Тех первоголубизн
- Высокое плечо,
- Всю вынесшее жизнь.
Она мечтает о спокойствии «седин», о бесстрастии духа, хочет окунуться в пратишину небесного царства. Со всех любовных перин рвалась она «в синь горнюю», и томила ее ложь произнесенных слов, поэтому вслушивалась она в голоса деревьев. « (Это не твой ли вздрог, / Гордость, не твой ли ворк, / Верность?)» – добавляет Цветаева в скобках. Утренняя творческая жизнь тоже природна, это воплощенная верность духовным корням, своей нечеловечьей, птичьей сути. Она понимает, что была бы счастливее, если бы жила только в одном, человеческом измерении:
- – Остановись,
- Светопись зорких стрел!
- В тайнописи любви
- Небо – какой пробел!
В черновике – отброшенный вариант 27—28 стихов, в котором сравниваются не любовь земная и небесная, а стихи о любви с пустотой небес: «В песеннике любви / Небо какой пробел!» [19: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 34 об.] В окончательном тексте лучи утреннего солнца и искусства – «бич в жимолость нежных тел»; удар, разрушающий земную любовь, вскрывающий раны, кровью которых пишутся стихи, ставящий запрет на людском счастье: «Если бы – не – рассвет: / Дребезг, и свист, и лист, / Если бы не сует / Сих суета – сбылись / Жизни б…». Творчество – малярный мел, закрашивающий «летопись ребра», чистый лист, пробел в земной жизни: Жимолость – это образ из легенды о Тристане и Изольде (подробнее об этом: //Нева, 2014, №1).
Во время работы над стихотворением «Когда же, Господин…» записан столбец:
- «Вечная мужественность.
- О Спарте (ландшафт)
- __
- жалоба в жару…»
«Жалоба в жару» – строка стихотворения «Земное имя», вспомнившегося Цветаевой, спартански борющейся со своими страстями. «Двойственная грудь» [19: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 23 об.] – пишет о себе Марина Ивановна в тетради. – «Глаза в два света». [22: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 27 об. Близкий мотив прозвучит в 1939 году в неоконченном стихотворении «В два цвета – горностай…» (ЧТ-32).] Она Ева и Сивилла, в ней говорят, перебивая друг друга, земной, жалобный – и – духовный, бестрепетный голоса. Возможно, мысль о двуединстве пришла к ней, потому что у нынешнего ее избранника два имени: земное, древесное – Вишняк, и книжное – Геликон. В своих письмах к нему Цветаева вообще обходится без имени, словно знает наперед, что письма останутся, а любовь погаснет. В ночь на 24—е июня Сивилла-Ева пишет ему: «Мой нежный! Несколько слов в Ваш утренний сон: ночью рука от нежности все-таки не удержала пера! У меня к Вам еще два блаженных камня – колеблюсь – нужно, чтоб знали, но – если Вы человек – Вам не может не сделаться больно. <…> Не камни: две ЛЮТЫЕ мечты, неосуществимые в сей жизни, исконная жажда моего существа, самая тайная, семижды семью печатями запечатанная. <…> То для чего я на свет родилась». [23: СВТ С. 96.] Если Вы человек, – сомневается Цветаева в чуждости собеседника. Эти слова заставляют подумать, что ЛЮТЫЕ мечты, неосуществимые в жизни, – это мечты о родном ей нечеловеке-поэте. Рядом в тот момент был Илья Эренбург, с которым дружило мужественное «я» Марины. Виделась она в Берлине и с Сергеем Есениным. С поэтом Андреем Белым нянчилась, как с ребенком, так беззащитен был он в берлинском своем несчастье. Белый на закате чудно рассказывал ей об Александре Блоке!
Цветаева намеренно не проставила даты в письме к Вишняку, словно писала из Вечности: «Рассвет какого-то июньского дня, суббота». [24: Там же.] Очевидно, «два блаженных камня» цветаевской мечты находятся над жизнью с ее числами, датами, сроками. Утром того же дня или на рассвете записаны стихи, энергичные, мажорные, передающие силу цветаевского голоса, ее жажду творчества:
- По загарам – топор и плуг.
- Хватит – смуглому праху дань!
- Для ремесленнических рук
- Дорога трудовая рань.
- Здравствуй – в ветхозаветных тьмах —
- Вечной мужественности взмах!
Цветаева стряхивает с себя прах страстей, их символом выступает эпитет «смуглый». Л. В. Зубова истолковала «смуглый» как символ «избранности, духовности и красоты». [25: З89, с. 118.] На наш взгляд, «смуглый» – эпитет, встречаемый в стихах «Ахматовой» « (1916), «Скоро уж из ласточек – в колдуньи!..» (1921), «Муза» (1921), «Бич жандармов, бог студентов…» (1931), является метафорой загара Жизни, в противовес серебряному загару Вечности. [26: В цикле «Дочь Иаира» (1922) : «То Вечности / Бессмертный загар»; «На пушок девичий, нежный – / Смерть серебряным загаром».] Смуглость кожи – опаленность солнцем любви. Можно предположить, что его истоки – в библейской Песни Песней: «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, – моего собственного виноградника я не стерегла» (1; 5). А еще – в любви Цветаевой к «негрскому» Пушкину. В стихотворении «По загарам – топор и плуг…» Цветаева пишет о часе творчества, о дорогой для ремесленнических рук поэта трудовой поре и ощущает себя ветхозаветным Авраамом, дающим жизнь стихам патриархом:
- Мхом и медом дымящий плод —
- Прочь, последнего часа тварь!
- В меховых ворохах дремот
- Сарру-заповедь и Агарь-
- Сердце – бросив…
- – ликуй в утрах,
- Вечной мужественности взмах!
Земную любовь поэт отсылает прочь, усыпляет в себе «Сарру-заповедь и Агарь-сердце», долг жены и страсть любовницы во имя вечной мужественности. В этом соотнесении с Авраамом – цветаевский союз, «завет» с Богом (по легенде, Авраам является изобретателем алфавита, поэтому сопоставление продиктовано самой темой). Несколько дней спустя последняя строка этого стихотворения станет подзаголовком к статье о Пастернаке «Световой ливень» («Поэзия вечной мужественности»). В стихотворении «По загарам – топор и плуг…» Цветаева словно пишет портрет поэта своего поколения, а не автопортрет.
Глава третья.
«В новой шкуре»
После приезда Эфрона семья перебралась «в маленькую гостиночку на Траутенауштрассе», где вместо прежнего большого номера заняла «два крохотных – зато с балконом». [27: В89, с. 131.] Этот балкон впервые упоминается в письме к Вишняку 25 июня 1922 года: «Рвусь сейчас между двумя нежностями, – пишет ему Цветаева, – Вами и солнцем. Две поверхности: песчаная – этого листа, и каменная – балкона. От обеих – жар, на обеих – без подушки, на обеих – закрыв глаза. И не перо одолевает, а Вы, – ибо стихов я сейчас не пишу. (Писала пол-утра!)
– Солнышко! Радость! Нежность! <…> А с Вами: шепота, щека, щебеты <пропуск одного слова> – жизнь, до безумия глаз мною сейчас любимое слово: в каждом стихе Жизнь. <…> знаю, что это безобразие с утра: любовь – вместо рукописей! Но это со мной ТАК редко, ТАК никогда – я все боюсь, что это мне во сне снится, что проснусь <…>. – Радость!» [28: СВТ, с. 97.] Этим же днем датированы три стихотворения сборника «После России»: «Здравствуй! Не стрела, не камень…», «Некоторым – не закон…», «Дабы ты меня не видел…» Именно в таком порядке размещены они в сборнике. В БТ сначала дано «Некоторым не закон…», потом «Здравствуй! Не стрела, не камень…», потом «Дабы ты меня не видел…». Даты в беловой тетради стоят только под первым и последним из трех. Почему? Быть может, Цветаева указывает отсутствием даты на то, что стихотворение «Здравствуй! Не стрела, не камень…» она могла бы пометить любым числом, что оно из Вечности? Итак, 25—е – особенный день: окончены три стихотворения! Такой лирический взрыв связан с сердечными переживаниями огромной силы:
- Здравствуй! Не стрела, не камень:
- Я! – Живейшая из жен:
- Жизнь. Обеими руками
- В твой невыспавшийся сон.
- Дай! (На языке двуостром:
- На! – Двуострота змеи!)
- Всю меня в простоволосой
- Радости моей прими!
- Льни! – Сегодня день на шхуне,
- – Льни! – на лыжах! – Льни! – льняной!
- Я сегодня в новой шкуре:
- Вызолоченной, седьмой!
- – Мой! – и о каких наградах
- Рай – когда в руках, у рта:
- Жизнь: распахнутая радость
- Поздороваться с утра!
Четыре года Цветаева ждала встречи с Эфроном, и ее чувство счастья вполне объяснимо долгой разлукой и свиданием. Ль, повторяемое в третьем четверостишии, воплощает нежность любви, но текст написанного в этот день письма заставляет подумать, что радостью жить Цветаева обязана Вишняку! Из-за него Цветаева почувствовала себя не духом, а «живейшей из жен», Евой, Змеей из Эдема, сбросившей старую кожу, самым воплощением Жизни и Лирики! Работая над текстом в беловой тетради, Цветаева внесла вариант 7—го стиха, подчеркивающий отождествление со змеей (добавлен другими чернилами), с Медузой Горгоной, из капель крови которой родился конь Пегас: «Всю меня в змееволосой / Радости моей прими!» [29: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 74.] Возможно, вспоминала Марина собеседницу Максимилиана – Марию из «Флорентийских ночей», которую Гейне изобразил с длинными локонами, которые, «как вспугнутые золотые змеи, кольцами обвили ее голову», или Пагании, которого во время исполнения музыки Гейне тоже изобразил с волосами, «словно черные змеи».
Строки стихотворения Цветаевой изъявляют не только полноту женского счастья после любовной ночи, они о «простоволосой», непричесанной, стихийной радости лирического высказывания. Радость «поздороваться с утра» – подлинное счастье говорить стихом и быть услышанной, присутствие собеседника и адресата для стихов. Сегодня шхуна ее души плывет в океане лирики, подгоняемая ветром вдохновения. Цветаева не совсем оттаяла от льдов одиночества. Чужая душа – льняной парус, любовное полотно будущих стихов, которые напишет она, освободившись от прежних страстей, в новой «шкуре», «вызолоченный», «седьмой», отражающей солнце в стихах. Кто был этим солнцем: Эфрон или Геликон? Два солнца светили одновременно на ее небосклоне! (См. талантливый разбор стихотворения «Два солнца стынут – о Господи, пощади!», в статье С. Карлинского., назвавшего стихотворение об Эфроне и С. Парнок вариацией на романс Шуберта «Die Nebensonnen» («Ложные солнца») из цикла «Зимнее путешествие»). – Карлинский С. «Два солнца-соперники» (// Литературное обозрение, 1992. №11—12, с. 31—37). Если верить письму, Цветаева абсолютно занята Геликоном, он в ней пробудил и нежность, и жажду жить, и взметнул в облака ее Пегаса. Последнее четверостишие имело другие редакции: вариант, показывающий двуостроту цветаевского языка:
- Мой! – И никаких законов:
- Вздох! – И никаких застав:
- Взмах! – И никаких спросонок
- Клятв: все выцелуем в тьмах.
И более «земной» вариант последней строфы в рабочей тетради:
- «Мой! – и о каких наградах
- Рим – когда в руках у рта:
- Жизнь: распахнутая радость
- Поздороваться с утра!»
В Риме Марина Ивановна побывала в 1912 году, во время свадебного путешествия. А. С. Эфрон о дне берлинского приезда отца вспоминала: «Точная дата приезда моего отца в Берлин в памяти не сохранилась. <…> весть, со дня на день ожидавшаяся, застигла Марину врасплох, и мы с ней не просто поехали, а кинулись сломя голову встречать Сережу…». [32: В89, с. 130.] И. В. Кудрова, ссылаясь на надпись Цветаевой на „Разлуке“, пишет, что встреча Цветаевой с С. Я. Эфроном состоялась 7—го. [33: К97. т. 1, с. 14.] Действительно, можно так решить, прочитав:» – Сереже. – Берлин, 7—го нов. июня 1922 г. – День встречи. – Марина». [34: Поэт и время, с. 108.] Вероятнее всего, Цветаева надписала «Разлуку» заранее, на 7—е наметив свидание, состоявшееся позднее. Она так любила эту цифру, так верила в ее могущество! Тетради, стихи, посвящения на книгах Марина Ивановна любила отмечать именно этим днем. Возможно, Ариадна Сергеевна не хотела акцентировать внимание на дате приезда отца, потому что лирика тех дней была вызвана к жизни не отцом, а Геликоном? Поэт не подчиняется человеческим законам, не спит даже тогда, когда всё вокруг спит, в творческом сне анализирует свои чувства и обнаруживает: в секретных лепестках стихотворения не того адресата, которым цвела душа:
- Некоторым – не закон.
- В час, когда условный сон
- Праведен, почти что свят,
- Некоторые не спят:
- Всматриваются – и в скры-
- тнейшем лепестке: не ты!
Стихи – способ укрыть свои эмоции от любопытствующих глаз за лживой изгородью слов, тайный дом запретных чувств, скрывающий сердечные тайны; изморозь, холодящая сердечный жар. О новой любви не должен узнать муж, к которому она так рвалась, с которым четыре года была в разлуке:
- Дабы ты меня не видел —
- В жизнь – пронзительной, незримой
- Изгородью окружусь.
- Жимолостью опояшусь,
- Изморозью опушусь.
- …………………………………………………..
- Дабы ты во мне не слишком
- Цвел – по зарослям: по книжкам
- Заживо запропащу:
- Вымыслами опояшу,
- Мнимостями опушу.
Эфрон, конечно, все узнал, и, вероятно, постарался скрыть свою догадку. Об этом через год он с горечью расскажет в письме М. А. Волошину. Именно поэтому Сергей Яковлевич недолго пробыл в Берлине и предоставил Марине Ивановне полную свободу. Цветаева водила тогда дружбу с Эренбургами, с мужем и женой, встречалась с Андреем Белым, с Л. Е. Чириковой, с Сергеем Есениным, с Сашей Черным, с Романом Гулем, откликнувшимся статьей на выход цветаевских «Верст» (1921). Во всем этом литературно-человеческом многоголосии главный голос неожиданно прозвучал издалека.
Глава четвертая. «Кариатида»
Видимо, поздно вечером 26—го июня Цветаева получила через посредничество Эренбурга письмо от жившего в России Бориса Пастернака. Такова дата на штемпеле (ЦП, с. 572). Ранее, в БПН, нами приводилась ошибочная дата – 21 июня. В воспоминаниях дочери поэта – 27 июня. До отъезда Цветаевой из России она и Пастернак несколько раз встречались в литературно-художественных кругах Москвы, но творчески почти не знали друг друга. Цветаева раз слышала Пастернака с эстрады, какие-то стихи знала от Эренбурга, «то, что <…> говорил Эренбург – ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь» [35: ЦП, с. 16.], и все же она не прониклась его стихами всерьез. Пастернак уже после отъезда Цветаевой в Германию вдруг прочел ее «Версты» [36: Цветаева М. Версты: Стихи. Вып. первый. М. : Госиздат, 1922.] и, ошеломленный силой цветаевского дарования, отправил ей письмо, а следом свою книгу «Сестра моя – жизнь». [37: Пастернак Б. Сестра моя – жизнь: Лето 1917 г. : Посвящается Лермонтову – М. : Изд-во З. И. Гржебина, 1922.]
Читая письмо Цветаевой к Вишняку от 26 июня 1922 года, убеждаемся, что слово поэта обладает вещей, предсказывающей силой. И Цветаева сама поражается ворожащей мудрости своих стихов и писем: «Родной! То, что сегодня слетело на пол и чего Вы даже не увидели, было ненаписанное письмо к П <астернаку>». [38: СВТ, с. 98.] Таким образом, письмо Вишняку 25 июня Цветаева наполнила мыслями, которые мог понять Пастернак, отославший ей письмо из Москвы 14—го июня, с дрожью в голосе читавший вслух «Знаю, умру на заре…», потрясенный ее поэзией!
Мотивы письма 26 июня подхватывает обращенное к Геликону стихотворение, созданное в тот же день (не вошло в «После России»), говорящее о полифоничности души, о троичности сердечных переживаний, отраженных в лирике: «В пустынной храмине / Троилась – ладаном. / Зерном и пламенем / На темя падала». Дымок цветаевского поэтического дыхания, как ладан, троится в «храмине», потому что вызван сразу тремя собеседниками: Вишняком, Эфроном и Пастернаком. В стихотворении «В пустынной храмине…» Цветаева говорит о себе как о неземной птице, затем как о маленькой «жаровне», печи, где раскуривается тоска, согреваются «земные руки» и без остатка сгорает жизнь:
- В ночные клёкоты
- Вступала – ровнею.
- Я буду крохотной
- Твоей жаровнею:
- Домашней утварью:
- Тоску раскуривать,
- Ночную скуку гнать,
- Земные руки греть.
Призывает своего собеседника напрячь душевное зрение, чтобы понять, что она пришла не Логосом, не своей небесной сивиллиной сутью, а «пустоголовостью <…> щебечущей», пришла любить:
- – Не властвовать!
- Без слов и на слово —
- Любить… Распластаннейшим
- В мире – ласточкой!
Но в концовке стихотворения Цветаева все же уподобляет себя ласточке, в которую обращается, побыв женщиной. Птица взмывает в поэтическое небо, чтобы проверить словом земную страсть. Сброшенная «с безжалостной груди богов» возвращается в облака. Возможно, вcпомнив эти цветаевские стихи, Пастернак назовет главную героиню романа «Доктор Живаго» Ларой: Лара, Лариса – «ласточка». Это птичье слово в письме Андрея Белого к Цветаевой: он горевал после разрыва с Асей Тургеневой, а в Цветаевой нашел утешительницу, поверил, что нужно жить дальше: «опять повеяло вдруг, неожиданно, от Вас: щебетом ласточек, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина – есть, и что ничто не погибло…» [4 0: В89, с. 128.]
В тетради Цветаевой 30 июня 1922 г., во время работы над стихотворением «Балкон», записи отдельных строк: «Любови и ремесла / Божественные тяготы» [41: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 42—42об.]; «Ибо на лбу моем трепет бессмертных крыл»; «Кариатид <а>» (Там же). Цветаевой было свойственно отношение к поэту как к столпнику, памятнику. Духовный рост личности – один из основных мотивов в ее стихах и прозе. В 1932 году Цветаева писала о Рильке, подчеркивая его духовную близость русским столпникам и подвижникам: «Р <ильке> <…> никуда не двигался (в смысле продвиженья, развитья), он всего лишь рос, как наши русские столпники, что пятьдесят лет подряд неподвижно стояли на деревянном столпе и в конце концов перерастали небо. (Я знаю, что Р <ильке> любил ходьбу, но когда в ходьбе не замечаешь, не чувствуешь своих ног, ощущая собственный шаг лишь по бегущим (летящим) мимо небесам и землям, это опять-таки рост – неподвижность – устремленность». [42: См. об этом:НА, с. 365.] Кариатиды – фигуры-колонны, держащие на своих плечах здание, кажутся Цветаевой символами поэтов. Вероятно, здесь вновь отголоски чтения «Флорентийских ночей» Г. Гейне, где ножками кровати Лоранс служили кариатиды и сфинксы, а орлы целовались клювами, точно голуби. [43: Г. Гейне. Указ. соч., с. 215.] В новелле Гейне важна тема сна, а Цветаева на протяжении всей жизни соотносила сон и творчество: «… эти ночные видения поистине не менее реальны, чем те грубые явления дня, к которым мы можем прикоснуться руками и которые так часто нас загрязняют». [44: Г. Гейне. Указ. соч. с. 108.]
Превращение Кариатиды в ласточку происходит не всегда. В стихотворении «Балкон» (в БТ записано без заглавия) Цветаева на мгновение внутренне отказывается от лирики, от возможности излить чувства в стихах:
- Ах, с откровенного отвеса —
- Вниз – чтобы в прах и смоль!
- Земной любви недовесок
- Слезой солить – доколь?
Стихи – слезы, попытка выдохнуть ожесточение, переполняющее сердце, потому, вероятно, что любит она не того.
- Балкон. Сквозь соляные ливни
- Смоль поцелуев злых.
- И ненависти неизбывной
- Вздох: выдышаться в стих!
В черновиках находим другой вариант, подчеркивающий отсутствие собеседника, вакуум непонимания:
- Под терпеливостью воловьей.
- Кровь, под ногой этаж!
- Чтобы с гранитного надбровья
- В воздух шагнуть в тебя ж!
Борьба с собой, борьба с любовью в следующих строках «Балкона» названа дикой и жестокосердой. Все усилия в конечном счете сводятся к тому, чтобы, оттолкнувшись от реальности, мысль устремилась в лазурь. Цветаева принимает своего избранника за совершенство, а потом вдруг, словно проснувшись, спохватывается, как героиня пушкинской «Метели»: «Ай, не он! Не он!» А рядом – ревнующий молодой муж, и он не может не чувствовать, что лирический огненный полог – не в его честь. Цветаева думает о той поре, когда навечно освободится от страстей:
- Да, ибо этот бой с любовью
- Дик и жестокосерд.
- Дабы с гранитного надбровья
- Взмыв – выдышаться в смерть!
Лирическая героиня Цветаевой – Кариатида, держащая небо искусства, чувствующая на своем лбу «трепет бессмертных крыл». [46: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 42 об.]
Глава пятая. «Златоуст»
Письмо к Вишняку 30—го июня еще полно нежности, но в нем уже намечена трещина будущего разлада. Цветаева видит вычерпанное дно его души, просит своего адресата о невозможном: «Вы мой человеческий дом на земле, сделайте так чтобы Ваша грудная клетка (дорогая!) меня вынесла, – нет! – чтобы мне было просторно в ней, РАСШИРЬТЕ ее – не ради меня: случайности, а ради того, что через меня в Вас рвется». [47: СВТ, с. 101.] Следующее письмо к тому же адресату датировано 2—ым июля. Насмешку, иронию в своей интонации Цветаева, позже перечитывая это письмо, почувствует и назовет «солнцеворотом»: в 1932 году запишет поперек страницы, перед началом письма: «Думаю, что между 30 т <ым> нов <ого> июня и 2ым нов <ого> июля – либо письмо Б. П., либо письмо к Б. П., либо усиление дружбы с Белым. Слишком явный – солнцеворот (от корреспондента!)». [48: Там же, с. 101.] Первое письмо к Пастернаку датировано 29—ым июня (29—ым июня Цветаева пометит в беловой тетради и стихи «Помни закон…», написанные 20 июня, просто потому что по своей теме могли быть посвящены Пастернаку), а «восхитительная (от земли восхищающая) ночная поездка с Андреем Белым в Шарлоттенбург» [49: СВТ, с. 102.] состоялась 1—го июля. 1—го же Цветаева получила «Сестру мою – жизнь». О ней 3—го июля в статье «Световой ливень» говорит: «Мой двухдневный гость» (V, 231). Об этом же ночном госте читаем в стихотворении, оконченном 2—го июля:
- Ночного гостя не застанешь…
- Спи и проспи навек
- В испытаннейшем из пристанищ
- Сей невозможный свет.
- Но если – не сочти, что дразнит
- Слух! – любящая – чуть
- Отклонится, но если навзрыд
- Ночь и кифарой – грудь…
- То мой любовник лавролобый
- Поворотил коней
- С ристалища. То ревность бога
- К любимице своей.
Очевидно, обращаясь, к Эфрону, Цветаева пишет, что тот не застанет у нее ночного гостя, потому что это не человек, а книга, «невозможный свет», льющийся со страниц пастернаковских стихов «световой ливень» (именно так Цветаева назовет написанную следом статью о Пастернаке). Этого странного гостя она утаит в своих стихах. В тетради – варианты 5—7 стихов, записанные во время подготовки книги в 1927 году, развивающие мотив творческого сна и думы о будущем, надежды на новую, настоящую, большую любовь. Возможно, Цветаева из суеверия не внесла их в текст:
- Но если сновиденно-развит
- Слух, в комнате, где чуть
- Не ладится…
- Но если – не сочти, что дразнит
- Слух! Будущее – чуть
- Обмолвится
После записи синими чернилами стихотворения «Ночного гостя не застанешь запись карандашом:
- «Ласточки жаль. к тебе
- О П <астерна> ке»
«Навзрыд ночь и кифарой – грудь» – от ночного чтения стихов. Цветаева тоже начинает писать стихи, просит Эфрона не ревновать к ночному гостю, которого она видит лавролобым богом, чье чело увенчано лавром победы в поэтическом искусстве. Впервые эпитет «лавролобый» появился в тетради Цветаевой во время работы над стихотворением «Балкон» 30 июня 1922 года, на следующий день после первого письма к Борису Пастернаку. [53: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 42.] Она воспринимает Пастернака Аполлоном, богом поэзии. Общение с ним – обретение утраченного неба, возвращение на Олимп, беседа с равным собеседником из Града Друзей, способным услышать музыку лиры, понять особенный цветаевский язык. Об этом – стихотворение, не вошедшее в «После России»), записанное 3—го июля:
- И скажешь ты:
- Не та ль
- Не ты,
- Что сквозь персты:
- Листы, цветы —
- В пески…
- Изустных
- Вер – индус,
- Что нашу грусть —
- В листы,
- И груз – в цветы
- Всего за только всхруст
- Руки
- В руке:
- Игру.
- Индус, а может Злтоуст
- Вер – без навек,
- И без корней
- Верб
- И навек – без дней…
- (Бедней
- Тебя!)
- И вот
- Об ней,
- Об ней одной…
«И скажешь ты», – с обращения к Пастернаку начинается стихотворение, написанное, судя по черновой тетради, словно в один присест, и почти без помарок. Рассказ о себе Цветаева ведет от его лица. Ее явление подобно дождю или реке, льющейся сквозь барьеры – «в пески», в пустыню Вечности. Тема пустыни и индуса, возможно, отсылка к стихотворению Б. Пастернака «Тоска» («Сестра моя – жизнь»). Душа – река, устремленная к тому свету, «неудержимый ни в чьих руках (Поток.)». [55: СВТ, с. 449.] Поэт – «изустных вер – индус», «индус, а может Златоуст вер». Подобно Иоанну Златоусту, архиепископу, отличавшемуся необыкновенным красноречием в проповедях, поэт в золотом слове несет людям свою проповедь, выплескивает людскую грусть на листы бумаги, груз жизненного горя обращает в цветы лирики. И все это «за только всхруст руки в руке: игру» любовь, чтобы почувствовать себя в кругу родственных душ, Поэт закрепляет в слове бегущее мгновение.
Поэт – «Златоуст вер» «без корней верб». Верба – дерево, связанное с представлением о посмертии, символ лирической героини и Вечной жизни:
- Вербочка! Небесный житель!
- – Вместе в небо! – Погоди! —
- Так и в землю положите
- С вербочкою на груди.
В стихотворении «И скажешь ты…» образ верб без корней подчеркивает оторванность поэта от земли, устремленность в Вечность. «Бедней тебя!» – восклицает Цветаева в скобках, обращаясь к собеседнику, от чьего имени произносила она монолог, чьими глазами смотрела на себя. Она «бедней», он куда богаче, его уста куда красноречивей, золоче! И все-таки это стихотворение «об ней, об ней одной», о себе, а не о нем, хотя и о нем: Пастернак тоже индус, несущий в книгах свое представление о Боге и мире.
Возможно, в тот же день, 2—го июля, Цветаева пытается начать другое стихотворение – «Неподражаемо лжет жизнь…», которое было бы уже только о Пастернаке, записывает отдельные стихи: «Ибо Ладонь жизнь» [56: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 46 об.]; «львиные ливни»; «Так из-под ливня твоих <твоих> строк» (Там же). Окончены эти стихи 8 июля и помечены в тетради пастернаковскими инициалами, а в беловой тетради под текстом стихотворения – уточнение: «Перерыв из-за статьи о Пастернаке: «Световой ливень». [57: БП90, с. 732.] Статья была закончена 7—го июля. В завершенном стихотворении ясно ощутимо восхищение Пастернаком, чувство потрясенности силой его гения. [58: Жимолость – отзвук легенды о Тристане и Изольде в пересказе Марии Французской.]
- Неподражаемо лжет жизнь:
- Сверх ожидания, сверх лжи
- Но по дрожанию всех жил
- Можешь узнать: жизнь!
- Словно во ржи лежишь: звон, синь…
- (Что ж, что во лжи лежишь!) – жар, вал…
- Бормот – сквозь жимолость – ста жал…
- Радуйся же! – Звал!
- И не кори меня, друг, столь
- Заворожимы у нас, тел,
- Души – что вот уже: лбом в сон.
- Ибо – зачем пел?
- В белую книгу твоих тишизн,
- В дикую глину твоих «да» —
- Тихо склоняю облом лба:
- Ибо ладонь – жизнь.
В беловой тетради – заглавные буквы, превращающие «ладонь» стиха в метафору высшего существования: «Тихо склоняю облом лба: / Ибо Ладонь – Жизнь». [59: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 77.] В первоначальных вариантах второго четверостишия и себя, и своего собеседника Цветаева уподобляет скалам и стенам, но все же возвращается далее к образу человеческого тела, противопоставленного тонкой душе. Завороженность стихами Пастернака передают многоточия и обрывистые, короткие предложения. Кажется, внутри стиха не умещается чувство. Жизнь «неподражаемо лжет», в ней Цветаева вечно чувствует себя солганной, неестественной, не собой, но «по дрожанию всех жил», по затронутости души, готовой задрожать струной, зазвучать музыкой, Цветаева узнает в стихах Пастернака преображенную Жизнь, какой в лучшие свои часы живет и она. Чтение пастернаковских стихов навеяло мысли о ржаном поле, соотнеслось с просторами. Если любовь к Геликону – «земной любви недовесок», то новая любовь – море хлеба. С цветаевскими стихами любопытно сравнить черновой набросок раннего Пастернака «Быть полем для тебя; сперва как озимь…» (опубликовано без даты) :
- Быть полем для тебя; сперва как озимь,
- Неузнаваемая озимь. И сквозь сон
- Услышать, как разбился скорбно о земь
- Запекшихся ржаных пространств разгон.
- Быть полем для тебя; все ежедневней
- Идти событья душного межой
- И знать, что поздно
По мнению Цветаевой, стихи переносят в Царство Небесное. В Евангелии высший мир соотносится с полем, скрывающим сокровища: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то» (От Матф. 13; 44). « (Что ж, что во лжи лежишь!)» – уточняет Цветаева в скобках. Стихи – жизнь, преображенная искусством, «поэтическое вымышление», как гласит эпиграф к «Тетрадке первой» «После России» (см. ниже). Именно «вымышление» и вызывает грандиозный пожар сердца, вздымает вал чувств, жужжанием тысячи пчелиных голосов проникает вглубь души. Погружение в лирику Цветаева обычно воспринимала сновидением. Мотив сна – и в черновиках к стихотворению о Пастернаке: «Не выводи же меня – в жизнь, / Лучше возьми – в сон» [61: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 47 об.], и в окончательном тексте. «Сестра моя – жизнь» – книга тишины, духовная, сновиденная книга, полная откровений обо всем несказанном, дикая глина ответов на непроизнесенные вопросы бытия, застывшие в первозданной красоте таблички клинописи древнего человека, создания бога-ваятеля, слепившего неповторимый мир. В «Сестре моей – жизни», как по ладони, она читает Жизнь Пастернака, свое родство с ним.
Концовка окончательного варианта стихотворения созвучна волошинскому обращению к Цветаевой после выхода ее первой книги, «Раскрыв ладонь, плечо склонила…» (3 декабря 1910), с близкой темой:
- Раскрыв ладонь, плечо склонила…
- Я не видал еще лица,
- Но я уж знал, какая сила
- В чертах Венерина кольца…
- И раздвоенье линий воли
- Сказало мне, что ты, как я,
- Что мы в кольце одной неволи —
- В двойном потоке бытия.
- И если суждены нам встречи…
- (Быть может, топоты погонь),
- Я полюблю не взгляд, не речи,
- А только бледную ладонь.
«Склоняю облом лба» – «плечо склонила» – эта интертекстуальная связь включает Пастернака в общий с Цветаевой и Волошиным ряд небожителей-поэтов, живущих «в кольце одной неволи», «в двойном потоке бытия»: стихотворение Волошина построено на мотиве «О вещая душа моя…» (1855) Ф. И. Тютчева, а потому называет истинный, просторный поэтический круг, «город друзей» – поэтов:
- О вещая душа моя!
- О, сердце, полное тревоги,
- О, как ты бьешься на пороге
- Как бы двойного бытия!..
Цветаева начинает осознавать, насколько близкий поэт входит в ее жизнь, сколь сильной может оказаться любовь к нему, но боится своих чувств:
- Думалось: будут легки
- Дни – и бестрепетна смежность
- Рук. – Взмахом руки,
- Друг, остановимте нежность.
Выразительный черновой вариант 3—4 стихов:/p>
- Рук. – Дуновеньем души
- Друг, остановимт <е> нежн <ость>
Сначала ей казалось, что Пастернак не «любовь», а «дружба», что ее чувство к нему – чувство поэта к поэту; но вот она отмечает, что не могла бы встретиться с ним в бесстрастном рукопожатии, и пытается призвать, пока не поздно, пока он не стал любовью, которую она будет на рассвете проверять формулой стиха, остановиться:
- Не – поздно еще!
- В рас – светные щели
- (Не поздно!) – еще
- Нам птицы не пели.
В четверостишии – автореминисценция стихотворения «Ночные шепота: шелка…», связанного с Геликоном. Тогда стихи отрезвляли ее страсть, возвращали к сознанию одиночества. Вспоминая недавнюю любовь, Цветаева боится, что та же участь постигнет и этот, еще не начавшийся роман:
- Будь на – стороже!
- Последняя ставка!
- Нет, поздно уже
- Друг, если до завтра!
Пастернак – «последняя ставка» на лучшую себя, которая может осуществиться в любви к нему. И она признается, что уже поздно быть настороже, нежность не остановима, нельзя «откладывать смерть» земных страстей:
- Мертвые – хоть – спят!
- Только моим сна нет —
- Снам! – Взмахом лопат
- Друг – остановимте память!
Комментируя в примечании к стихотворению интонацию этих стихов, Цветаева написала: «Ударяется и отрывается первый слог. Помечено не везде». Для нее графика была символом того самого взмаха руки, останавливающего сердце, роняющего страсть на дно души.
9 июля 1922 года записано еще одно стихотворение, развивающее тему предшествующего:
- Руки – и в круг
- Перепродаж и переуступок!
- Только бы губ,
- Только бы рук мне не перепутать!
- Этих вот всех
- Суетностей, от которых сна нет.
- Руки воздев
- Друг, заклинаю свою же память!
В черновике стихотворение начиналось образом Фомы Неверующего, а лирический герой отождествлялся с Христом:
Дело не в том:
Нынче меня, а потом другую!
Легким перстом
Новую рану твою ревную.
Ревность в дугу
Сжав – заклинаю свою же верность.
В легком кругу
Недостоверных моих соперниц.
(II, 501)
В окончательном тексте стихи о ревности к тайным и явным соперницам сменяет живописание лирической героини в кольце компромиссов, «перепродаж и переуступок». Свою любовь к Пастернаку она стремится выделить из циркового круга жизни, воздевает руки к нему, как к богу или ангелу:
- Чтобы в груди
- (В тысячегрудой моей могиле
- Братской!) – дожди
- Тысячелетий тебя не мыли…
- Тело меж тел,
- – Ты, что мне пропадом был
- двухзвездным!..
- Чтоб не истлел
- С надписью: не опознан.
Концовка стихотворения в тетради была такой:
- [Ты, что мне воздухом был и розой!]
- [Ты, что мне воздухом был морозн <ым>]
- Чтоб не истлел
- С надписью: не опознан.
Двухзвездный пропад – две ночи, проведенные с пастернаковской книгой. Этот вариант победил выразительное отождествление поэзии Пастернака с воздухом и розой. Пастернак не окажется в «свалочной яме» бывших «Высочеств». Один из коронованных и развенчанных – Геликон, которому ночью 9—го июля написано прощальное письмо: «Сегодня наши мысли врозь, Вы берете в сон – другую, я – целое небо. <…> Вне милых бренностей: ревностей, нежностей, верностей, – вот так, под пустыми небом: Вы мне дороги. Но мне с Вами просто нечем было дышать». [66: СВТ, с. 103—104.] Пустое небо, плывущее над Цветаевой, – облака лирики Пастернака. Эти мысли сквозят в стихотворении «Слушать шаг…». В беловой тетради оно записано после стихотворения «Берлину», в черновике предшествует ему:
- Слушать шаг,
- Слушать трость.
- Зубы в такт.
- – Шаг! – В кровь
- Губы.
- – Так.
- Тоже трость
- По пятам.
- Так же вроде
- Будем там.
- Так же гвоздь
- В мозг. Всхруст.
- Та же гроздь —
- Мимо уст.
- И не шаг – кровь в ушах.
- И не кровь:
- Реки вспять.
- – Брось! —
- Спать.
Это стихотворение, не включенное автором в книгу, содержит едва читаемые намеки: «Так же врозь / Будем там» [68: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 18, л. 56об.], – пишет Цветаева в тетради. О каком «врозь» думает она? О разрыве с Геликоном или о разминовении с Пастернаком? Она любила бродить с тросточкой, как Пушкин. Речь, наверное, все-таки о шаге поэта, идущего впереди, или о современнике, идущем за ней, шаг в шаг. Может, это обман, иллюзия, и вслушивается она в голос собственной крови, видит очередной творческий сон? «Слуш <аю> себя как лес всадников ночных шаг <и> и птиц. Раздвоение: ты лес, ты же и шаг» – запись в одной из тетрадей 1927—1928 годов. Кажется, ей все не верится, что рядом с ней въяве появился тот, с кем ей захочется всегда идти рядом. Образно стихотворение перекликается со стихотворением 1916 года «Руки люблю…», входившим в «Версты».
Глава шестая.
«Ликующая Суламифь»
10—го июля Цветаева надписывает для Пастернака свою «Разлуку»: «Борису Пастернаку – навстречу!» Марина Цветаева. Берлин. 10 нов. июля 1922 г.» [69: ЦФ, с. 140.] – и надписью пророчит будущее свидание. В тот же день заносит в тетрадь стихотворение «Берлину». Первый стих из него – «Копыта как рукоплесканья…» [70: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 48.] – был записан 8 июля, во время работы над стихотворением «Неподражаемо лжет жизнь…»:
- Дождь убаюкивает боль.
- Под ливни опускающихся ставень
- Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль
- Копыта – как рукоплесканья.
- Поздравствовалось – и слилось.
- В оставленности златозарной
- Над сказочнейшим из сиротств
- Вы смилостивились, казармы!
Отброшенный вариант последнего четверостишия подчеркивал обращенность к конкретному адресату: «Сплю… нищенств <о> мое с твоим слилось». [71: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 50 об.] Наверное, она писала не о реальном дожде, а о ливне пастернаковской лирики, убаюкивающей боль и тоску. Душа погружается в сон, несмотря на доносящиеся с мостовой звуки лошадиных копыт о мостовую, подобные рукоплесканиям, – отзыв души Марины Ивановны на лирику Бориса Пастернака. Временное берлинское жилище, воспринимаемое «казармами», вдруг обернулось Домом, смилостивилось над беженкой, потому что заговорило языком Поэзии.
Тема обретения сиротой дома и духовного покровителя уже на библейском материале звучит 12 июля 1922 года в стихотворении «Удостоверишься – повремени!..». Легенду о царе Соломоне и бедной девушке из виноградника Цветаева знала отчасти по повести Куприна «Суламифь». На это указывает первоначальный вариант стихотворения, не вошедший в «После России»: [72: Т. А. Горькова почему-то отнесла эти стихи к Геликону. КС, с. 813.]