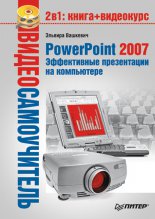Последняя стража Голан Шамай

– Теперь ты понимаешь, сынок, что происходит и куда это идет. Все идет к несчастьям перед приходом Мессии. К войне Гога и Магога. После чего и наступит 5705 год. Нам, взрослым, погрязшим в многочисленных прегрешениях, уже вынесен смертный приговор. Нам… но не тебе, сынок. Ты должен жить… и ты доживешь до этого пятого года, ибо ты свободен от грехов и не нарушил заповедей.
– Ты оставишь ребенка в покое, или мы уйдем из дома, так и не собравшись, а, Яков?
Отец посмотрел на маму. Потом приложил палец к губам, как бы заключив с сыном союз вечного молчания.
– Я пойду, скажу Стефану, чтобы он присматривал за домом, пока мы не вернемся, – сказала мама. – Если вернемся…
– Мы вернемся, – сказал папа каким-то торжественным голосом. – Если господь Бог захочет, мы вернемся целые и невредимые. И я обещаю тебе… если с этим домом что-нибудь случится, я построю тебе другой дом, еще красивее этого.
– А если не вернемся?
– Если не вернемся… Папа широко развел руками и ничего не добавил.
Потом папа и мама сообща принялись за работу. Упаковывали, укладывали, связывали. Все делали споро и молча.
Хаймек стоял и смотрел. Папа разглядывал маленький сверток, перевязанный посередине, а потом еще крест накрест.
– Вот это понесешь ты, Хаймек, – сказал папа. – Возьми, попробуй. Не тяжело?
Хаймек взял сверток. Подержал. Потом сказал с обидой в голосе:
– Такое может и Ханночка донести. Я ведь уже большой, папа. Ты сам сказал.
Папа улыбнулся Хаймеку, сверкнул глазами, хотел что-то сказать, но не сказал, просто произнес: «Ну-ну…» И снова вернулся к своему занятию. Отбирал вещи, укладывал, уминал. И связывал в очередной тюк. Похоже было, что к нему вернулось хорошее настроение. Занимаясь своим делом, он легкомысленно напевал, мурлыкая, Бог знает что. Звучало это так:
«И сказал Господь Аврааму, бим-бам, бим-бим-бам, из земли твоей уйди, от родства твоего, бим-бим-били-били-бам, и из дома… из дома отца твоего, йо-хо-хо, в землю, которую укажу тебе, бим-бим-бам, бим-бара-бим, ой-вэй…»
Мальчик ощутил, как волна радости заливает его. Он понял, о чем поет отец. Он пел о том, что давно было описано в Торе, об исходе их далекого предка, праотца Авраама, которому Господь повелел вот так же бросить все и отправиться в неведомые края. Его, Хаймека, папа, так и понял замысел Господа, и в конце концов все будет, как в Торе – хорошо и прекрасно.
Он смотрел на своего отца, и слушал его мелодичный голос, в такт которому двигались его проворные крепкие руки, завязывавшие очередной узел перед тем как покинуть дом и землю, где они родились…
Глава вторая
1
Да. Крепкой и тяжелой была рука у отца. Виной тому была его работа. Папа Хаймека был портным. Ну-ка попробуй, кто не пробовал! В обычные дни отец часами работает без перерыва, не щадя себя – наносит на материале линии плоским куском мела, а затем одним движением режет его широкими портновскими ножницами, похожими на клешни огромного рака. Ткань на месте разреза угрожающе шипит, но отец тут же отпаривает ее тяжелым чугунным утюгом, работающем на угле. Мальчик очень любит наблюдать за волосатой смуглой рукой, так ловко орудующей всеми этими предметами – мелом, ножницами, метром и утюгом. Надо сказать, что рука у отца не остается всегда одного цвета. Природно-смуглая она только в будничные дни. А по вторникам и пятницам, когда на площади вовсю шумит базар, она временами становится красной, и, даже темно-красной.
Происходит это так. В базарные дни папа чуть свет натягивал палатку в портновском ряду впритык с другими такими же мастерами. Внутри палатки он развешивал пальто и матерчатые костюмы, а у входа – самые разнообразные брюки. По пятницам, едва только раввин отпускал своих учеников чуть-чуть пораньше, (из уважения к наступающей субботе), Хаймек, не теряя ни минуты, мчался к отцовской палатке, чтобы в который раз убедиться, насколько крепка рука его отца.
Многое, конечно, зависело здесь от покупателя. Как только таковой появлялся, мама тут же приходила на помощь и, не теряя достоинства, принималась расхваливать выставленный товар. «Посмотрите сюда, – говорила она своим мелодичным голосом… а теперь посмотрите сюда». Покупатель, обычно польский крестьянин, недоверчивый, медлительный и молчаливый, как бы нехотя оглядывал товар. Он стоял настороженно, не высказывая ни к чему явного интереса, сунув под мышку свой кнут. Он мог простоять так, не произнося ни слова и пять минут, и десять, а то и полчаса, больше всего интересуясь кнутовищем. Но не сомневайтесь – он уже углядел то, что ему надо, допустим, пальто, но пройдет еще не менее получаса, а то и целый час прежде, чем кнутовище отправится в сапог, и он, как бы совершенно случайно спросит о цене – вот того пальто… и вот этого… и того, что висит рядом…
Это – не дело само, а лишь подход к делу. Действие начинается спокойно, даже вяло, совсем неспешно и словно бы даже нехотя. Потом обе стороны разогреваются, голоса становятся громче, температура в палатке поднимается, а дальше уже дело идет всерьез, когда воздух начинают сотрясать проклятья, божба и клятвы. Но заканчивается все тогда лишь – и только тогда, когда продавец и покупатель начинают битву за цену, для чего они должны рано или поздно ударить по рукам. Вот здесь смуглая папина рука становится иногда темно-красной. На самом последнем этапе крестьянин берет папину правую ладонь, кладет ее на тыльную сторону своей левой руки и бьет по ней правой своей ладонью со всего размаха.
– Пятнадцать злотых, так? – говорит крестьянин.
Папина рука чуть покраснела и припухла, но ведь это только начало. Он не остается в долгу. Он берет свою правую руку и с размаху бьет ею по левой руке покупателя.
– Двадцать пять злотых, – говорит он. – Чтоб я так жил.
Крестьянин в свою очередь бьет, что есть силы. А силы есть:
– Пусть будет так, пан. Семнадцать злотых.
Папа тоже добавляет силы:
– Только для вас, пан. Двадцать три…
Нет в это время на всем рынке человека, более счастливого, чем Хаймек. Он с восхищением смотрит на своего отца. Лицо у того покраснело, на лбу выступил пот, шляпа чуть сползла на лоб, а из-под нее мальчику видны сверкающие азартом отцовские глаза, и Хаймек в эту минуту уверен, что глаза эти улыбаются именно ему, Хаймеку…
Да… но дело еще не завершено. Крестьянин снимает свое старое пальто, кладет на стул, рядом кладет свой кнут, прочно ставит обутые в сапоги толстые ноги и уважительно рычит из-под усов:
– А, господин еврей… и здоровая ж у тебя рука!
На что папа только усмехается, но вполне добродушно. Он даже немножко польщен. Пора завершать сделку. В итоге новое пальто достается крестьянину ровно за двадцать злотых. И, пожав напоследок друг другу покрасневшие руки, покупатель и продавец расстаются, довольные друг другом и собой.
2
Да, надежны отцовские руки, и кому, как не Хаймеку, знать это. Вышло однажды так, что вызволили они его как-то из полицейского участка, вот как. Никто в целом мире даже не догадывался об этом, потому что все происходило во сне. И тем не менее…
Этот сон запомнится мальчику навсегда.
Накануне Хаймек долго наблюдал за полицейским участком, расположенном на другой стороне рыночной площади. Как раз напротив окна, возле которого мальчик так любил стоять. Из-за большого расстояния и надвигавшейся темноты он не мог разглядеть все детали происходившего – напрягая зрение, он мог лишь увидеть движение, тени, и – при свете, падавшем из освещенных окон полицейского участка – блеск латунных форменных пуговиц на синих мундирах двух полицейских, которые волокли по земле отчаянно извивающегося человека, который делал безуспешные попытки вырваться. Мальчик слышал крики этого человека, то ужасные и пронзительные, когда на него обрушивался очередной удар дубинки, то умоляющие и едва слышные ему. Казалось ему, что различает он даже и сами эти дубинки, обычно свисавшие у стражей порядка с пояса, а сейчас походившие на безжалостные живые существа, которые то взмывали в воздух, то с тупым звуком опускались на беззащитное тело бедняги. Задержавшись на мгновенье у входа, вся троица, наконец, исчезла за дверями участка. А мальчик услышал за своей спиной голос бабушки:
– Смотришь? Смотри, смотри… Будешь вести себя плохо, то же произойдет и с тобой. Придут эти двое и уведут тебя…
Хаймек вовсе не собирался вести себя плохо. Но от этих слов он все равно содрогнулся. И той же ночью, едва он успел уснуть, они за ним пришли. И повели в участок. За что? Во сне, по крайней мере, он этого не знал. Сначала был коридор, стены которого сочились холодом, затем он и полицейские стали подниматься по лестнице, этаж за этажом, пока не добрались до узкого входа. Его втолкнули в эту дыру – так оказался он в просторном зале с глухими стенами без окон. На одной из стен мальчик увидел две короткие дубинки, которые, казалось, только и дожидались его, Хаймека. И не успел он приглядеть безопасного местечка, как дубинки соскочили с гвоздя, на котором висели, и набросились на него, обрушивая за ударом удар… Хаймек бросился бежать. Он бежал очень быстро. Но куда там! Дубинки настигали его повсюду. Удар следовал за ударом. И так продолжалось до тех пор, пока он без сил не упал на пол. Упал, закрыл голову руками и зарыдал… Ожидая новых ударов, он вздрагивал всем телом. И вдруг сильные теплые руки, пахнувшие маком, подняли и понесли его через расступившуюся стену туда, где светило яркое солнце.
Это были руки его отца.
3
Ну и еще был случай, когда Хаймеку – не во сне, а очень даже наяву, довелось испытать на себе крепость отцовской руки. Дело было так. Он, Хаймек, играл с соседской девочкой, Цвией. Играли они в «доктора и больного». За этим занятием и застал их папа Хаймека. Они с Цвией забрались под повозку Стефана, дворника. И на Хаймеке, и на Цвие была новая одежда, но это их не остановило. Почему новая одежда? Очень просто. В этот день, первого сентября, дети должны были в первый раз в своей жизни пойти в школу. Но утром началась война. На Цвие было коричневое бархатное платье, и Хаймек то и дело проводил пальцем по его складкам. Потом они договорились, что Хаймек в этот раз будет доктором, и они устроились между передними колесами повозки. Цвия добросовестно изображала больную. Она лежала неподвижно, глядя на Хаймека своими огромными черными глазами, и не сказала ни слова, когда доктор стал стягивать с нее трусики. Хаймек уже знал, что девочки отличаются от мальчиков, но у него не было случая изучить это различие более детально. Он много размышлял по этому поводу. Почему-то именно этот вопрос очень занимал его…
Цвия доверчиво смотрела на Хаймека. У мальчика сильно билось сердце. «Хорошо, – подумал он, – что именно сегодня началась эта война, очень удачно. Папа казался страшно озабоченным. Может быть он в поднявшейся суматохе забудет обо мне?»
Но вышло иначе. Сильная папина рука с твердыми ногтями нашла его под телегой и медленно потянула наружу. Мальчику казалось, что у его папы не руки, а клещи. «Если он все-таки вытащит меня, то, наверное, убьет», – как-то безразлично думал мальчик. Краем глаза он видел искаженное гневом лицо своего отца, непреодолимая сила продолжала тащить его из-под телеги. Хаймеку было очень больно. Ему казалось, что его рука вот-вот оторвется от туловища. «Неужели папа оторвет мне руку?» – думал он.
О Цвие он даже не вспомнил…
Между двумя перегородками в спальне стояла широкая кровать, на которую он и был брошен. Под мышкой он ощущал странное жжение, но не произнес ни слова. Он весь утонул в пуховой перине; теплая волна окутала его. Он вспомнил субботние утренние часы. Он лежит на этой самой кровати между мамой и папой, облаченными в свои ночные рубашки… Почему-то именно в этот момент он вспомнил о Цвие. Твердые ногти отца причиняли ему боль. Отец лихорадочно расстегивал пуговицы на его штанишках. Теперь у Хаймека огнем горела вся рука – та, за которую отец вытащил его из-под телеги. «Сейчас мне достанется», – подумал мальчик, – «он будет меня пороть». Он подумал об этом так, словно речь шла о каком-то другом, совсем ему незнакомом Хаймеке. Тем временем папины руки до половины стащили с Хаймека штаны, и сотни холодных муравьев побежали у него по спине прямо на обнаженный зад. Ничего такого уж абсолютно нового в этих ощущениях не было – Хаймека пороли и раньше. Особенно верил в целительность и действенность этой воспитательной меры раввин в хедере. Но и папа, судя по всему, целиком был с ним согласен. Розовые ягодицы Хаймека в момент порки становились почему-то белыми, как мел. «Интересно, каким ремнем его сегодня накажет отец?» –думал мальчик, машинально пытаясь прикрыть голый зад руками. «И вообще непонятно, из-за чего он так сегодня рассердился? Я ведь, кажется, не успел сделать ничего плохого». В эти минуты он ненавидел своего отца. «Пользуется тем, что он взрослый». И еще одна мысль промелькнула у него в голове: хорошо, что в эту минуту его не видит Цвия. Не видит своего доктора…
4
И еще о папиных руках. Как однажды они вытащили Хаймека из церковной купели. Из желтой воды для крещения.
Залезть в купель уговорил Хаймека Стас, сын дворника. Признаем: Хаймек завидовал Стасу. Да и кто бы не позавидовал – отец Стаса частенько разрешал сыну не только подержать свою метлу, но и провести ею по блестящим булыжникам во дворе. Хаймек отдал бы все свои пуговицы, которые он собрал, нашел, выиграл или выменял за то, чтобы хоть раз подержать в руках настоящую дворницкую метлу. Можно было бы однажды просто попросить об этом дворника… но тот был столь величествен, столь огромен, а его усы были настолько великолепны… словом, Хаймек, есть основания полагать, никогда так и не решился бы на такой отчаянный шаг.
Как полагается, в праздничные и воскресные дни Стаса водили в костел. Его обряжали в синий костюм с длинными брюками, подвернутыми выше щиколоток, затем дворничиха тщательно расчесывала ему золотистые волосы, оставляя посередине белый пробор, после чего все дворницкое семейство под колокольный звон присоединялось к другим христианам, которые, словно ручейки, образующие, в конце концов, реку, неторопливо текли по улице – Хаймек до самой смерти будет помнить пронзающий небесную синь острый шпиль, венчающий квадратную башню с крестами на каждом углу, в дополнение к тому, что завершал сам шпиль – Хаймеку казалось почему-то, что центральный крест похож на отполированный кинжал, вонзившийся в голубую плоть неба. Да, внешний вид католического костела Хаймек видел ежедневно – удивительно ли, что он запомнил его навсегда? Но вот того, что находилось внутри – этого Хаймек не видел, не знал, да и знать не мог, разве что мог попытаться нарисовать внутреннее убранство костела в своем воображении. Или увидеть во сне.
Он увидел во сне.
Во сне он увидел уходящие в небо каменные своды собора. Увидел католических священников, ксендзов, расхаживающих в длинных черных сутанах, перебирая бледными пальцами сухо постукивающие янтарные четки. Ему казалось даже, что после рассказов Стаса он воочию видит даже саму купель – бассейн для крещения и желтую воду в нем, очень похожую на ту воду, что он и вправду видел в микве[4] – с той только разницей, что добрые католики входили в бассейн для крещения совершенно обнаженные, и женщины не были отделены от мужчин. Точно так же – нагие и вместе шли они после пребывания в бассейне, садились голышом на мраморный пол и ели крутые, крашеные в красный цвет яйца. Хаймек пытался все это представить – мысленно, но как можно более явственно. Вот он, Хаймек, идет вслед за Стасом. Раздевается. Идет к бассейну. А теперь он входит в воду – и тут же белая рука ксендза окунает его в воду цвета янтаря. Хаймек проделывает все эти процедуры с закрытыми глазами, а когда открывает их, обнаруживает, что окружен со всех сторон красивыми, абсолютно голыми женщинами – длинные волосы вились у них по плечам, обнаженные руки касались его тела. Они подходили к нему все ближе и ближе. Чтобы остановить их, Хаймек заявил: «Я хочу попробовать свиного мяса!» И тут же служка принес откуда-то большое деревянное блюдо, полное жареной свинины. Женщины придвинулись еще ближе. Хаймек почувствовал неизвестное ему ранее очень сильное возбуждение, но вот что именно явилось причиной этого возбуждения, аромат ли жареной свинины или перебивающий его запах, исходивший от окружавших его обнаженных женщин, кивавших ему красивыми своими головами и говоривших ласково: «Ешь, Хаймек, ешь», – этого он не понял. Внезапно появился отец, и Хаймек, к величайшему своему стыду, голый, как при появлении на свет, был вытащен отцом на всеобщее обозрение…
Глава третья
1
В час, точно определенный приказом немецких властей, мальчик и вся его семья покинули свой дом. Закрыли его на ключ, подхватили тюки и свертки и присоединились к толпе евреев, которые тащились по вымощенной булыжником дороге, пересекавшей городок из конца в конец. То здесь, то там взгляд мальчика выхватывал из толпы знакомые лица соучеников по хедеру. Никто из них не улыбался, никому из них не суждено было вернуться. Сгибаясь под тяжестью поклажи, слишком для них тяжелой, семи и восьмилетние дети шли, сгорбившись, похожие на маленьких старичков, стараясь быть поближе к полам отцовских сюртуков. Их пейсы, недавно еще такие вьющиеся и длинные, были сейчас накоротко острижены, обнажив бледноватую голубизну висков. Над скорбной этой процессией стояла тяжелая тишина. «Как на похоронах», – подумал Хаймек. С той только разницей, что не слышно было позвякивания монет в кружках для пожертвований. Изредка эта тишина нарушалась лишь бряцанием винтовок – то немецкие солдаты стояли на тротуарах по обе стороны дороги на равных расстояниях друг от друга: ноги на ширине плеч, каски, мундиры, сапоги, винтовки. Мальчик старался даже не глядеть в их сторону, ему было страшно. Чтобы было не так страшно, он начал считать шаги от одной пары сапог до другой. Нет-нет, да и решался он взглянуть чуть выше – и тогда все начинало повторяться, как в плохом сне: сапоги, мундир с ярко начищенными пуговицами, винтовка, упертая прикладом в землю, серо-зеленая каска… Все живые звуки исходили оттуда.
В конце городка провели первую селекцию, отделив мужчин от женщин, детей и стариков. Когда рослый солдат грубо толкнул папу в сторону, мама рванулась к нему.
– Яков! – крикнула она. – Не уходи! Здесь дети!..
Папа обернулся, нашел взглядом белое лицо жены и, ничего не помня, бросился обратно, но уже через несколько шагов наткнулся грудью на штык. Штык надавил, потом еще сильнее… Повесив голову, папа отступил назад, где смешался с другими отцами и вскоре мальчик не мог уж его различить в толпе отчаявшихся мужчин.
Один из солдат посмотрел на маму мальчика и спросил ее что-то по-немецки. Мама покачала головой. Солдат знаками показал им, что надо положить вещи на землю и снять с себя одежду. Мама замерла и стояла неподвижно. Хаймек стоял рядом, ничего не понимая. Но потом увидел, как люди вокруг стали раздеваться – сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Через несколько минут кое-кто стоял уже без обуви, другие остановились, не решаясь снять нижнее белье. Появился откуда-то еще один немец, видимо, старший по чину. Он ругался хриплым прокуренным голосом. «Шнель! – кричал он угрожающе. – Шнель, юдише швайн!»
У Хаймека задрожали руки. Непослушными пальцами, торопясь изо всех сил он стал расстегивать пуговицы. При этом украдкой он поглядывал по сторонам. Ему пришла в голову мысль, что в эту минуту где-то здесь может оказаться и Цвия. Пальцы его замерли. Но нет, Цвии нигде поблизости видно не было, и мальчику стало легче.
– Шнель! – снова раздался нестерпимо хриплый рев того, что был поглавнее, и как слабое эхо повторил за ним тот немец, что стоял к Хаймеку и его семье поближе:
– Шнель, юден…
Подгоняемые этими выкриками и командами, они оказались в просторном зале, где их построили рядами. У каждого в ногах неопрятной кучей лежали сброшенные вещи и снятая одежда. От множества обнаженных тел исходил острый запах страха.
Немцы стали методично рыться в разбросанном по земле имуществе. После чего приказали всем раскрыть рты, затем нагнуться и раздвинуть ягодицы. Все, что в глазах немцев представляло хоть какую-то ценность, они, без лишних слов и, не опускаясь до объяснений, забирали. Бабушкины серьги, к примеру, они вытащили у нее прямо из ушей.
– Это свадебный подарок моего мужа, – попыталась, было отстоять свои права бабушка, но ее даже никто не выслушал. Немцы забрали все драгоценности, кроме обручального кольца на пальце у мамы, да и то лишь потому, что его прикрыла своим платьем Ханночка, которую мама держала на руке. Когда немцы двинулись дальше, мама задумчиво произнесла:
– Кто знает… может быть благодаря этому кольцу мы встретимся с папой…
«Вот хорошо бы», – подумал Хаймек.
Обыск подошел к концу.
«Всем одеться и занять свои места с вещами», – прозвучала команда. И все вернулись на свои места. К своим разбросанным тюкам и разоренным сверткам. Повсюду картина была одна и та же: груды, горы простыней, подушек и перин. Трясущимися руками бабушка стала перебирать валявшиеся в беспорядке пожитки; нащупала горку накрахмаленного постельного белья, запустила руки глубже, еще глубже… Горестный крик ее, похожий на стон, повис в воздухе.
– Подсвечники! Мои подсвечники! Люди, что это творится! Они забрали мои серебряные пасхальные подсвечники… Ой-ва-вой, столько лет, сколько я помню себя, они были у нас в доме – а теперь их нет!
Бабушка пыталась заглянуть то в одно лицо, то в другое… но кого интересовали в эту минуту пасхальные подсвечники какой-то старухи. Люди равнодушно смотрели перед собой, механически покачивая головами. И бабушка умолкла.
В эту минуту жалость к ней переполняла сердце мальчика. Всегда такая независимая, гордая, властная, бабушка выглядела сейчас одинокой, потерянной и жалкой. Съехавший на сторону парик обнажил ее седую стриженую голову, всю в розоватых проплешинах, осиротелые, без всегдашних сережек уши казались поразительно голыми. Хаймеку захотелось вдруг взять бабушкину руку, взять и погладить, и сказать ей какие-то ласковые слова, способные утешить в ее беде старую женщину… но никаких таких слов Хаймек придумать не мог. И тогда, тихо вздохнув, он занялся делами. Все имущество семьи так и валялось перед ним на земле в самом непотребном и жалком виде. А он, что ни говори, был в эту минуту единственным в семье мужчиной, и эта забота досталась теперь на его долю. Он вспомнил, что делал в таких случаях его отец и стал складывать разбросанные вещи в узлы в большем или меньшем порядке, оставляя свободные концы таким образом, чтобы их можно было завязать, стянув крест-накрест. Напрягая все свои слабые силы, он тянул, и тянул, и тянул, завязывая бесчисленные, как ему казалось, узлы, пока все пожитки не оказались вновь упакованными – не так, разумеется, как раньше, но все же… От чрезмерного напряжения ноги у него дрожали, но он был доволен. Он распрямился, помахал руками и сказал так, как, по его мнению, сказал бы папа – коротко, деловито и сухо:
– Ну, вот и все. Бабушка, вот этот сверток тебе. Этот – твой, мама. А этот (он показал на самый большой тюк), это мне.
Мама улыбнулась сквозь слезы слабой улыбкой и сказала:
– Тебе с ним не справиться, Хаймек.
Мальчик выпятил узкую грудь и произнес по возможности более низким голосом:
– Справлюсь. Вот увидишь.
Он согнулся, упершись ногами в расщелину между двумя большими камнями, чтобы не потерять равновесие и попробовал потянуть узел так, чтобы, оторвав его от земли, одним рывком забросить его за спину. Попробовал. Тюк слабо шевельнулся и остался на месте. Он еще раз потянул его изо всех сил слабыми руками, ощущая в паху и мышцах нарастающую боль. Поклажа не поддавалась. Тогда он попробовал еще раз. С тем же результатом. После чего он нагнулся к огромному узлу и сказал ему совсем тихо:
– Ну что же ты… Ты ведь видишь, что папы нет… мама держит на руках Ханночку, а у бабушки забрали ее сережки. У всех горе, а еще тут ты… Прошу тебя, не упрямься, а помоги мне забросить тебя на спину.
И он снова вцепился в узел.
– Ну что ты там, Хаймек, копаешься, – услышал он недовольный голос мамы. – Долго ты еще собираешься возиться? Пора двигаться, немцы очень сердятся.
По спине мальчика бежал пот.
– Сейчас, – сказал он охрипшим голосом. – Сейчас, мама. Всего одну минуточку…
И он набрал воздуха в грудь. Рванул… еще бы чуть-чуть… И тогда, распрямившись, он начал молотить непомерный сверток своими детскими кулаками и даже пнул его несколько раз ботинком. Бессильные слезы сами собой потекли из его глаз. «Нельзя плакать, – приказал он сам себе. – Папа никогда не плачет. Могло ли случиться что-то такое, чтобы он заплакал».
И тут Хаймек вспомнил. Вспомнил об этом, бросив случайный взгляд на Ханночку. Тот единственный раз, когда он видел отцовские слезы. Это был день, когда мама родила Ханночку. Да, да… Мама кричала жутким голосом из-за закрытых дверей. А папа стоит возле своей кровати, сгибаясь и разгибаясь в благодарственной молитве. И слезы рекой текут по его лицу.
Вспомнив об этом, мальчик почувствовал облегчение. Он стоял неподвижно, а ручейки слез, утешая его, катились по его щекам.
2
Подошел немец. В его взгляде не было ничего хорошего.
– Шнель, юден, – сказал он и махнул рукой куда-то вдаль. – Шнель…
Мальчик украдкой утер слезы уголком одеяла и снова стал примеряться к большому узлу. Заметив это, немец небрежно оттолкнул Хаймека в сторону. Мальчик рванулся было обратно, но мама, ухватив за рукав, притянула его к себе.
– Но узел… – протестовал Хаймек. Там ведь все наши вещи.
– Оставь его, – сказала мама. – Знаешь, что говорит немец? Что все эти вещи нам вскоре вовсе не понадобятся.
Немец, прислушивавшийся к маминому голосу, похоже, что-то понял. Во всяком случае, он разразился длинной-предлинной фразой, в которой Хаймек дважды разобрал уже известное ему раньше слово «капут». Невольно он втянул голову в плечи и ощутил странную покорность. Он уже понял, что имеют в виду немецкие солдаты, когда произносят слово «капут».
Невдалеке протрещали автоматные очереди. Бабушка подняла голову и, подойдя к маме Хаймека вплотную, спросила с напором:
– Что? Стреляют? Дочка, объясни, что все это значит?
Мальчик удивился этому вопросу. Даже он в свои семь лет знал, «что все это значит». Это означало, что какому-то бедолаге и в самом деле пришел «капут»… И снова медленно плелись они меж рядами одетых в полевую форму солдат: шли, тесно прижавшись друг к другу, мама с Ханночкой посредине, а Хаймек и бабушка по обе стороны от них. У Ханночки было хорошее настроение, она то и дело смеялась, стараясь поймать зайчик от золотого зуба у мамы во рту. Хаймек брел, опустив голову. Он видел вокруг себя только шагающие ноги, бесчисленные ноги, ноги повсюду, куда ни доставал его взгляд, ноги, которые, казалось, жили своей собственной, самостоятельной жизнью… Ноги шли то, делая широкие шаги, то, перебирая мелко-мелко, одни загребали и шаркали, поднимая облако пыли, другие топали, одни двигались тяжело, словно из последних сил, другие словно летели, маленькие детские ноги даже порой скакали, словно радуясь представившейся возможности порезвиться, возможности, на которую они, похоже, не рассчитывали в этот день. И так шаг за шагом, уводившими их все дальше и дальше от привычных и родных мест, навстречу неизвестной никому судьбе.
В конце концов, они добрели до развилки дорог. И тут случилось нечто странное. Немцы, сопровождавшие их, внезапно исчезли, словно растворились по дороге. Как раз в эту минуту мимо их группки прошла – и тоже исчезла последняя шеренга солдат. Мама поймала взгляд немца, шедшего самым последним и с растерянностью в голосе крикнула вдогонку:
– А мы? А нам куда идти?
Солдат обернулся, посмотрел на женщину с ребенком, мальчика и старуху и ответил, не останавливаясь:
– Куда хотите… убирайтесь, куда хотите. И постарайтесь, чтобы никто не увидел ваших жидовских физиономий…
Так перевела слова солдата мама. И тут же, набравшись смелости и не выпуская Ханночку из рук, в два шага догнала уже ушедшего было вперед немца и придержала его за рукав.
– А мой муж? – кротко спросила она. Ради Бога, скажите, что с ним сделали?
Немец процедил в ответ нечто такое, от чего мамино лицо покрылось густым румянцем. Когда спина немца удалилась на достаточное расстояние, мама, в ответ на непрерывные расспросы Хаймека, коротко ответила:
– Солдат утверждает, что все мужчины живы. Их обыскали – и отпустили.
И в ту же минуту они увидели топу мужчин и среди них – своего папу. Он стоял на противоположной стороне дороги, метрах в десяти от развилки в большой группе таких же, как он, евреев, причем вид у всех мужчин был скорее озадаченным, чем радостным. Они растерянно глядели по сторонам, не до конца понимая, где они и что с ними. Не теряя ни минуты, мама, а за нею и Хаймек стали размахивать руками, стараясь привлечь к себе внимание. Тщетно. Тогда Хаймек выбежал на середину дороги и закричал, что было сил: «Папа! Папа!..»
Но многие вокруг звали своих отцов и многие, если не все махали руками – откуда папа Хаймека мог знать, что эти крики относятся и к нему тоже. Он стоял отрешенно и глядел прямо перед собой. Губы его шевелились, туловище раскачивалось…
– Яков!… Я-а-ков, – в отчаянии закричала мама, поднимая Ханночку над головой. – Яков!… Мы здесь…
Пронзительный голос мамы заставил отца очнуться. Он взглянул налево, затем направо… и увидел всю свою семью: Хаймека, стоящего посреди дороги, Ханночку, которую мама уже держала над головой на вытянутых руках, и саму маму, покрасневшую от усилий… Не веря собственным глазам, он смотрел на всех них несколько мгновений, затем прихватил полы сюртука в левую руку так, что видны стали цыцы – кисти малого талеса, как-то странно подпрыгнул и ринулся через дорогу. Он передвигался прыжками. Один прыжок, другой… И вот он уже прижимает к себе маму, и подоспевшего Хаймека, целует Ханночку, бабушку… а потом долго, не отрываясь, глядит в нежные, налитые слезами, глаза жены. Хаймек, прижавшись к отцовской ноге, всей грудью вдыхает такой знакомый ему запах папиного тела, в то время как Ханночка, обняв отцовскую шею руками, щебечет словно птица: «Па-па, папа…» Хаймек, тем временем, наматывает кисти отцовского талеса на пальцы…
Влажные от слез мамины глаза сияют. Не понять – плачет она или улыбается. Словно искра блестит между полных губ золотая мамина коронка. Никто не произносит ни слова. Потом бабушка расправляет плечи.
– Слава Богу, Яков, что ты вернулся. Без тебя… нам было так плохо. Что я хочу тебе сказать, Яков… мой муж, благословенна его память, никогда так со мной не поступил бы. Нет, ты не возражай! Но нельзя просто так бросать женщин и детей. Упаси Бог, я тебя ни в чем не обвиняю, но… я должна сказать… из-за твоего сына…
– Мама, перестань!
– Нет, я скажу. Из-за твоего сына мы потеряли самый большой узел. А знаешь, что там было? Льняные простыни там были, мои льняные простыни, и не только они. Там было еще два покрывала. Я знаю, ты называешь своего сына сокровищем. Так вот, из-за этого сокровища…
– Мама, прошу тебя…
Бабушкина грудь вздымается. Гнев ее праведен. Льняные простыни!
Хаймек весь дрожал от ярости. «Ябеда противная, – подумал он, –Простыни ей жаль, а больше ничего. А он-то еще посочувствовал ей, когда немцы забрали бабушкины серьги. Так ей и надо, жадине. Не то еще ей будет. Вот возьму и выброшу ночью ее парик. Пусть ходит простоволосой!»
Он придумал бы еще не то, если бы не примиряющий мамин голос: «Не нужно так говорить. Хаймек… я хочу, чтобы ты знал, Яков, Хаймек вел себя, как настоящий мужчина. Старался сделать все, что мог. Как сделал бы ты сам. Правильно я говорю, мой мальчик?»
Хаймек посмотрел на маму с благодарностью и кивнул. Папа глядел на сына с гордостью и любовью. Вслух он сказал:
– Есть из-за чего расстраиваться. Вы бы видели, сколько всякого добра побросали по дороге люди. А тот узел, что был у меня? От него ничего не осталось. Возблагодарим Бога за то, что мы живы и снова вместе. Господь всемогущ, жалостлив и милосерден. Уж как-нибудь он позаботится о наших пакетах…
Хаймек, не отрываясь, смотрел на своего папу. Никогда прежде не думал он, что его папа может выглядеть так потерянно и жалко. Широкая спина его была согнута, густая борода исчезла, и даже шляпа имела какой-то подавленный вид. Только сейчас он увидел, сколько седины появилось у отца на висках. Увидел он также и широкий красный рубец на отцовской шее, похожий на след от удара плеткой. Руки отца, всегда такие уверенные и надежные, сейчас все время вздрагивали, черные глаза утратили всегдашний живой блеск, белки глаз были испещрены красными прожилками. Мальчику очень хотелось расспросить отца, что происходило с ним в эти последние часы, и он уже совсем собрался было потянуть отца за рукав, но тут увидел устремленный на него сверху вниз тоскливый, полный отчаяния и страха взгляд, какого не видел раньше никогда. И проглотив вертевшийся на кончике языка вопрос, Хаймек вместо этого молча и бережно погладил отцовский рукав, не сказав ни слова.
– Я должен поблагодарить Бога молитвой избавившегося от опасности, – сказал папа, отступив от мамы на шаг, после чего вытер ботинки о землю и произнес нараспев:
– Барух Ата Адонай Элоѓейну Мелех хаолам хагомель лахаявим товот шегмалани коль тов[5]…
– Амен, – вставила бабушка, тут же добавив, – ми шегмалани коль тов…
Где-то невдалеке послышались выстрелы. Мальчик прижался к отцу и прошептал: «Папа… уйдем отсюда…» Но отец Хаймека даже не двинулся с места. Он погрозил сыну пальцем и строго сказал:
– Я еще не закончил молитву.
Тем временем до них донеслись звуки, заставившие мальчика похолодеть. Это были крики избиваемых немцами людей и громкие стоны раненых.
Папа продолжал молиться.
Весь дрожа, мальчик посмотрел на маму. Ее лицо, обычно смуглое, сейчас было бледным, почти белым. Похоже, она не знала, как ей поступить. Внезапно она решилась. Выставив перед собой Ханночку, она вплотную подошла к папе и сказала срывающимся голосом:
– Немцы приближаются, Яков. Если мы не уйдем сейчас же, тебе будет не до молитв. Хватит уже.
– Но я еще не закончил, – сказал папа.
– Ничего. Бог тебя подождет…
Папа перестал читать молитву и поднял глаза к небу. Хаймек испугался. «Как это мама может так говорить: «Бог тебя подождет…» А что, если Бог рассердится на маму? И накажет всех нас?» Потом он подумал: «А может быть, мама не боится Бога и того, что он может рассердиться?»
Папа стоял в раздумье. Потом опустил голову, вздохнул и сказал:
– Хорошо. Пошли.
Едва они тронулись, раздался решительный голос бабушки:
– Пошли… А куда – «пошли?»
Остановившись, папа и мама произнесли одновременно:
– В Варшаву (это сказал папа).
– На границу. К русским, – мамин голос звучал так, как если бы она давно уже решила про себя этот вопрос.
Бабушка переводила взгляд с дочери на зятя.
– Все идут в Варшаву, – сказал папа. – Все. И мы тоже пойдем в Варшаву.
– Варшава большая, – сказала мама. – Мы с детьми будем жить на площади?
– Мы не будем жить на площади,– сказал папа. – Мы будем жить с моим отцом… пока не минует опасность…
Хаймек, который вертелся у взрослых под ногами, чуть не подпрыгнул от радости. Жить вместе с дедушкой! Ничего лучшего Хаймек не мог и представить. Он подпрыгнул, как козленок, захлопал в ладоши и крикнул:
– Хочу к дедушке!
– В Варшаве не только твои родные, – бабушкиным голосом сказала мама. – Немцы тоже в Варшаве. Мы идем к русским.
– Идти надо в Варшаву, – упрямо повторил папа.
– Дочка, прислушайся к голосу своего мужа, – неожиданно подала свой голос бабушка. – В семье все решает мужчина. Так написано в Торе.
– К дедушке, – заныл Хаймек. – У него так хорошо, мама…
Мама стояла, напряженная, как струна. Голос ее был тих, но непреклонен.
– Мы идем на границу. К русским.
Некоторое время все стояли молча. Ханночка уснула. Потом мама подхватила свой узелок и, не произнося больше ни слова, двинулась туда, где на указателе дорог было написано: «Остров-Мазовецкий». Там в эти дни проходила граница между немцами и Россией.
3
Бесчисленные толпы беженцев шли по дороге. Дорога была широкой и уходила вдаль. Слева и справа от дороги были широкие канавы, кюветы, дальше лежала вспаханная земля полей. Иногда, заслышав гул пролетающих самолетов, беженцы разбегались, кто куда. Одни падали прямо на обочину, другие ложились на дно канавы, закрыв лицо руками, третьи в поисках убежища, бросались в поле… Но эти жалкие фигурки далеко внизу, похоже, не интересовали летчиков, и не им был предназначен подвешенный под крыльями смертоносный груз. Самолеты тяжело пролетали мимо, а люди снова сбивались в толпы и продолжали свой путь.
Никогда еще Хаймек не ходил так подолгу. С непривычки он сбил ноги и они кровоточили. Из разорвавшихся ботинок торчали пальцы, которые, соприкасаясь с песком и щебнем дороги, горели адским пламенем. Каждый шаг причинял мальчику непереносимую боль. Сколько еще могла продолжаться эта пытка? Дорога казалась бесконечной. И все это время его не оставлял неясный страх. Он не мог понять, откуда этот страх взялся, и что он означает. Небо над головами беженцев то пыталось спалить их заживо раскаленными лучами, то, нахмурясь, пугало грозовыми тучами. Иногда тучи проливались на измученных людей проливными ливнями. Когда было сухо, мальчик шел окутанный облаком пыли, а после дождя шел в облаке пара, подымавшегося от сохнувшей прямо на нем одежды. Иногда посреди дороги возникали глубокие лужи, и мальчик проваливался в темную грязную воду, на дне которой острые камни только и дожидались возможности впиться ему в израненные ноги. А вокруг простирались уходящие за горизонт молчаливые и загадочные поля, сочившиеся избыточной влагой. То здесь, то там встречались вывернутые с корнем деревья. Те же, что уцелели благодаря мощным стволам так и стояли поодиночке. К некоторым, истекавшим соком березам, были прикреплены большие жестяные кружки, в которых собравшийся сок уже переливал через край.
Это был мир, с которым Хаймек ранее никогда не сталкивался, и мир этот внушал мальчику одновременно и интерес и ужас. Что произошло с этим миром? И что ожидает его и его семью, которую неведомые ему силы внезапно выбросили в этот мир? И что все происходящее вокруг вообще означает?
Ответы на все эти вопросы могли знать только взрослые. Его папа, например. «Надо спросить его», – подумал мальчик и посмотрел на отца. Тот шагал неподалеку, непохожий сам на себя. Идет себе, глядя под ноги, и непрерывно читает молитвы. Как и полагается правоверному хасиду – начиная путь, даже после самого короткого отдыха, возносить молитву, обращенную к небу. Как-то, остановившись, отец сказал мальчику:
– Я знаю, о чем ты думаешь, сынок. А теперь послушай меня. Взгляни на этот мир, что окружает нас. Это дело рук Творца. За семью небесными сферами сидит он на божьем своем престоле, выше всех, над серафимами восседает он и над ангелами, и видит все, что происходит в мире людей и животных. С высоты своего престола посылает он доверенных и уполномоченных ангелов своих, чтобы они поддерживали необходимый порядок здесь, внизу, смотрели бы за тем, чтобы цветы цвели, а деревья плодоносили, чтобы из праха земного поднималась густая трава под лучами солнца, и чтобы мрак не покрывал земные пространства, а своевременно чередовался со светом. Так, сын мой, глаз всевышнего, да будет он благословен, надзирает за миром этим и порядком в этом мире. И все, что есть в сотворенном божьем мире, дает нам пример порядка и правила: все так, как и должно быть.
Всем своим существом мальчик чувствовал, что, говоря это, его отец ни на мгновенье не сомневался в своих словах. Бог, всемилостивый и всемогущий, знает лучше всех смысл того, что происходит. Если человеку, живущему на земле, что-то непонятно, то происходит это потому лишь, что никому не дано проникнуть в замыслы Творца. И мальчик, шагая по дороге стертыми в кровь ногами, тоже по-своему молился и взывал к милости того, кого он называл «святым царем царей». И обо всем, что занимало его, он извещал в очередной, придуманной прямо на ходу молитве.
– Святой царь царей, – начинал он обычно с благоговением и доверчивостью поглядывая на небеса, – святой царь царей… не могу ли я попросить тебя знаешь о чем? Чтобы твои ангелы не напускали на нас такое количество дождей. Я просто не успеваю обсохнуть и мне все время холодно. И папе тоже. Я видел, что когда он кашляет, на его платке пятна крови. И Ханночка стала кашлять… все кашляет да кашляет, а ведь она такая малышка. Сделай, пожалуйста, так, чтобы твой ангел привел нас к какой-нибудь крестьянской избе. И чтобы мы понравились хозяину этой избы – ведь если мы понравимся, он угостит нас кружкой горячего молока, даст кусок хлеба и немного картошки…
Мальчик догадывался, что не только он обращается в эту минуту к небесному владыке с подобной просьбой. А потому, словно боясь, что чересчур долгая молитва не будет там, наверху, дослушана до конца, наскоро закончил свою молитву словами: «Благословен ты, Господь, выслушавший мою молитву…»
В эти дни все чаще заводила свои разговоры бабушка. Мальчик видел, что старая женщина держалась из последних сил. Может быть поэтому говорила она так громко и резко. Все вокруг раздражало и злило ее. И, несмотря на то, что слова бабушки были обращены не к Хаймеку, разумеется, а к его родителям, каждый раз при звуках бабушкиного голоса он вздрагивал и пугался. Как-то раз бабушка остановилась прямо посреди дороги и заявила более решительно, чем обычно:
– Ну, все. Мне кажется, что наша прогулка затянулась. Я хочу вернуться домой.
– Ох! – сказала мама Хаймека. – Ради Бога, не начинай все сначала. Мы не гуляем. Мы спасаемся. Мы спасаем семью и детей.
– Я хочу домой, – сказала бабушка. – Домой, ты меня слышишь?
– Я тебя слышу, – сказала мама Хаймека. – Но дома у нас больше нет. Немцы выгнали нас из нашего дома и возвращаться нам некуда. Мы идем, чтобы найти себе новый дом.
И она сделала несколько шагов. Увидев это, бабушка подошла к отцу мальчика и сказала ему таинственным шепотом:
– Яков, слушай… Там, в нашем старом доме, я спрятала доллары. Много долларов. Очень много. Пойдем обратно, и я дам тебе половину. И не надо меня обманывать, будто ты хочешь отказаться от денег. Ты сможешь вложить эти деньги в дело, сможешь расширить лавку. Ты думаешь, что я сошла с ума? Я все соображаю еще, Яков. Но я хочу домой. А ты… ты сможешь нанять портных, и они будут шить тебе модные пальто. Идем же обратно.
Но папа ничего не ответил бабушке. Он только смотрел на нее, как не смотрел никогда. Смотрел и гладил по руке, а потом обнял за плечи и потянул за собой. И бабушка, уронив голову, покорно пошла за ним, словно смирившись навсегда.
Но она не смирилась. Следующий раз она уже не заводила разговоры о долларах, она говорила о том, что разрешает Тора делать правоверному еврею по субботам, а что нет.
Она сказала:
– В Торе точно указано, сколько может еврей ходить в субботний день, а сколько нет. Мы перешли уже все допустимые пределы, Яков. Я молюсь не так часто, как ты, но я тоже знаю, что можно еврею, а что нет. И больше сегодня не сделаю ни шага. Ибо сегодня и есть суббота, святой день. Вот до того дерева, Яков, я иду, а дальше ни шагу. Если хотите, можете меня бросить прямо здесь.
– Ну, что вы, мама…
Хаймек видел, что папа озадачен. Он сел на землю рядом с бабушкой. Взял ее руки в свои и снова стал поглаживать. Мама стояла неподалеку, выпрямившись во весь рост. Запавшими глазами она смотрела туда, куда им надо было еще придти. Ханночка на ее руках закашлялась. Папа мягким голосом говорил бабушке о том, что их новый дом совсем уже близко. И что господь велик, и что сделать несколько лишних шагов в субботу – это простительный грех.
– Яков, – сказала бабушка устало, – Яков. Не дурачь меня, Яков. И не обманывай себя. Все, что я хочу, это домой. Ты слышишь меня, Яков? Домой. Прямо сейчас. Когда я увижу твоего отца, я рассказу ему, как ты со мной обращался.
Она с трудом поднялась на ноги и сказала дочери:
– Идем. Идем со мной. Посмотри на дитя свое. Девочке нужны тепло и пища. Если с ребенком не дай Бог что-нибудь случится, ты не простишь себе. Почему ты молчишь? Ты слышишь меня? Если Яков, твой муж, хочет идти дальше, пусть идет. А я не хочу мучаться потом из-за его грехов.
С неба, задернутого тяжелыми тучами, стал накрапывать дождь. Вся семья прижалась к огромному стволу, надеясь, что густая листва хоть как-то защитит их. То и дело они обращали свои взоры вверх, надеясь разглядеть хоть клочки светлеющего неба. Но небо еще только больше темнело, а капли становились все крупнее и тяжелее. Струйки воды постепенно превращались в ручейки, те – в ручьи, а ручьи – в потоки, которые бурно устремлялись в овраги. До ночи было еще далеко, но свет погас; плотная темно-серая завеса окутывала все вокруг. Внезапно небо вспыхнуло многохвостым фейерверком, после чего, как бы вдогонку, прогрохотал оглушительный гром.
– Шма Исраэль, Боже всемогущий, Бог един, – услышал Хаймек голос отца, громко читающего охранительную молитву, в то время как руки его заботливо пытались укутать Ханночку в насквозь промокшее пальто. Струи дождя смывали с маминого лица слезы, когда она сказала надтреснутым голосом:
– Нечего тебе теперь докучать господу, Яков. Ему теперь не до тебя. До него теперь не докричишься…
Хаймек понял все по-своему. Он повис на отцовском плече и, всхлипывая, сказал ему в самое ухо:
– Это я виноват, папа, что Бог хочет нас наказать. Один раз я вырвал страницу из Сиддура[6], положил внутрь сухой ореховый лист и курил… Потому-то Бог и рассердился на всех нас. Пойдем в Варшаву, пойдем к дедушке… он молится каждый день, и бабушка тоже. Они защитят нас… Пойдем к дедушке.
Шепча, он все жался к отцу, все просил. Голос мамы донесся до него сквозь шум дождя:
– Глупенький… успокойся… Бог не наказывает маленьких и слабых…
А папа не сказал Хаймеку ничего. Он только сильнее прижимал к себе Ханночку и все гладил ее по головке. Хаймек подумал вдруг, что мама не верит, будто Бог может их всех защитить. Если это так, молния, посланная с неба, должна была вот-вот ее поразить. Мальчик с ужасом посмотрел вверх. «Не делай этого, – попросил он Бога. – Она вовсе не смеется над тобой. Ты ведь такой сильный! Ты ведь Царь царей… Прости ее… ради папы, ради меня… ради Ханночки…»
И в это самое мгновенье все волшебным образом переменилось. Дождь перестал, словно кто-то ножницами перерезал водяные струи. Засветило яркое солнце, запели какие-то птицы, а какая-то крохотная пичужка забегала кругами, стряхивая воду с крыльев. Вот чем ответил Бог на мамино неверие! Или на папину и его, Хаймека, веру? Он взглянул на маму, которую едва не настигло наказание, и ему стало очень ее жаль. Она была в эту минуту такая красивая, такая беззащитная… и такая жалкая. «Она боится наказания», – догадался мальчик. Подойдя к маме, он грустно посмотрел на нее и сказал:
– Мама… ты и в самом деле не боишься Его?
Мама не поняла.
– Боюсь? Кого?
– Ты знаешь кого. Бога.
– Бога? – Мамины губы сжались в злую тонкую нитку. – Если бы он был, – кощунственно произнесла она, – если бы он существовал на самом деле, мы сейчас не скитались бы холодные и голодные без крыши над головой.
Она произнесла все это громко, почти вызывающе, она почти кричала и глядела при этом на папу так, словно он-то и был этот некому не видимый Бог.
– Если бы он был… – Она не договорила, но мальчик додумал это за нее. – «Тогда Ханночка не кашляла бы так, папа не харкал бы кровью, а у бабушки не болела бы так голова…»
Всего этого мама не произнесла вслух, но имела в виду она конечно же это. Ханночку мальчик очень жалел. И папу ему было жалко – каждый раз, когда он убирал в карман свой платок, на нем было все больше красного. Что же касается бабушки, тут у Хаймека были кое-какие сомнения. Бабушка, конечно, старенькая, ведь она – мамина мама. Ей, наверное, лет сто, а может и двести. Но что касается ее болезни… в последнее время мальчик не раз замечал, как, говоря о бабушке папа с мамой переглядываются и покачивают головой, но… Сама бабушка, во всяком случае, при Хаймеке. ни на что не жалуется. Да, иногда она произносит – в последнее время это случается все чаще, какие-то загадочные фразы, звучащие как заклинания или пророчества. Но ни разу прямо не сказала бабушка, что у нее что-то болит. И аппетит у нее по-прежнему хороший, ест все, что ни дадут, и картошку в мундире с солью и без соли, и все то, что мама ухитряется сварить в кастрюльке, поставленной на кирпичи.
Но что остается совершенно неизменным – это бабушкино желание вернуться домой. А кто не хотел бы? Разве это говорит о какой-то болезни? Тогда и он, Хаймек, болен. Потому что больше всего не свете он хотел бы, чтобы все было как прежде, и он мог бы поиграть сейчас с тихой, послушной Цвией, у которой такие огромные бархатные черные глаза.
Только в отличие от бабушки он никогда об этом не говорит вслух.
– Бедная бабушка, – продолжает мама прерванную на половине фразу. – Помню, когда я была совсем маленькой, она непрерывно беспокоилась обо мне. По часу, бывало, стоит у двери и кричит: «Ривочка, солнышко мое, на улице сыро… ты не забыла надеть галоши?» Я была тогда такой, как ты сейчас. По субботам и праздникам бабушка всегда брала меня с собой в синагогу. Там, в женском отделении, она любила молиться. Моего брата, Аарона, она специально послала в Палестину, чтобы он вознес молитвы на могилах праведников… попросил бы Всевышнего за тех, кто находится вне Сиона. И вот что теперь мы имеем, – заключила она горько. – Стоило ради этого тащиться так далеко…
Мальчик был до крайности удивлен мамиными речами. Никогда еще она не разговаривала с ним так. Некоторые вещи, о которых мама ему говорила, он совершенно не мог понять. То, например, что мама когда-то была маленькой. Кое-что ему было уже известно; так он знал о существовании маминого брата, дяди Аарона, который жил в Палестине. Что касается самой Палестины, то Хаймек успел узнать о ней следующее: это такая страна, далеко-далеко от Польши, где всегда светит солнце, где прямо на деревьях растут апельсины и съедобные сладкие стручки, и что главный город Палестины – Иерусалим, о котором непрерывно во всем мире вспоминают евреи, где бы они не находились. И все евреи уже много-много лет мечтают встретиться там. И когда в синагоге читают молитву об этом святом городе, они всегда заканчивают эту молитву одними и теми же словами: «В следующем году – в Иерусалиме, евреи». После чего повторяют: «В Иерусалиме, в Иерусалиме». То есть опять же в Палестине, где обосновался его дядя. Интересно было то, что о Палестине знали, похоже, не только евреи. Иначе, почему бы уличные мальчишки, завидя Хаймека, вертелись и прыгали вокруг него, норовя дернуть за пейсы и, кривляясь, кричали: «Эй, жиденок! Убирайся в свою Палестину!» Когда он был поменьше, он думал, что Палестина – это просто такое слово. И все. Но вот сейчас мама подтвердила, что Палестина – это страна, или, во всяком случае, место, где живут люди. Такие, как его дядя Аарон.
И что там скорее тепло, чем холодно.
А значит, там можно сорвать с дерева апельсин или съесть сладкий стручок.
Хаймек съел бы сейчас, пожалуй, что угодно. Он очень хотел есть.