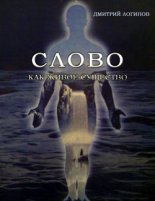Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной Аручеан Карина
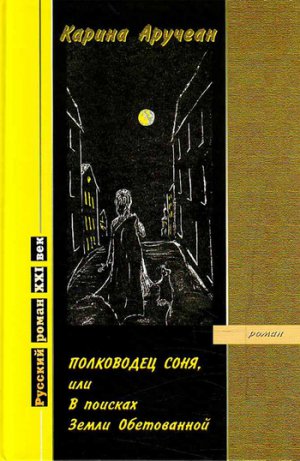
Но новая реальность, выползшая из чрева эпохи, была ненасытным чудовищем. Оно быстро росло, пожирая остатки материнской плоти. И так же, как разорвало выносившее его лоно, так шутя разорвало и радужную оболочку мыльного пузыря, старательно выдуваемого отцом из тонкой трубочки жизнелюбия.
Кончались запасы. Кончилось здоровье. Развалилась мастерская, державшаяся лишь его выдумкой и энергией. Нина, на практичности которой стоял дом, завела любовника и уехала. Эва вышла замуж. От других детей, разбросанных по стране, письма приходили редко – почта плохо работала. Из бывших стипендиатов отца одни остались за границей, где учились, другие исчезли в застенках НКВД, а кто просто позабыл, чья рука их кормила и вывела в люди.
И только старый кипарис за окном да старый Авак у ножек кресла остались ему верны.
И казалось: время обходит своим смрадным дыханием вечнозелёный остров любви, где жили эти двое, – там журчал тихий смех, шелестели им одним понятные слова, витали призраки прожитой жизни и нашёптывали что-то, примиряя с собою. И океан вечности бережно нёс их остров сквозь пространство и время, незаметно смыкая объятия, пока не принял этих двоих в себя.
Умерли они в один день. Даже, может быть, в один час. Пришедшая навестить отца Эва застыла в неуместном восхищении. Смерть помогла отцу остановить прекрасное мгновенье: обдав холодным дыханием этих двоих на пике неведомых чувств, превратила их в скульптурную композицию – настоящее произведение искусства! Тёмная от времени и разгладившаяся от смерти холодная рука Авака, сидевшего в обычной позе у ножек кресла, покоилась в мраморной с голубыми прожилками руке благодетеля и брата Аветиса Гавриловича, лица обоих были просветлёнными, морщины исчезли, подбородки с юношеским любопытством чуть подались вперёд – и открытые глаза бесстрашно смотрели в зелёные луга вечности, куда и пошли гулять эти братья, взявшись за руки, чтоб уже никогда не разлучаться.
Так и запомнила Эва отца. И осталась загадка: как сумел он сохранить свою вселенную от распада, когда жизнь последовательно и, казалось, планомерно отнимала у него всё, а ничего не оставив, отняла напоследок даже возможность двигаться?!
Что же это такое было, чего у него не смогли отнять? В чём черпал отец безграничные стойкость и жизнелюбие? Как сохранил юношескую улыбку в стариковских глазах? Как не сломался от обидной тщеты усилий, смог обходиться без всего, к чему привык, и не слал обидчикам проклятий?
Может быть, так и не попробовав ни разу вкуса проклятий, он и без этого изначально знал, что они могут разрушить его самого? А может, так много когда-то имевший, он понимал, что не в низменном реальном обладании дело, а в том, чтоб радовалась душа? Но как удержаться от проклятий, даже если чувствуешь, что они бумерангом бьют по тебе? И как душе радоваться, если всё отнято, – и нечему радоваться, и нечем…
Эва не понимала этого. Её опять, как в детстве, обдал жар обиды за отца. И одновременно полыхнула злость, что так и ушёл, не открыв тайны, не научив дочь тому, что знал, бросив её одну.
«Всегда одна… всегда одна… Утоли, Господи, мои печали»…
Но глухи были небеса. Или, может быть, глуха была Эва, не умея расслышать за скрежетом зубовным их тихого ответа.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
– Вставай, Соня, вставай скорее! А то поезд без нас уйдёт.
Соня, ещё не проснувшись окончательно, быстро сбросила одеяло и вскочила с кровати, ёжась от ночного холода. В самом деле, они же сегодня уезжают в дальние края! В настоящее путешествие!
Дальние края назывались Сибирь, посёлок Тасеево. Там теперь живёт папа. В тайге. Про тайгу Соня вычитала, продираясь сквозь «яти» и «еры», в тяжёлой книге с золотым обрезом и волнующим названием – «словарь далей»[11].
Прочитанное заставило сердце замирать, подпрыгивать и снова замирать в предчувствии приключений: «тайга – это обширные сплошные леса, глушь, где нет никакого жилья, – необитаемая полоса, лежащая перед тундрами, идущими мхами до Ледовитого океана; на огромном просторе кой-где – зимовки лесоповальщиков; ехать тайгой – ехать дремучими лесами, болотами»… А в конце заметки – сверкающие слова: «в тайгах лежат золотые россыпи».
В другом старинном словаре тёти Кыси нашла Соня строчки и про папино Тасеево, названное по имени местной реки, – наверняка в память какой-то Таси! Соня сразу насочиняла историй. Показался девочке Тасе золотом блик солнца на дне, потянулась к нему, а русалки тут как тут – утащили! Вот и дали тасино имя реке, а потом – посёлку. Или гномы к россыпям заманили, – и околдованная золотом Тася забыла мать-отца и родной дом, а все решили, что утонула. А может, пошла она болотами и мхами до самого Ледовитого океана к белым медведям смотреть северное сияние?
Может, так оно было. Может, по-другому. Соня разберётся, когда приедет на место. Однако знаменитое, значит, место, раз о нём в такой важной книге написали! Ощущение пространства и загадочно шевелящейся жизни на нём впервые взволновало Соню: «Тасеева-река протекает по Канскому и Енисейскому уездам, образуется из рек Чуны и Бирюсы, впадает в Ангару; судоходства нет, но возможно. В долине, дающей хорошее сено, известной залежами железной руды и золотыми россыпями, – четыре русских селения»…
«Опять про золотые россыпи!» – ёкнуло сердце. С этого момента в Соне поселилось нетерпение.
…С тех пор, как Серый увёл папу, прошёл год. Мама уволилась с работы – директриса детсада благодарила «за понимание», на прощание насовала маме в сумку пакеты с пшёнкой и заговорщицки сказала:
– Подходите по вечерам с кастрюльками. Будем вам сливать с котлов остатки супов и каш – всегда ведь что-то остаётся! И Соне хлеб и какую-никакую галету в карман засунем.
Соня стала уходить из детского сада с набитыми нехитрой снедью карманами и старалась честно отработать полученное – слушалась, даже когда не хотелось, помогала нянечкам, вызывалась рассказывать детям сказки, чтоб отпустить воспитательницу в магазин. Мама называла её «кормилица» – и Соня гордилась, что зарабатывает на хлеб. И на печенье.
Но вскоре отчислили из детсада и Соню – так велела злая тётка в мужском пиджаке, которая специально для этого приехала из Львова и кричала на воспитательниц, чтоб скорее исключили Соню, а то детей перепортит. Соня не очень понимала, как она может испортить детей, но преисполнилась чувством важности: ведь про неё знали в далёком Львове, почему-то боялись и прислали «официального представителя» специально «по её вопросу», хотя никаких вопросов Соня не задавала, чувствуя, что о случившемся с папой лучше помалкивать.
Мама по будням отлучалась то в Дрогобыч, то во Львов – искать, куда дели папу. По воскресеньям работала поломойкой в магазине. А ночами шила – Соня любила засыпать под стрёкот швейной машинки, который был для неё лучшей колыбельной.
Весь год Соня наслаждалась свободой, пропадая целыми днями то на речке, то в соседских садах, то запоем читая.
– Она Жюль Верна просто проглотила, – говорила мама смешные слова тёте Кысе, – а ведь ей и пяти нет! Что она там поняла? Боюсь, психику перегрузит. Отнимайте у неё книжки, гоните на воздух!
Однажды, когда Соня чинно гуляла по узким бориславским улочкам, заглядывая в соседские сады в поисках, с кем бы поиграть, неожиданно появился Ангел Маня и, прервав её радостные вопли, сразу огорошил почти строгим вопросом:
– Эй, что ты видишь перед собой?
– Дом, – растерялась Соня.
– Что ещё?
– На доме написано «Универмаг».
– А за ним?
– А за ним – деревья. И другие дома.
– А за ними?
– За ними я уже ничего не вижу. А что там?
– Там – Африка. Рукой подать! Пойдёшь по дороге на юг – выйдешь за город. Потом – по тропинке, которая вьётся среди деревень и лесов, потом – среди цветущих аулов и складчатых гор, пока не упрёшься в море. А там – корабль. «Давай к нам, Соня!» – кричит капитан. Сядешь на корабль – ветер в лицо, дельфины из воды выпрыгивают! – а впереди уже зелёные пальмы, жёлтые пески, разноцветные птицы. Африка!
– А слева? – стоя лицом к югу, Соня вертела головой, вглядываясь в даль.
– Китай. Фанзы, бамбук, бледно-жёлто-лиловый восход над рисовыми полями, Великая Китайская стена…
– Тоже – рукой подать?
– Конечно! Везде рукой подать! Да и идти не всегда надо. Можно просто на месте стоять и медленно поворачиваться – всё отовсюду и так видно! Даже без волшебной Двери. Только надо знать, что где можно увидеть. Да многие ленятся узнавать.
– Я не ленюсь. Но с Дверью легче. А ещё лучше, чтоб корабль за мной приплыл. По морю интересней, чем просто стоять и смотреть…
– Хорошо, – пообещал Маня.
А на следующий день, когда Соня сидела в кресле и читала, уютно устроившись с ногами под просторным пледом тёти Кыси, воздух в комнате вдруг сгустился-сгустился, послышался плеск воды, а потом и сама вода заиграла солнечными бликами, подкатила волнами до кресла – и перед Соней закачался настоящий корабль с парусами.
– Эй! – поманил капитан. – Поплывёшь с нами?
– Тётя Кыся будет волноваться, – засомневалась Соня. – И вообще, я ещё не умею плавать. Вдруг корабль ко дну пойдёт?
– Корабль крепкий. А тётя Крыся не узнает, – пообещал капитан. – Для неё твоё отсутствие будет секундным. Не увидев тебя, она решит, что у неё неладно с головой. Зажмурит глаза, откроет – а ты уже в кресле!
Капитан чем-то – взглядом, что ли? – напоминал Ангела Маню, хотя был усатый, коренастый и совсем не похож на долговязого Маню.
Любопытство пересилило осторожность, Соня ступила на корабль – и он помчался по сверкающим волнам, весело хлопая парусами, пока не причалил к зелёному берегу.
На песке под пальмами сидели полуголые коричневые ребятишки, а перед ними у обломка скалы стоял широконосый губастый такой же полуголый человек с седыми курчавыми волосами и высекал на скале рыбу, бормоча одно и то же непонятное слово. Дети смотрели на него и острой палочкой процарапывали контуры такой же рыбы на толстых пальмовых листьях, лежащих стопками перед ними.
– Листья вместо бумажки, – догадалась Соня. – Как здорово! А что это за рыба?
– Это особенная рыба, – сказал капитан, интонациями став совсем похожим на Ангела Маню. – Она водилась здесь, но её стало мало. И старейшина назначает её амулетом рода: мол, берегите, не ешьте! А то она вовсе исчезнет. Для того чтоб эту рыбу узнавали в лицо, её надо нарисовать и запомнить. А чтоб она была уважаемой, ей надо дать имя. Слышишь? Он произносит его. Без имени она просто рыба. «Просторыбу» можно есть десятками – не жалко. А с именем – это уже известная рыба, своя, близко знакомая. Ведь и ты куклам даёшь имена. И после этого они становятся тебе родными, ты ощущаешь за них ответственность. Всему дают имя, если хотят иметь с этим дело, разговаривать про это. Вон небо назвали «небом», воду – «водой», любовь – «любовью». Имя – граница между равнодушием и пониманием. Понимание начинается с названия. Но назвать – мало. Потом ещё надо про каждую вещь хорошенько поразмышлять, чтоб узнать, какая она на самом деле. Может, ей дали неправильное имя – и его пора изменить?
Соня вспомнила: тётя Кыся читала ей толстую книгу Библию, где к первому человеку, которого звали, как папу, Бог привёл зверей, чтобы «видеть, как он назовёт их». Бог, наверное, хотел убедиться в ответственности человека за порученных ему животных – вот и попросил дать имена. Как бы намекнул: так надо! С тех пор человек всё называет – и без этого не может. Это звери могут. «Надо поскорей узнать про все вещи, какие они на самом деле и почему им дали такое имя, а то буду, как кошка», – сказала себе Соня, которая слыла «почемучкой» и не по возрасту развитой, но ей казалось, что она знает мало, а хотелось знать всё.
А ещё тётя Кыся рассказывала: иногда в человека вселяется бес, и для того, чтоб его выгнать, надо выяснить, как беса зовут, и обратиться к нему по имени. Иначе он не выйдет. Может подумать: это кого-то другого гонят. «А если он не признается, как его зовут?» – спросила тогда Соня. «Узнать правильное имя – трудно, но не невозможно. По разным признакам можно догадаться, что это за бес и как его зовут», – ответила тётя Кыся. И добавила почти те же слова, какие произнёс капитан: «Просто надо хорошенько поразмышлять – и догадаешься»…
– Да, – подтвердил капитан, будто подслушав сонины мысли. – Дерево, цветок, птицу, зверя, человека – всё надо назвать. Бог не случайно попросил об этом Адама. Пока не назовёшь, не знаешь, что любить и беречь следует именно это. Но чтобы сразить что-то, тоже надо знать, как это «что-то» зовётся. И какое оно на самом деле. Иначе, как понять, с чем борешься? Иначе твой удар может пройти мимо цели… Ну, поплывём обратно!
Вмиг корабль домчал Соню до кресла. И вовремя. В комнату вошла тётя Кыся и стала ворчать, что Соня живёт без свежего воздуха. Она не знала: минуту назад Соня глотала солёные брызги, и свежий морской ветер гулял в её лёгких.
Взяв недочитанную книжку, Соня переместилась на лавку у калитки во двор Кольки-принца. Они в последнее время сдружились. Может, увидит, выйдет? Колька не замедлил появиться.
– И зачем ты книжки читаешь?
– А зачем ты играешь в футбол?
– Ну, мне в футбол нравится…
– А мне книжки нравятся…
– А что тебе нравится?
– Интересно! Я могу целый день читать, если не мешают.
– И я могу в футбол целый день. Пока не позовут. Даже если ребята уйдут, я один могу мяч гонять. Отхожу всё дальше от ворот – и бью! Здорово! А что ты станешь делать, если книжек не будет?
– Что? – задумалась Соня. И в самом деле – что? А что делают другие, когда у них нет того, что им надо, и этого негде взять?
– А что ты сделаешь, если у тебя мяча не будет? – осторожно поинтересовалась Соня.
– Банку консервную гонять буду. Или коробку из-под гуталина. Я плакать не буду! А ты будешь. Будешь!
– И я не буду, – набычилась Соня. – Я… Я… Я тоже сама. Сама книжки писать буду! Сама! Сама!!!
– Сама? Ты разве умеешь книжки писать?
– А ты разве умеешь мячи делать?
– Не умею, – признался Колька. – Банка – это не совсем мяч. Это как будто мяч. Настоящий мяч я не могу…
– А я могу настоящую книжку написать! Хоть сегодня!
– А про что?
– Про что хочешь! – Соня огляделась. – Хотя бы про дерево.
– Давай про мяч! Мне про дерево неинтересно.
– Давай! И знаешь что? Давай вместе книжки писать! – Соня побежала в дом за карандашом и бумагой, пока Колька переваривал смелое предположение, что тоже может писать книжки.
Прибежав с карандашом, тетрадкой для рисования и ножницами, Соня деловито разрЕзала тетрадку так, что получилась «книжка», важно раскрыла её и спросила:
– А что мы будем писать про мяч?
– Ну, он круглый и упругий…
– Ну и что? Яблоко вон тоже круглое и упругое. Значит, яблоко – это мяч? – Соня захихикала.
– Да, – растерялся Колька, – так получается…
– А вот и нет! – торжествовала Соня. – Ведь яблоко можно съесть, а мяч – нет! Яблоко – не мяч!
– Что пристала? – разозлился Колька. – И яблоко может стать мячом! Им тоже можно играть. Только жалко. Лучше яблоко съесть. И вообще, что про мяч писать? С ним играть надо!
Колька стукнул ботинком по мячу – и тот взмыл в небо. Но Соне не хотелось терять публику и соавтора в лице Кольки.
– Ну, давай про что-нибудь другое, – сказала она примирительно. – Про лужу, например.
– А что – лужа? Лужа – это просто вода от дождика и грязь.
– Вот и нет! В ней солнышко со дна светит, как прожектор в День Победы. И птицы летают, будто рыбы плавают. Наведу рябь – всё исчезнет. А потом опять появится. Там другая страна. Волшебная. В луже всегда запутка-перепутка. Посмотри! У нас здесь – деревья, а в луже они – водоросли. Здесь у нас птица с дерева вверх взлетает, а в луже птица-рыба вглубь уходит. Нам кажется: лужа – с носок ботинка. А на самом деле – дна нету! Вместо дна – небо. Слушай, а может, настоящие рыбы в речке думают, что они взлетают, когда ныряют?
– Может быть, – завороженно прошептал Колька.
Как интересно с этой Соней! Она всегда такое скажет, что не сразу сообразишь, что к чему, но при этом привычный мир вокруг превращается в манящую тайну. Его хочется исследовать, путешествовать от загадки к загадке, думать необычные мысли про самые обычные вещи, уважая себя за это и вырастая в собственных глазах.
– Смотри, – закричала Соня, – облако в луже плывёт. Вот сяду на облако и поплыву, как на лодке.
И – плюх в воду! Только брызги полетели.
– Перевернулась моя лодка, – сокрушалась Соня. – Теперь мама заругает, что пальтишко намочила…
– Знаешь, я бы написал ещё книжку про еду. Например, про мороженое. Мамка возила меня во Львов – и на вокзале эскимо купила. В шоколаде. На палочке. Его лижешь с разных сторон. Языку холодно и сладко. А палочка потом долго пахнет ванилью.
– Но ты ведь мороженое съел – и ничего не осталось! Значит, это будет книжка про ничего?
– Да? – задумался Колька и надолго замолчал.
– Погоди! – тронула его за рукав Соня. – Я догадалась! Можно написать книжку про еду. Но только это будет книжка ещё и про тебя, как ты разную еду ешь и радуешься. И как потом вспоминаешь про это и снова радуешься. И как потом мы пишем про это и опять радуемся…
– Ко-о-лька, домой! Соня, домой! – почти одновременно послышалось с разных концов улицы.
Так и не успели они написать книжку про то, как радуются. И уже никогда не напишут – завтра рано-рано, когда за окном ещё будет ночь, Соня уедет из Борислава навсегда.
Минутное сожаление шевельнулось в Соне, потом его захлестнули радость и нетерпение – скорей бы завтра! Но перед самым домом она вдруг замедлила шаг, а потом вовсе остановилась и как-то иначе огляделась вокруг.
Она не ставила перед собою волшебную Дверь, но будто оказалась за её порогом.
Перед ней в предзакатной дымке лежал Борислав, в котором Сони уже не было, – она вдруг ощутила город не фрагментами, не в приложении к себе, то бегущей по его уютным улочкам, то играющей с ребятами в садах или у речки, а отдельно от себя и целиком.
Вдали звенели колокольцы сгоняемых домой с пастбищ невидимых коров. Слышалось далёкое топотанье. С тропинок, не видных за пёстрыми осенними садами и штакетником заборов, беззвучно выстреливала в небо вздымаемая коровами пыль, смешивалась с туманом и дымом из труб, подбрасывала вверх сухие опавшие листья – они танцевали, медленно кружась под нехитрую житейскую музыку вступающего в янтарный вечер маленького городка. Хриплые окрики невидимых пастухов смешивались с гоготаньем гусей, которое на закате почему-то всегда дружнее и громче, с квохтаньем кур, с чьим-то одиноким аккордеоном, с зовами родителей, собирающих детей к ужину.
Приглушённые туманом звуки стелились над мерцающей вдали рекой, над темнеющим лесом, над домами и огородами. Никогда уже среди этих звуков не послышится «Со-о-ня!»
Поток самостоятельно существующей без её участия жизни катил мимо величественные волны. Знакомые предметы вызывали ощущение чуда, казались не узнанными до конца, рождая грусть, что уже не придётся их до конца узнать, насладиться ими сполна. Сердце сжалось от неизведанной прежде тоски – его тронуло древнее, как мир: «И это пройдёт».
Но рядом с сосущей тоской соседствовал сладкий восторг, как за маниной Дверью, – восторг отстранения от себя, самозабвения и будто в дар за это полученной полноты мира. Восторг растворения в сущем, расширения собственных границ вплоть до потери их.
Это не было испытанное за Дверью детское восхищение волшебством. Это был какой-то иной восторг – взаправдашний… восторг приобщения к странному и горькому чуду жизни… к великой вечности, которая может без нас, но готова откликнуться на зов и поделиться тайной, если зовущему будет куда её поместить в себе.
Это был восторг неизвестно к кому обращённой благодарности за щедрую красоту мира, которой может восхищаться любой, но не может присвоить, забрать, потому что она непреходяща, а он всего лишь проходил мимо пиршественного стола – и его кто-то просто угостил от щедрот своих.
Войдя в дом, Соня бросилась не к маме – с мамой она ещё будет долго! – а к тёте Кысе и повисла на ней, плача и целуя. Потом обцеловала и более строгую тётю Ядю, с которой была не так близка:
– Я вас никогда не забуду! Никогда! Никогда… Я вас люблю…
Всё кончается – и любовь ничего не может удержать, догадывалась Соня, которая в свои четыре с половиной года уже пережила немало потерь, но не хотела сама быть предательницей, как Колька, который убежал, так и не попрощавшись, как не попрощалась и закадычная подружка Надька – а ведь ей Соня накануне подарила кучу игрушек.
После ужина Соня разбила свою самую любимую тарелку. На ней был нарисован теремок, симпатичные звери и большеглазая девочка, похожая на Соню. Собрав последние остатки веры в то, что тарелка никак не может, не должна разбиться, раз Соня так её любит, она решила испытать её – и со всего размаху швырнула об пол. Тарелка разлетелась на куски. Соня долго плакала под кроватью. И мама, выманивая её оттуда обещаниями купить новую, ещё лучше, не могла понять, что горе Сони вызвано не потерей, а предательством – любимые люди и вещи не выдержали испытаний.
Всё кончается – и любовь ничего не в силах удержать. Так может, и удерживать не стоит?
Вот и с песком так же: чем сильнее сжимаешь ладошку, тем меньше в ней песка, он весь утекает сквозь пальцы, и только если раскрыть ладонь – на ней уместится внушительная горка. Может, надо просто радоваться, пока что-то хорошее есть? Не пытаться сделать его своим, не «зажимать в кулаке» и без сожаления расставаться с этим, когда приходит пора прощаться?
Соня уезжала из Борислава налегке. Она была готова к изменениям и изменам.
«И предал я сердце моё тому, чтобы исследовать и испытывать мудростию всё, что делается под небом: это тяжёлое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нём»…[12]
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Жизнь в Тасееве оказалась на удивленье обыденной. Главными объектами были – в порядке убывания значимости – распивочная, стыдливо именуемая «чайная», объединённый с комендатурой сельсовет, лесопилки по периметру посёлка и ферма с молочным цехом. Золотых россыпей не наблюдалось. От лесопилок плыл сладкий аромат хвойной стружки, смешиваясь у фермы с острым запахом навоза. И дальше – с горьковатым дымом из труб невысоких изб и землянок, с бензиновыми парАми грузовиков у чайной и автомобилей у комендатуры, возле которой сновали строгие люди в форме, пахнущие кожей блестящих портупей, одеколоном «Шипр» и крепким мужским потом. Они поддерживали в ссыльных и местных трудовой энтузиазм.
Этот островок человеческих испарений и будничных шумов окружали могучие леса, даже к опушке которых Соне запретили подходить, – в «тАйболе», как называли тайгу, водились медведи и волки.
Уже второй год Соня здесь. В тёплое время ей жилось достаточно привольно, но месяцев на семь Тасеево накрывала снежная зима, ограничивая передвижение холодом и сугробами. Их домик заваливало снегом по крышу. Откроешь дверь, а снаружи белая стена. Хочешь выйти – разгребай проход. Эва, не привыкшая к лопате, вставала затемно, чтобы прорыть в снегу узкий путь и не опоздать к восьми в контору, куда она устроилась счетоводом. Адам был не помощник – жил на лесопилке вместе с другими ссыльными и приходил домой в субботний вечер на выходной. Тогда и расчищал заносы у дома, освобождая от снега окошки, которые всю неделю не функционировали, – жить приходилось в полутьме при керосиновой лампе, лишь по воскресеньям свет проникал в комнату, оставаясь в ней день-два до следующего снегопада. Зато вода всегда под рукой: растопил снег – и умывайся!
Иногда мама брала Соню с собой на работу. Давала бумагу, ножницы, тетрадные скрепки, – и Соня ладила книжки-малютки, где записывала бесконечные истории с продолжениями, а когда надоедало или герои разбредались кто куда, завершала важно: «А дальше вам знать не полагается» – и начинала новую «книжку». Но чаще играла дома одна – мама наделала кукол из колючих шаров репейника, смастерила из спичечных коробков изысканную кукольную мебель.
Однако главной игрой Сони было тереться среди людей и наблюдать за ними.
В Тасееве обитал исторически живущий народ. Повсюду пестрели плакаты, призывая к великим свершениям и утверждая, что часть из них творится здесь. Перед чайной среди окурков и смятых папиросных пачек парИли на высоких железных опорах гордые слова: «Мы делаем историю!» и «Мой труд вливается в труд моей республики».
Соня понимала это так, что водка, которую кто-то где-то потрудился сделать, вливается тут в трудовые животы – говорят ведь: «работает, не щадя живота»! – а из множества таких животов и состоит республика Советов, где людям дают советы из Кремля, как делать историю. Наверное, с водкой это легче. Она изложила вопрос-догадку местным работягам – тем её объяснение понравилось.
– Умная девочка! Учёная девочка! – одобрительно зацокали они языками, и с тех пор, встречая Соню, уважительно здоровались с ней.
Однако папа сказал, что её «исследование» глупое, даже вредное, и попытался рассказать про поступательный ход истории, но в конце концов махнул рукой, заявив, что Соня ещё мала и потому не умеет исторически мыслить.
Соня же была уверена: она всё поняла. Вначале люди, когда ещё были первобытными, жили трудно, но славно и свободно. А потом, когда стали развиваться, и в иных головах созревали, как яблоки, мысли о том, что можно жизнь улучшить, а на другие головы эти яблоки падали и искрами высекали такие же мысли, то начиналось переустройство, становилось ещё хуже – и опять приходилось всё переустраивать. Однако знание того, что в Тасееве делают историю («вдруг на этот раз получится?»), вселяло гордость, подкреплённую песней, которую часто можно было слышать из чёрного громкоговорителя на столбе:
«Так громче, песня, так ярче, пламя!
Нам тяжело, но мы поём.
Мы кузнецы! Идите с нами!
Мы счастье миру создаём!»
Соня любила маршировать под эту песню вокруг столба. И пыталась понять, как должно выглядеть «счастье мира», потому что наблюдаемое местное счастье было какое-то несчастливое. Может, всегда так бывает, когда заботятся о счастье для всех, забывая себя?
Многое казалось здесь Соне странным и не слишком понятным.
Работали тасеевцы в самом деле неотрывно и очень сосредоточенно – от темна до темна («Самое ответственное и нужное стране дело – работа!»), не уважали бесполезное времяпрепровождение вроде чтения книг («И чего ты, Соня, ерундой маешься? Занялась бы чем-то толковым!»), зато считали достойными занятиями на досуге лото-карты-домино, коллективные вечерние песнопения и сидение в чайной, где, если верить плакату, делалась история. То, другое и третье кончалось обычно мордобоем или в лучшем случае – тяжёлыми перебранками, но участники выходили из них взбодрёнными, будто обрели смысл жизни и ощутили, что хорошо отдохнули, день прожит не зря: к ним немного приблизилось счастье мира.
В этих шумных общественных мероприятиях не участвовали несколько тихих ссыльных интеллигентов и обособленно живущие «буряты», как их здесь называли[13], опрятные и молчаливые. Промышляли «буряты», как прадеды, ловлей рыбы и зверя. И слыли мастерами по разниманию дерущихся, ибо были хоть низкорослы, но могучи, знали тайную «Голубиную Книгу», и неспешная речь их странностью своей действовала на местных мужиков магически:
– Не грязни дракою-сквернословием поселенную. Или, как ныне говорят, – Вселенную. Ты думаешь, – это звёзды далёкие? Нет, это наша общая поселенная, изба звёздная, куда поселили нас, заповедав главенство Слова чистого. Не то изба порушится! И ты вместе c нею![14] Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости. Смерть и жизнь – во власти языка. Любящие его вкушают плоды его. А язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души…[15]
Им вторили живущие по соседству таёжники-зыряне. Только изъяснялись проще:
– Лес злых не любит, вражды не любит. При нём состоять с любовью следует. Когда живут бранчливо, тАйбола болеет, зверь уходит, красота меркнет. Смерть, одним словом. Допрыгаетесь! – грозили они, урезонивая буянивших тасеевцев и пришлых шофёров.
– Это старая правда! – отмахивались те.
– Старая правда всегда молода. Природу тАйболы не уважаешь – свою уважь! Каждый человек хорош, коли грязь соскоблит.
– Мы живём в историческом моменте великих свершений. В нём без ругани нельзя, – вяло оправдывались буяны, но ненадолго затихали, – видно, ища в себе «хорошего человека».
Главной достопримечательностью Тасеева числилась семидесятилетняя Микроба. Бывшая монашка, она поколесила по лагерям и ссылкам, выучилась ругаться похлеще любого мужика, но не потеряла истовой веры в бога.
– Ну, чистая микроба: в душу без мыла влезет и разъедает организьму изнутри, разъедает! – говорили в сердцах мужики, когда та доставала их нравоучениями.
Так и прилипла к ней кличка «Микроба», став как бы почётным званием, – она даже гордилась им, старалась соответствовать и была «всякой дырке затычка». Микроба дружила с «бурятами» («за то, что верой крепки») – рядом с ними начинала уважать себя, становилась благостней и тише.
Существование любого из здешних людей дробилось на несколько жизней, которые сильно отличались одна от другой. И каждый был разный в этих своих разных жизнях, непохожий на себя, каким был день или час назад. Соне виделась за этим ускользающая тайна: какой каждый сам? На самом деле? Или «на самом деле» не существует вопреки уверениям то ли капитана, то ли Ангела Мани?
– Дядя Михей! Что вы делаете?
– А ничего не делаю! Поняла? Ни-че-го. Не мешай ничего не делать! Так и норовят помешать…
– А как же счастье мира, дядя Михей? Ведь надо скорее делать историю!
– Отстань! История – она у каждого своя, а счастье – выдумка, мечтание.
В дневной рабочей жизни Михей возил на тщедушной кобыле Мэри доски с лесопилки к реке на сплав или к приходящей издалека колонне грузовиков, помогая размещать лес на приделанных к грузовикам платформах. Он ни минуты не сидел без работы. Мышцы его жилистого тела безостановочно двигались, вылезая буграми из-под выцветшей майки летом и пары драных фуфаек зимой, когда он скидывал ватник, разгорячась трудом. Мышцы, казалось, жили самостоятельной умной и загадочной жизнью, которой не нужна речь, – они и так вели нескончаемый разговор друг с другом и с предметами, к которым прикасались руки-ноги Михея.
Дневной Михей большей частью молчал, лишь изредка выплёвывая: «Подмоги!», «Раз-два, взяли!», «Но-о, паскуда!»
Вечерний Михей играл в домино с мужиками на собственноручно сколоченном столе с занозами, без умолку балагурил, и казалось: не сказанные днём слова рвались из него – он становился сплошным весёлым шумом. Но как и днём, всё время вертляво двигался, даже сидя за доминошным столом, будто натруженные за день мышцы не могли остановиться, шевелясь по инерции.
А сейчас неподвижно обмяк на мшистой просеке и был не похож на себя – ни на дневного, ни на вечернего. Может, такой – равнодушный ко всему и даже к себе самому – он и есть настоящий?
– Баба Маня, что вы делаете?
– А не видишь, дочка, радуюсь!
Баба Маня поливала какие-то зелёные ростки в кривых деревянных ящиках, которые стояли у неё на подоконнике, и, кажется, в самом деле радовалась, хотя вроде бы нечему. Тщедушного мужа её, бывшего учителя словесности, ссыльного и прощённого по истечении срока советской властью, но спившегося из-за ударов судьбы, называли «захребетник». Соня пыталась заглянуть под ворот глухого платья бабы Мани, чтоб увидеть, где там прячется муж, и разглядеть на нём следы ударов судьбы. Но скорее всего, размышляла Соня, он был у неё «за пазухой» – между огромными колышущимися грудями. Там больше места. Однако туда не заглянуть – высоко. Баба Маня отличалась богатырским сложением, зычным голосом и кротким нравом, который никак не вязался с её видом «бой-бабы». Всю мощную энергию своего обширного тела и рвущегося из него трубного гласа она употребляла на защиту мужа, который, по слухам, гонял её «по коньку» и слова доброго не стоил.
– Он не работник – он поэт, – величаво трубила баба Маня. – Он мне стихи сочиняет! У каждого на земле – своё дело.
Когда «поэт» вылезал из-за хребта или из-за пазухи и обнаруживал себя, он шёл к людям на площадь перед сельсоветом. Молча и торжественно опорожнял два стакана водки. Громко и победно икал. Потом долго и глубоко вздыхал, значительно поднимая узловатый указательный палец к небу, загадочно произносил одни и те же слова: «Потому что именно!» – и прислушивался к их звучанию, видно, находя по мере удивлённого молчания всё более глубокий смысл в них, пока не падал под тяжестью обнаруженного смысла, который не мог выразить яснее, но явно знал то, чего не знает никто. Минут через десять начинал неловко елозить по земле, то ли пытаясь встать, то ли устраиваясь удобнее. Потом сворачивался калачиком, подтянув к подбородку коленки, и произносил вторую не менее загадочную фразу: «В тени твоих ресниц»… Летом его оставляли лежать, пока не проспится. Зимой отволакивали за ноги в избу, чтоб не замёрз. Ритуал иногда нарушали милиционеры, которые забирали его на перевоспитание, но это им не удавалось, – и через пару недель поэта возвращали бабе Мане.
У молочного цеха при ферме всегда можно было поболтать с разговорчивым вахтёром Онуфрием, имя которого сократили до обидного «Фря», но он не обижался.
– А что, я и в самом деле был «фря». Представь, ходил в белой рубашке с галстуком и учился бальным танцам. Ну фря фрёй!
Казалось, ему самому это трудно было представить, и приходилось напоминать себе, что это – было. Он жил когда-то в Саратове, работал осветителем в театре.
– Однажды прожектор у меня сломался во время спектакля. А в зале партийный вождь с женой пьесу смотрели.
– Что, сам Сталин, что ли?
– Нет, поменьше рангом. Но и этого хватило! Меня прямо из театра под белы руки увели – за вредительство. И на Колыму в телячьем вагоне.
– С телятами?
– Да нет, с людьми. Ты слушай. Я охранникам пьесы наизусть читал – меня за это любили, подкармливали. Так и выжил. Семь лет на Колыме отпахал, потом сюда на выселки послали. Слово-то какое давнее: выселки – высылка, значит. В Сибирь ещё при царе Алексее Михайловиче старообрядцев ссылали – за неправильную веру в бога. Не знали, что бога нет вовсе… Так вот – высылка. Кончился мой срок, да ехать некуда. Жена бросила. Дети не помнят. Это твоя мамка тебя к папаше привезла, чтоб ему не скучно было. Ты гордись мамкой!
У него не было кисти левой руки.
– А была?
– Да. Станком оторвало.
– А где она теперь?
– Собака съела. Год был голодный. Собаки тоже не жировали. А у нас Барбос – лохматый такой, не злой, ласковый. Я ему руку-то и скормил, чтоб добро не пропадало…
Тем временем в Тасееве шли обозначенные в лозунгах великие преобразования. Обновили портреты вождей, общественные здания. Чайная стала из грязно-синей ярко-зелёной («Чтоб зелёного змия не видно было», – шутили тасеевцы). Сельсовет же перекрасили в жёлтый. Михея, который спьяну определил сельсовет «жёлтым домом»[16], угнали за намёк «далеко и высоко», хотя, казалось, куда уж дальше заброшенного в тайге Тасеева!
У Микробы сняли заборчик, поставленный ею вокруг самовольно сделанного на просеке огородика, где она тайно высадила капусту. На общем собрании дружно осудили её сепаратизм, непонимание задач мирового пролетариата и пригрозили загнать за другой забор, казённый, если будет упорствовать в мелкособственнических настроениях, на что Микроба угрюмо сказала:
– Пуганы…
Да так сказала, что непонятно было: то ли «пуганы», то ли «поганы». Но к счастью, на это никто не обратил внимания.
Для поддержания мирового пролетариата было решено месяц добровольно поработать без выходных и в обязательном порядке привлечь на общественные работы Микробу, чтоб отбить религиозную отрыжку прошлого, выразившуюся в словах, что, мол, «для парЕния духа в человецех и для отдыха дадено светлое Божье воскресенье, когда и Бог почил от трудов своих».
– То – бог, а то – мы! У нас силёнок побольше, и перспективы поперспективнее, – грозно сказали Микробе. – А не схочешь, так найдём способ, чтоб сама на работу побежала при полном воспарении духа.
– Да, – одобрил народ. – Нам воли давать нельзя! Дай нам волю – совсем скурвимся!
Единогласно проголосовали за правильную ликвидацию неправильного заборчика, незаконной капусты и поддержали аплодисментами призыв к трудовому энтузиазму. Записали эти важные решения в протокол и дали его начальникам, чтобы повезли в Канск, откуда сообщат самому Сталину, что в далёком Тасееве стоят на страже государственных интересов и в едином добровольном порыве отдают выходные дни ударному труду в поддержку мирового пролетариата. Потом дружно спели про то, как «все умрём в борьбе за это», и разошлись, горланя патриотическую частушку, которая, несмотря на матное слово в ней, демонстрировала уважение к величию вождя и потому не пресекалась:
- – Ох, калИна-кАлина,
- х…й большой у Сталина!
- Больше, чем у Рыкова
- и у Петра Великова!
Чуть не попала под исторические преобразования и Соня, когда в маминой конторе, после того, как там побывала Соня, нашли гипсовый бюст Сталина, рот которого был перепачкан клюквенным соком, а перед ним лежал кусок выброшенных Микробой сырых кишок от зарезанной накануне курицы. Соня всего лишь кормила «куколку», но страшный намёк на людоедство генералиссимуса углядели в этом те, кто знал, что так можно про него подумать, – можно, но никак нельзя! Однако Соню по малолетству простили, строго пожурив и пригрозив Эве, чтоб активнее воспитывала дочь в духе ленинизма-сталинизма и в историческом почтении к фигурам современности, пусть и гипсовым, а не то её с мужем упрячут в тюрьму, а дочь отдадут на перевоспитание в детдом.
После всего, что Соня за два года наслушалась-насмотрелась, в её голове всё перепуталось. Одни и те же люди были то злы, то добры. То бились до крови, то через час ходили в обнимку. То громко возмущались сущей ерундой, то были послушно смиренны, позволяя вертеть собою.
Соня впервые поставила под сомнение мудрость мамы и незыблемость её правил. У мамы на всё были правильные ответы, но не было правильных вопросов, что обесценивало ответы.
Крамольная мысль поселилась в Соне: не всегда надо слушаться маму – она много знает, но не всё понимает. Знания её были, как листья без ветвей и ствола, которые сами по себе висели в воздухе, – ни к чему не приделанные, они не имели смысла, и правила её были неприменимы. В них не нуждалось живое булькающее варево, которое варилось вокруг, как и мама не нуждалась в нём. У неё всё было слишком просто: это – хорошо, это – плохо, это – красиво, это – нет, с этим следует иметь дело, с этим – не стоит. Но как же не иметь дела, если всё перемешано? Ведь тогда, значит, вовсе не жить! Тронешь одно, а под ним – совсем другое. Не станешь же всего сторониться! Значит, надо разобраться, понять.
К главному детскому вопросу «что как устроено?» прибавился другой, упрямый: как победить эту неразбериху и научиться управлять ею, чтобы не быть листиком, несомым ветром?
Не было на это ответов у мамы. Тем более их не могло быть у шестилетней девочки, которая не всегда может выразить словами неясные ощущения, – и значит, полагаться можно пока только на них.
Соня чувствовала: в недрах жизни вскипает другая жизнь, просится наружу, а в глубине уже набухает следующая, опять другая, рвётся на поверхность пузырями – то зловонными, то благоухающими, – смешиваясь в грязно-радужный мощный поток и увлекая за собою.
Жизнь и люди были, как матрёшки, – одна в другой: первая улыбалась, вторая печалилась, третья пугала злым лицом, четвёртая была равнодушной. И не поймёшь, от чего шарахаться, к чему прилепляться, потому что всё это – одна жизнь, в которой живёшь. Одна жизнь, где «хорошо» и «плохо» незаметно переходят друг в друга – и нет границ между ними. Или есть? И Соня пока просто не может их заметить?
Она пыталась спасаться в книжках – их мир был надёжней реального. Но вдруг написанное в них показалось неправдой, как показались выдумками и мамины сказки, и рассказы тёти Кыси. И даже про Ангела Маню она начала думать, что он ей просто снился. Стало как бы не за что держаться. Жизнь закачалась, как зыбкое деревянное корыто на воде.
И сама себе Соня стала казаться неправильной – смешной и глупой. Детскую открытую восторженность сменила застенчивость. Тревожили несовпадения разных ликов одних и тех же людей. И волшебная Дверь не помогала, хотя, когда Соня «ставила» её перед собой, красота начинала будоражить острее, разрозненные звуки сплетались в мелодию – и всё внутри заполняла тягучая, как ириска, сладкая жалость.
У большинства в Тасееве не было кровной родни. Каждый был сам по себе, как перекати-поле, хотя внешне люди жили тесно и будто вместе. Но как бы проходили мимо друг друга, не касаясь. Волею судеб их забросило в эту точку пространства – приходилось обживать её и ладить со всеми. Однако какой-то главный смысл остался где-то за далёким порогом, который каждый переступил давным-давно – и покатился, покатился по миру, как листок оторванный, пытаясь зацепиться по дороге за что-то или кого-то. Но зацепиться не удавалось. Оставалось верить: всё повернётся к лучшему завтра. Или послезавтра. Иначе и жить не стоит. Но жизнь получалась какая-то грустная, где всего вперемешку, а держаться не за что. И люди от этого тосковали.
А когда совсем невмоготу делалось, невесёлые стихи-сказки сочиняли и печальные песни пели, от чего почему-то легчало – сердце будто истекало печалью на время и очищалось, становясь готовым к дальнейшему принятию жизни:
«На море-океане, на острове Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь, на камне – светлица, в светлице красна девица Матерь Божия с сестрицами – Долей и Недолей. Прядут-сучат кудельку шёлкову: кому – от Доли нитка достанется, кому – от Недоли, а кому Матерь Божия в одну нить кудельки разные сплетает»…
- «Как два заяца во поле сходилися,
- Один бел заяц, другой сер заяц.
- Серой белого преодолел.
- Бел заяц – это Правда была.
- А сер заяц – это Кривда была.
- Кривда Правду преодолела.
- И взял Правду Бог нА небо.
- А Кривда пошла по всей земли —
- И вселилась в люди лукавые»…
– Так уж устроено, – вздыхали местные. – Нет на земли правды. Так уж исстари повелось. Чего уж противиться?
И не противились. И даже сами Кривде порой прислуживали, обижая друг друга в угоду начальникам, чтоб Недолю не навлечь.
И в самом деле, получалось: нет на земле правды – у Бога она. Однако и с Богом – тоже неясно: одни утверждали, что его нет, другие в него верили и то обнадёживали им, то пугали. Но несовпадение того, что люди говорили и делали, вконец запутывало Соню.
Вот мама в Бога верит, крестит по утрам и вечерам Соню и даже читает при этом армянскую молитву: «Ханун ко, Ев вортхо, Ев хоко Српо, Амен»…[17] Но нет в маме всепрощающей любви, заповеданной Богом, о которой рассказывала тётя Кыся, – казалось, мама не любит никого, кроме Сони с Адамом; местных сторонится, за глаза называет «чернь» и брезгливо морщит губы. Папа в Бога не верит, но всех понимает, жалеет не осуждая – и люди рядом с ним делаются добрее.
От папы у Сони теплело на сердце, а маминого брезгливого высокомерия она стеснялась: становилось жалко тех, на кого оно было обращено. Она боялась: вдруг люди поймут, что вежливая улыбка мамы и доброжелательные «Здравствуйте! Как поживаете?» – обманные, а на самом деле ей всё равно, кто как поживает.
Когда мама бывала свободна, то рьяно занималась Соней, уберегая от «тлетворного влияния улицы», – сочиняла с ней ребусы, кроссворды, шарады, читала Пушкина и пела красивые грустные романсы о хризантемах в саду, о трёх юных пажах, любивших королеву, о чайке, которую шутя убил охотник, и о камине, где печально догорает огонь.
- А за окном гуляли местные:
- – Мне не надо шоколада,
- мне не надо колбасы.
- Дайте мне кусочек мыла
- постирать мои трусы!
- Вот «брошенка» Лизавета начинает страдания:
- – Ветер дул, берёзка гнулась.
- Я в любови промахнулась.
- Ураган леса качает —
- милый на меня серчает.
- А вот заголосила тётка Анна, у которой муж в тюрьме:
- – Ой, как дымно – не проглотишь.
- С кем рассталась – не воротишь…
В тот день, когда Соню припугнули страшными карами за шкоду с бюстом вождя, она тоже решила поделиться с людьми страхами – вышла на круг и завела басовитым речитативом «со слезой»:
- – Кто-то в нашу дверь стучится,
- сердце моё ёкает:
- ой, за мамою пришли —
- увезут далёко…
- Тут же кто-то откликнулся:
- – Не горюй ты, наша Соня,
- не печалься шибко!
- Отвоюем твою маму,
- скажем, что ошибка…
– А чего ж дядю Михея не отвоевали? – спросила тихо Соня, поняв вдруг, что участие местных, в общем-то, жалостливых и добрых, пасует перед опасностями и до дел не доходит… они всегда согласятся с чужой и даже со своей бедой и не станут противиться ей, страшась беды большей, – лучше потоскуют потом вместе, да этим ограничатся.
Соня почувствовала со стыдом, что на самом деле не очень-то любит этих людей – скорее, изучает, опасаясь их переменчивости, не доверяет и рассчитывать может лишь на себя. Ну и немножко на родителей, хотя с некоторых пор стало временами казаться, что она старше них.
Новая неизвестная ей самой сила вызревала в ней.