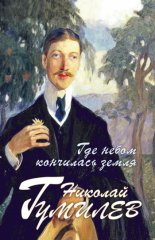Гиперион. Падение Гипериона Симмонс Дэн
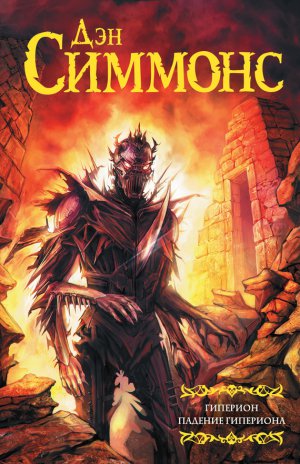
– У вашего друга старомодные привычки, – сказал он, – если он все еще пишет от руки.
– Да, – подтвердил Хойт. – Если вы готовы слушать, я начну.
Все присутствующие закивали головами в знак согласия. Обеденная платформа мерно подрагивала: казалось, это бьется сердце километрового «дерева», которое несло их вперед, сквозь холод космической ночи. Сол Вайнтрауб взял спящую дочку на руки и осторожно уложил ее на мягкий матрасик, расстеленный рядом с ним на полу. Сняв свой комлог, он поставил его возле матрасика и набрал на диске программу белого шума. Малышка, которой была всего неделя от роду, не просыпаясь, перевернулась на животик.
Консул запрокинул голову и отыскал сине-зеленую звезду – Гиперион. Звезда вырастала в размерах буквально на глазах. Хет Мастин надвинул капюшон поглубже, полностью спрятав лицо в тени. Сол Вайнтрауб закурил свою трубку. Остальные разобрали принесенные клонами чашечки с кофе и поудобнее устроились на стульях.
Мартин Силен, казалось, был заинтригован больше других и проявлял явные признаки нетерпения. Наклонившись вперед, он прошептал:
- «Коль рок велит мне, – он сказал, – начать,
- То помоги мне, пресвятая мать.
- Не будем прерывать, друзья, дорогу.
- Держитесь ближе, я же понемногу
- Рассказывать вам буду той порой».
- Мы тронулись, и вот рассказ он свой
- Неторопливо начал и смиренно,
- С веселостью и важностью почтенной.
История священника:
Человек, который искал Бога
– Порой лишь шаг отделяет пылкую веру от вероотступничества, – так начал свое повествование священник. Впоследствии, когда Консул решил надиктовать этот рассказ на комлог, он всплыл в его памяти как единое целое. В нем не было никаких «швов» – не считая, естественно, пауз, когда рассказчик переводил дыхание, оговорок да неизбежных «это значит» и «так сказать», которые всегда сопровождают живую человеческую речь.
Ленар Хойт был тогда молодым священником, только что посвященным в сан. Он родился и вырос на католическом Пасеме и теперь впервые покидал родную планету: ему поручили сопровождать отца Поля Дюре, почтенного члена ордена иезуитов, в тихое изгнание на колониальную планету Гиперион.
В другое время отец Поль Дюре, несомненно, стал бы епископом, а то и папой. Это был высокий, худой человек с внешностью аскета. Короткие седые волосы оставляли открытым высокий благородный лоб, а глаза, видевшие слишком много страданий, смотрели на мир с глубокой грустью. Поль Дюре был последователем Святого Тейяра,[6] а также археологом, этнологом и видным иезуитским теологом. Хотя католическая церковь пребывала тогда в глубоком упадке, превратившись, по сути, в некий полузабытый культ, который терпели просто потому, что он утратил всякое значение и стоял в стороне от основного потока жизни Гегемонии, орден иезуитов не изменил своего кредо. И отец Дюре был убежден, что святая римско-католическая апостольская церковь остается последней и самой верной надеждой человечества на бессмертие.
Еще мальчишкой Ленар Хойт боготворил отца Дюре, иногда наведывавшегося к ним в церковную школу. Случалось им встречаться и позже, во время редких посещений будущим семинаристом Нового Ватикана. В те годы, когда Хойт учился в семинарии, Дюре руководил важными раскопками, которые велись на средства церкви на Армагасте, соседней планете. Он вернулся через несколько недель после того, как Хойта посвятили в сан, и над его головой сразу стали сгущаться тучи. Никто, за исключением высших иерархов Нового Ватикана, не знал точно, что произошло. Поговаривали об отлучении и даже об инквизиционном процессе (хотя Святая Инквизиция бездействовала уже более четырех веков – со времен смуты, начавшейся после гибели Земли).
Дело закончилось всего-навсего тем, что отца Дюре по собственной его просьбе перевели на Гиперион, известный большинству только со странным культом Шрайка, а отцу Хойту поручили сопровождать его. То была неблагодарная роль – ученик, конвоир и шпион в одном лице. Возможность увидеть новый мир могла бы в известной степени скомпенсировать тяготы поручения, но даже с этим Хойту не повезло: он должен был проводить отца Дюре до космопорта Гипериона и сразу вернуться в Сеть тем же спин-звездолетом. По воле епархиальной канцелярии Ленару Хойту предстояло провести двадцать месяцев в криогенной фуге плюс несколько недель субсветового полета и возвратиться потом на Пасем, где за это время пройдет восемь лет; бывшие однокашники оставят его далеко позади: одни сделают карьеру в Ватикане, другие добьются миссионерских постов.
Ленар Хойт, связанный обетом послушания и приученный к дисциплине, безропотно принял поручение.
Лететь им предстояло на древнем спин-звездолете «Олег», ржавом корыте без искусственной гравитации, иллюминаторов и прогулочных палуб. Чтобы удержать пассажиров в гамаках и на фуга-ложах, фантопликаторы подключили прямо к информационной сети. Пробудившись из фуги, пассажиры (в большинстве своем рабочие из других миров, небогатые туристы да еще несколько потенциальных самоубийц – фанатиков культа Шрайка) спали в тех же самых гамаках, ели безвкусную рециркулированную пищу в общих столовых, а все остальное время проводили в борьбе с космической болезнью и скукой. После того как корабль вышел из спин-режима, до Гипериона оставалось двенадцать дней полета по инерции.
За время своего вынужденного соседства с отцом Дюре отец Хойт мало что узнал от него, а о событиях на Армагасте, послуживших причиной изгнания, вообще ничего. Между тем молодой священник запрограммировал свой имплантированный комлог на поиск любой информации о Гиперионе, и к тому времени, когда до посадки оставалось всего три дня, отец Хойт уже считал себя чем-то вроде эксперта по этому миру.
– Существуют записи о посещении Гипериона католиками, но я не нашел никаких упоминаний о тамошней епархии, – сказал Хойт как-то вечером, когда они беседовали, лежа в гамаках, точнее, паря в невесомости. (Почти все их попутчики тем временем созерцали эротические видения, созданные фантопликаторами.) – Полагаю, вы направляетесь туда с миссионерской целью?
– Вовсе нет, – ответил отец Дюре. – Добрые люди Гипериона никогда не навязывали мне свои религиозные взгляды, так вправе ли я задевать их чувства, пытаясь обратить их в свою веру? Мой план таков: я надеюсь достичь южного континента, Аквилы, затем отправлюсь из города Порт-Романтик в центральную его часть, но ни в коем случае не как миссионер. Я собираюсь основать в районе Разлома этнографическую станцию.
– Этнографическую станцию? – удивленно повторил отец Хойт и закрыл глаза, чтобы связаться с комлогом. – Эта часть плато Пиньон необитаема, отец мой. Огненные леса делают ее абсолютно недоступной большую часть года.
Отец Дюре улыбнулся. Импланта у него не было, а свой старенький комлог он так и не достал из багажа.
– Не такая уж она недоступная, – негромко произнес он. – И, кстати, вполне обитаемая. Там живут бикура.
– Бикура, – повторил отец Хойт и закрыл глаза. – Но ведь это всего лишь легенда, – сказал он наконец.
– Гм, – промычал в ответ отец Дюре. – Поищите-ка в перекрестном указателе ссылку на Мамета Спедлинга.
Отец Хойт снова закрыл глаза. По общему указателю он установил, что Мамет Спедлинг был независимым исследователем, работавшим на Шеклтоновский институт Малого Возрождения. Почти полтора стандартных века назад он представил в институт краткое сообщение о своем путешествии в глубь материка от только что основанного в те годы Порт-Романтика. Он преодолел болота (впоследствии их осушили под фибропластовые плантации), а затем, выбрав редкий период затишья, проскочил через огненные леса и забрался достаточно высоко на плато Пиньон, где исследовал Разлом и живущее вблизи него небольшое племя, по ряду признаков напоминавшее легендарных бикура.
В кратких заметках Спедлинга высказывалась гипотеза о том, что эти люди были потомками колонистов с корабля-«ковчега», пропавшего тремя веками ранее. Судя по его описаниям, это племя являлось классическим образчиком культурного регресса и вырождения в условиях полной изоляции. Спедлинг не выбирал выражений: «…достаточно двух дней, чтобы со всей очевидностью понять: бикура настолько глупы, пассивны и неинтересны, что терять время на их детальное изучение просто бессмысленно». Тем временем огненные леса начали проявлять признаки активности, и Спедлинг, не теряя времени, поспешил вернуться к побережью. Он провел в пути три месяца и потерял в «спокойном» лесу четырех туземных носильщиков, все свое оборудование, записи и левую руку.
– Боже мой! – воскликнул отец Хойт, приподнимаясь в гамаке. – Но почему именно бикура?
– А почему бы и нет? – последовала реплика отца Дюре. – О них ведь почти ничего не известно.
– Почти ничего не известно о большей части Гипериона, – запальчиво возразил молодой священник. – Разве вы не слышали о Гробницах Времени и легендарном Шрайке? Вот это загадка!
– Совершенно верно, – отозвался отец Дюре. – Ленар, сколько работ посвящено Гробницам и сущности Шрайка? Сотни? Тысячи? – Пожилой священник набил трубку и закурил (в условиях невесомости это требовало немалых усилий). – Кроме того, – добавил он, – даже если Шрайк и существует на самом деле, к роду человеческому он уж точно не принадлежит. А меня интересуют люди.
– Да, – неохотно согласился Хойт, роясь в своем умственном арсенале в поисках весомых аргументов, – но ведь тайна бикура так незначительна… Самое большее, что вы обнаружите, это несколько десятков туземцев, живущих в районе, закрытом дымом и облаками и столь… незначительном, что даже картографические спутники их проглядели. Зачем они вам, если на Гиперионе есть настоящие тайны! Возьмите хоть лабиринт! – Хойт оживился. – Знаете ли вы, отец мой, что на Гиперионе находится один из девяти известных лабиринтов?
– Конечно, – ответил Дюре. Облако табачного дыма над его головой медленно растекалось ручейками. – Но у лабиринтов, Ленар, есть поклонники и исследователи по всей Сети, и на всех девяти планетах возраст туннелей превышает полмиллиона стандартных лет. Я полагаю, он даже ближе к трем четвертям миллиона. Их секреты никуда не денутся. А сколько еще просуществует культура бикура, прежде чем будет поглощена современным колониальным обществом и растворится в нем или, что более вероятно, просто погибнет?
Хойт пожал плечами:
– Возможно, бикура уже исчезли. С тех пор как Спедлинг обнаружил их, прошло слишком много времени. Новых сообщений не поступало. Если они как племя перестали существовать, все окажется напрасным: потраченное время, труд, лишения в пути…
– Вот именно, – только и ответил отец Поль Дюре, продолжая попыхивать своей трубкой.
И лишь за час до посадки, уже на борту челнока, отец Хойт смог на короткое мгновение заглянуть в душу своего спутника. Лазурно-зеленый серп Гипериона медленно приближался, закрывая небо, когда старый челнок внезапно врезался в верхние слои атмосферы и бушующее пламя затопило иллюминаторы; несколько минут они летели над темными грудами облаков и освещенным звездами морем, а затем впереди возникла и, словно радужная приливная волна, бесшумно понеслась им навстречу сверкающая полоса рассвета.
– Чудесное зрелище, – прошептал Поль Дюре, скорее самому себе, чем своему молодому спутнику. – Чудесное. В такие моменты я чувствую… смутно ощущаю… какой это было жертвой для Сына Божьего – спуститься с небес, чтобы стать Сыном Человеческим.
Хойт хотел заговорить с ним, но отец Дюре продолжал смотреть в иллюминатор, погруженный в свои мысли. Десять минут спустя они совершили посадку в порту Китса, и отец Дюре закружился в вихре таможенных и багажных забот. А еще через двадцать минут вконец разочарованный Ленар Хойт снова был в космосе, возвращаясь на борт «Олега».
– Пять недель спустя по моему личному времени я вернулся на Пасем, – сказал отец Хойт. – Я потерял восемь лет, но почему-то переживал эту потерю куда острее других. Сразу же после возвращения епископ сообщил мне, что за все четыре года пребывания Поля Дюре на Гиперионе от него не поступило никаких вестей. Новый Ватикан истратил целое состояние, посылая запросы по мультилинии, однако ни колониальные власти, ни консульство в Китсе так и не смогли найти пропавшего священника.
Хойт остановился, чтобы сделать глоток воды, и Консул, воспользовавшись этим, сказал:
– Я помню эти поиски. Я, конечно, сам никогда не встречался с отцом Дюре, но мы делали все возможное, чтобы найти его. Тео, мой помощник, несколько лет занимался делом пропавшего священника, потратил массу энергии, но никаких следов его не обнаружил. Разве что несколько противоречивых свидетельств его пребывания в Порт-Романтике. Причем его видели в первые недели после прибытия, за несколько лет до того, как мы начали поиски. Там были сотни плантаций, связи, естественно, никакой, поскольку местные жители выращивали не только фибропласт, но и «травку». Похоже, мы так и не добрались до людей, которые его встречали.
По крайней мере, когда я уходил со своего поста, дело отца Дюре еще не закрыли.
Отец Хойт кивнул, подтверждая его слова.
– Я совершил посадку в Китсе через месяц после того, как вы сдали дела. Епископ был удивлен, когда я изъявил желание вернуться. Сам Его Святейшество дал мне аудиенцию. Я пробыл на Гиперионе меньше семи тамошних месяцев и раскрыл тайну судьбы отца Дюре. – Хойт указал на два грязных блокнота в кожаных переплетах, лежавших на столе. – Чтобы закончить свою историю, – сказал он хриплым голосом, – я должен зачитать выдержки из этих записей.
«Иггдрасиль» развернулся, и массивный ствол «дерева» загородил солнце. Вследствие этого маневра обеденная платформа и лиственный навес над нею должны были погрузиться во мрак, но вместо тысяч звезд, которые обычно видны с поверхности планеты, над головами собравшихся, вокруг них и даже внизу засверкали миллионы солнц. Теперь стал отчетливо виден и сам Гиперион – он несся на них, подобно смертоносному ядру.
– Читайте, – сказал Мартин Силен.
День 1-й
Итак, мое изгнание началось.
Я не вполне представляю себе, как датировать мои новый дневник. По монастырскому календарю Пасема сегодня семнадцатый день месяца Фомы Года Господня 2732. По стандарту Гегемонии – 12 октября 582 года п.к. (после катастрофы). По местному гиперионовскому счету – по крайней мере так мне сообщил маленький сморщенный клерк в старом отеле, где я остановился, – двадцать третий день Ликия (последнего из семи их сорокадневных месяцев) 426 года кораблекрушения, или сто двадцать восьмого года правления Печального Короля Билли, который не правит уже по меньшей мере сто местных лет.
К черту! Я назову его Днем Первым моего изгнания.
Тяжелый день. (Странно: я чувствую себя утомленным после нескольких месяцев сна, но, говорят, это обычное ощущение после фуги. Никаких воспоминаний, только усталость во всем теле. Не помню, чтобы я в молодости так уставал от путешествий.)
Я очень огорчен, что мне не удалось поближе познакомиться с молодым Хойтом. Он показался мне человеком достойным и твердо верующим – горящий взор и ни шагу от катехизиса. Молодые священники, такие, как он, не виноваты, что Церковь переживает свои последние дни. В силу своей счастливой наивности он просто не может ничего сделать, чтобы остановить это сползание в небытие (на которое, видимо, обречена наша Церковь).
Ну что ж, я тоже не смог.
Когда мы шли на посадку, новый мир предстал передо мною во всей своей красоте. Великолепное зрелище! Правда, из трех континентов я увидел лишь два – Экву и Аквилу. Третий – Урса – находится в другом полушарии.
Посадка в Китсе, несколько часов на таможне (пройти которую мне удалось не без труда), затем поездка в город. Путаные воспоминания: горный хребет на севере, окутанный голубой дымкой, предгорья, поросшие лесом с желто-оранжевой листвою, бледное голубовато-зеленое небо и солнце – очень маленькое, но куда более яркое, чем на Пасеме. Цвета тут на расстоянии кажутся ярче, но стоит подойти поближе – и все расплывается, словно на картине пуантилиста. Гигантская статуя Печального Короля Билли, о которой я слышал так много, меня разочаровала. Когда смотришь на нее со стороны шоссе, она выглядит сырой и словно бы недоделанной. Она вовсе не похожа на то царственное изваяние, которое я ожидал увидеть: скорее это какой-то набросок, скетч, наспех выдолбленный в темной скале над ветшающим полумиллионным городом, хотя покойный король – поэт и неврастеник – наверняка по достоинству оценил бы это свое изображение.
Город можно условно разделить на две части: огромный лабиринт трущоб и пивных, который местные жители называют Джектауном, и собственно Китс, именуемый также Старым городом (хотя ему не более четырех веков) – стерильно чистый, весь из полированного камня. Надо будет туда наведаться.
Я собирался провести в Китсе месяц, но мне уже не терпится двинуться дальше. О, монсеньор Эдуард, если бы вы могли видеть меня сейчас! Я наказан, но не раскаялся. Я более одинок, чем когда-либо прежде, но странное дело – мое новое изгнание даже доставляет мне удовлетворение. Если за неумеренность (вызванную лишь ревностью к вере) полагается изгнание в седьмой круг ада, то место выбрано хорошо. Я мог бы забыть о придуманной мною самим миссии к далеким бикура (существуют ли они в действительности? сейчас мне кажется, что нет) и провести отпущенные мне годы в этой провинциальной столице забытого Богом мира, подобного тихой речной заводи. Мое изгнание было бы столь же полным.
О, Эдуард, мальчиками мы росли вместе, вместе учились (хотя я никогда не мог сравниться с тобою ни в научных успехах, ни в приверженности догме), ныне вместе стареем. Но теперь ты на четыре года меня мудрее, а я все еще остаюсь тем упрямым непослушным мальчишкой, которого ты помнишь. Я молюсь, чтобы ты был жив и здоров и молился за меня.
Я устал. Пора спать. Завтра поброжу по городу, на славу поем, а заодно договорюсь о поездке в Аквилу и дальше на юг.
День 5-й
В Китсе есть собор. Вернее, был. Он простоял, никому не нужный, по меньшей мере два стандартных века и теперь лежит в руинах. Центральный неф открыт голубовато-зеленым небесам, одна из западных башен недостроена, другая представляет собою какой-то скелет – куча камней и проржавевшие прутья арматуры.
Я наткнулся на него, когда, заблудившись, бродил вдоль берега реки Хулай, в тех почти безлюдных местах, где Старый город переходит в Джектаун. Высокие, нагороженные безо всякого плана складские здания полностью закрывали разрушенные башни собора, пока наконец я не свернул в узкий тупик. Там я и увидел остов покинутого храма: молельный зал, наполовину обратившийся в руины, обрушился в реку, хотя на фасаде еще можно различить остатки барельефов – скорбные апокалиптические фигуры, память об эпохе Хиджры.
Сквозь тени решеток и упавших блоков я прошел в неф. В пасемской епархии ни разу не упомянули, что на Гиперионе существовала католическая община. Тем более – собор. Кажется почти невероятным, чтобы четыре столетия назад рассеявшиеся по планете колонисты с «ковчега» могли сохранить столь многочисленную общину, что ей даже потребовался свой епископ. Не говоря уж о самом храме. Тем не менее вот он. Был.
Я заглянул в ризницу. Гипсовая пыль висела в воздухе, как ладан, два солнечных луча, проникавшие сверху через узкие окна, прорезали эту пылевую завесу. Я вступил в более широкое пятно солнечного света и приблизился к алтарю, ничем не украшенному, за исключением осколков и трещин (ибо каменная кладка давно уже разрушилась). Большой крест, когда-то висевший на восточной стене позади алтаря, лежал теперь среди камней и осколков кирпича. Не сознавая, что делаю, я прошел к алтарю, воздел руки и начал прославлять пресуществление хлеба и вина в тело и кровь Господню. В моих действиях не было ничего мелодраматического или, Боже упаси, пародийного, все это я проделывал совершенно искренне и без задних мыслей. То была бессознательная реакция священника, который почти ежедневно в течение сорока шести лет служил мессу и которому, вероятно, никогда больше не приведется участвовать в этом умиротворяющем ритуале.
И тут я с удивлением обнаружил, что у меня есть прихожане. Старая женщина стояла на коленях в четвертом ряду. Ее черная одежда и такой же платок почти сливались с царившим там полумраком, мне был виден лишь бледный овал ее старческого лица. И лицо это, как бы отделенное от тела, плыло в темноте. Растерявшись, я замолчал, а она все смотрела на меня, но в ее взгляде было что-то очень странное: даже на таком расстоянии я почти сразу понял, что женщина слепа. С минуту я молча стоял, щурясь в пыльном потоке света, затопившем алтарь, и пытаясь истолковать это призрачное видение. И вообще – как я попал сюда? Что делаю?
Когда я вновь обрел дар речи и обратился к слепой (слова эхом отдавались в пустом храме), она уже уходила. Я слышал, как ее ноги шаркают по каменному полу. Затем раздался скрежет, и краткая вспышка света выхватила из темноты ее профиль справа от алтаря. Я прикрыл глаза рукой, защищаясь от слепящих солнечных лучей, и начал пробираться через обломки туда, где некогда находились ограждавшие алтарь перила. Я снова позвал ее, постарался успокоить. Кажется, я повторял, что не нужно меня бояться (хотя от страха у меня самого по спине бегали мурашки). Шел я довольно быстро, однако, достигнув той части нефа, где еще оставался кусочек крыши, все же потерял слепую из виду. Небольшая дверь вела в полуразрушенный молельный зал и дальше, на берег реки. Старухи нигде не было. Я вернулся в темный храм. Признаться, я был бы рад счесть ее игрою своего воображения, сном наяву после многих месяцев вынужденной криогенной бессонницы, если бы не одно материальное доказательство ее существования. В прохладной темноте теплился огонек зажженной свечи: маленький язычок ее пламени дрожал, колеблемый незримыми потоками воздуха.
Я устал от этого города. Я устал от его языческой претенциозности и лживых легенд. Гиперион – это мир поэтов, но как мало в нем поэзии. Сам Китс – смесь фальшивого, мишурного классицизма и бездумной энергии разрастающегося города. Здесь три общины дзен-гностиков. Над городом возвышаются четыре минарета. Но подлинные места всенародного поклонения – бесчисленные бардаки и пивные да огромные рынки, где торгуют привезенным с юга фибропластом. Впрочем, есть еще святилища Шрайка. Там потерянные души пытаются скрыть свою самоубийственную безнадежность за ширмой поверхностного мистицизма. Вся планета провоняла этим мистицизмом без откровения.
К черту!
Завтра я отправляюсь на юг. В этом абсурдном мире есть ским-меры и прочие летательные аппараты, но простой человек может перебраться с одного мерзопакостного континента-острова на другой только морем (что, как мне говорили, занимает целую вечность) или же на огромном пассажирском дирижабле, который отправляется из Китса раз в неделю.
Завтра рано утром я улетаю на дирижабле.
День 10-й
Животные.
Первая исследовательская группа на этой планете, похоже, зациклилась на животных. Лошадь, Медведь, Орел.[7] В течение трех дней мы ползли вдоль восточного побережья Эквы над изрезанной береговой линией, носящей название Грива. Последний день мы летели над Срединным морем – кстати, не таким уж большим. Сегодня мы прибыли на остров Кошачий риф и разгружаемся в Феликсе – это «столица» острова. Судя по тому, что я смог разглядеть с прогулочной палубы и причальной башни, жителей здесь не более пяти тысяч. Город представляет собой хаотичное скопление лачуг и бараков.
Затем наш корабль пролетит (вернее проползет) еще восемьсот километров до цепочки небольших островов, носящих название Девять Хвостов, а затем мы бесстрашно ринемся через экватор и пройдем без посадки семьсот километров над открытым морем. Следующая стоянка будет на северо-западном побережье Аквилы, в местечке, именуемом Клюв.
Животные…
Называть это средство передвижения пассажирским дирижаблем – лингвистический трюк. Это огромное подъемное устройство с грузовым трюмом, в котором поместится, наверное, все население Феликса. Да еще останется место для нескольких тысяч вязанок фибропласта. Мы, пассажиры, наименее важная часть груза, и потому устраиваемся как можем. Я поставил свою переносную койку на корме рядом с грузовым тамбуром. Из своего багажа и трех огромных ящиков с оборудованием экспедиции я соорудил себе довольно уютный уголок. Рядом со мною обосновалась семья из восьми человек – работники с плантаций. Они возвращаются из Китса, куда каждые два года ездят за покупками. Звуки и запахи, исходящие от их свиней, меня не очень смущают. Равно как и визг хомяков, которых здесь употребляют в пищу. Но постоянные крики несчастного, совершенно задуревшего петуха ночами становятся просто невыносимыми.
Животные!
День 11-й
Обедал сегодня вечером в салоне над прогулочной палубой с гражданином Иеремией Денцелем, профессором небольшого колледжа в Эндимионе. Сейчас он на пенсии. Профессор сообщил мне, что первая исследовательская экспедиция на Гиперион вовсе не зациклилась на животных; официальные названия тех континентов вовсе не Эква, Урса и Аквила, но Крейтон, Олленсен и Лопес. Эти названия даны в честь трех средней руки чиновников Геодезической Службы. Нет, все-таки животные подходят для этой цели куда лучше.
Пообедав, я усаживаюсь в одиночестве на внешней прогулочной палубе и любуюсь заходом солнца. Спереди палубу защищают грузовые модули, так что ветер тут чуть сильнее обычного морского бриза. Надо мною – выпуклый корпус дирижабля, раскрашенный в оранжевый и зеленый цвета. Мы летим между островами; море здесь лазурное с зеленоватыми переливами. У неба та же цветовая гамма, но в обратном соотношении. Редкие перистые облака ловят последние лучи крохотного солнца и пылают кораллово-красным огнем. Полная тишина – если не считать тихого жужжания электротурбин. Отсюда, с трехсотметровой высоты, я различаю в воде силуэт какой-то твари, похожей на гигантскую манту, она плывет следом за дирижаблем. Секунду назад странное существо (насекомое? птица?), окраской и размерами напоминающее колибри, но с тонкими полупрозрачными крыльями метрового размаха, замерло метрах в пяти над моей головой, обследовало меня, а затем, сложив крылья, ринулось в море.
Эдуард, сегодня вечером я чувствую себя особенно одиноким. Мне было бы легче, если бы я знал, что ты жив, как и прежде, копаешься в своем садике, а вечерами пишешь в кабинете. Я думал, мои путешествия разбудят во мне былую веру в концепцию Бога, высказанную Святым Тейяром. У него все слито воедино: Христос Эволюции, Личное и Всеобщее, En Haut и En Avant. Однако вера эта во мне пока не воскресла и, боюсь, вряд ли воскреснет.
Становится темно. Видимо, я старею. Порой я чувствую… нечто вроде угрызений совести… за то, что подтасовал тогда результаты раскопок на Армагасте. Но Эдуард, Ваше Преосвященство, по ряду признаков там действительно существовала культура христианского типа. В шестистах световых годах от Старой Земли и за три тысячи лет до того, как человек покинул пределы родного мира…
Так ли уж тяжек мой грех – истолковать эти двусмысленные свидетельства как знак того, что христианство возродится еще при нашей жизни?
Да, грех был. Но грех мой не в том, что я подтасовал данные. Я возомнил, что могу спасти христианство. Церковь гибнет, Эдуард. И не только наша возлюбленная ветвь Священного Древа, но все его побеги, все церкви и секты. Тело Христово умирает так же неотвратимо, как и мое несчастное, отслужившее свой срок тело. Ты и я – мы всегда знали об этом. Мы знали об этом на Армагасте, где кроваво-красное солнце освещало только прах и смерть. Мы знали об этом еще в колледже, тем прохладным зеленым летом, когда приносили наши первые обеты. И на тихих лужайках в Вильфраншсюр-Соне, где играли в детстве. Мы знаем об этом сейчас.
День догорел; я пишу при слабом свете, падающем из окон салона на верхней палубе. Звезды складываются в незнакомые созвездия. Срединное море светится по ночам болезненно-зеленым фосфорическим светом. На горизонте к юго-востоку виднеется какая-то темная масса. То ли надвигается шторм, то ли это просто следующий остров – третий из девяти «хвостов». (В какой мифологии фигурирует кошка с девятью хвостами? Я не знаю ни одной.)
Я молюсь Богу, чтобы это был остров, а не шторм. Молюсь ради той птицы (птицы ли?), которую видел сегодня.
День 28-й
Я прожил в Порт-Романтике восемь дней и видел за это время трех покойников.
Первый – труп на пляже; раздутый, мучнисто-белый, он лишь отдаленно напоминал человека. Его выбросило на плоский илистый берег за причальной башней в первый же вечер моего пребывания в городе. Дети кидали в него камнями.
Второй мертвец… его вытащили из обгоревших развалин газовой мастерской в бедном районе города недалеко от моей гостиницы. Труп обгорел до неузнаваемости и весь сморщился от жара. Руки его были плотно прижаты к корпусу, а ноги полусогнуты, как у боксера-профессионала. Вечная поза обгоревших. Целый день я ничего не ел и должен со стыдом признаться – когда в воздухе запахло обгорелой плотью, меня едва не стошнило.
Третий был убит буквально в трех метрах от меня. Я только что вышел из гостиницы и углубился в лабиринт покрытых грязью мостков, которые в этом жалком городишке заменяют тротуары, как вдруг раздались выстрелы. Человек, шедший в нескольких шагах впереди меня, покачнулся – мне даже показалось, что он просто оступился, – затем обернулся ко мне с выражением недоумения на лице и рухнул боком в грязь.
В него стреляли три раза. Две пули угодили в грудь, а третья – в лицо, как раз под левым глазом. Невероятно, но когда я подбежал к нему, он все еще дышал. Тогда я, разумеется, и не думал об этом. Достав из сумки епитрахиль и флакон со святой водой (сколько времени я носил его с собой без дела?), я приступил к соборованию. В толпе никто не возражал. Раненый шевельнулся, захрипел, словно собираясь что-то сказать, – и скончался. Толпа рассеялась прежде, чем унесли тело.
Человек этот был средних лет, с волосами песочного цвета и слегка полноватый. Никаких документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось. Не нашлось даже универсальной карточки или комлога. В кармане обнаружили только шесть серебряных монет.
Сам не понимаю почему, но я решил провести рядом с телом весь остаток дня. Доктор, маленький циничный человечек, позволил мне присутствовать при вскрытии. Подозреваю, ему просто хотелось поговорить.
– Вот чего она стоит, – сказал он, вскрывая живот бедняги. Брюшная полость раскрылась, словно розовый ранец; доктор растягивал складки кожи и мускулы и закреплял их, как клапаны палатки.
– Кто это «она»? – спросил я.
– Жизнь, – ответил доктор, снимая кожу с лица трупа, как маску. – Его жизнь. Или ваша. Или моя. – Вокруг рваного отверстия над скулой бело-красные жгуты мышц уже посинели.
– Жизнь стоит большего, – возразил я.
Доктор оторвался от своего мрачного занятия и с улыбкой посмотрел на меня.
– В самом деле? – спросил он. – Ну-ка, ну-ка, и чего же она стоит? – Он поднял сердце несчастного, словно прикидывая на руке его вес. – На рынках Сети, может, и дали бы кое-что за этот товар. Там хватает таких, кто слишком беден, чтобы держать клонированные части тела про запас, но достаточно богат, чтобы умирать всего лишь из-за отсутствия подходящего сердца. Но здесь это просто требуха.
– Нет, это нечто большее, – возразил я, хотя и не был уверен в своей правоте. Я вспомнил похороны Его Святейшества Папы Урбана XV, которые проходили незадолго до моего отъезда с Пасема. Как было принято еще до Хиджры, тело не бальзамировали. Перед тем как положить покойного в простой деревянный гроб, его отнесли в преддверие главной базилики. Помогая Эдуарду и монсеньору Фрею облачать закостеневший труп, я обратил внимание на его кожу, пошедшую коричневыми пятнами, и провалившийся рот.
Доктор пожал плечами и закончил вскрытие. Затем последовали несложные формальности. Ничего подозрительного не обнаружили. Не было установлено мотивов убийства. Описание убитого отослали в Китс, а самого его похоронили на следующий день на кладбище для нищих, расположенном между заиленным побережьем и желтой сельвой.
Порт-Романтик представляет собой скопище сооружений из желтого плотинника, соединенных лабиринтами мостков и лесенок. Городские кварталы тянутся далеко в глубь заливаемых морем равнин, окружающих устье реки Кэнс. В том месте, где река впадает в залив Тоскахай, она разливается почти на два километра в ширину, но лишь некоторые из ее протоков судоходны. Грунт черпают днем и ночью. Каждую ночь я лежу без сна в моем дешевом номере и через открытое окно слышу глухие удары молотковых землечерпалок. Они стучат, словно сердце этого города, полное зла, а доносящийся издалека шорох прибоя – это его влажное дыхание. Ночью я прислушиваюсь к нему, и перед глазами у меня встает лицо того убитого.
Здешние компании отправляют людей и товары на большие плантации в глубине материка через аэропорт, расположенный на краю города. К сожалению, не хватает денег на взятку, а без взятки туда не пустят. Вернее, я мог бы попасть на борт скиммера сам, но мне нечем заплатить за провоз трех моих ящиков, а там все медицинское и научное оборудование. Все же у меня есть искушение попробовать. Моя экспедиция к бикура представляется мне сейчас как никогда абсурдной. Лишь необъяснимая потребность попасть к месту назначения и какая-то мазохистская решимость выполнить до конца все условия моего добровольного изгнания побуждают меня отправиться в путешествие вверх по реке.
Через два дня вверх по Кэнсу отправляется речное судно. Я взял билеты и завтра переправлю на борт свои ящики. С Порт-Романтиком я расстаюсь без сожаления.
День 41-й
«Импортик Жирандоль» медленно продвигается вверх по реке. Два дня назад мы отплыли от Пристани Мелтона и с тех пор не видели никаких признаков человека. Сельва сплошной стеной прижимается к речному берегу. Там, где река сужается до тридцати – сорока метров, деревья нависают над водой. Проникая сквозь густую листву пальм, вознесшихся на восемьдесят метров над коричневой гладью Кэнса, солнечный свет становится желтым и густым, как растопленное сливочное масло. Я сижу на ржавой жестяной крыше посреди баржи и вглядываюсь изо всех сил, чтобы не пропустить своей первой встречи с деревом тесла. Рядом сидит старик Кэди. Вот он перестал строгать свою деревяшку и плюнул за борт сквозь дырку в зубах. Старик надо мной смеется. «В этих местах нет огненных деревьев, – говорит он. – А если б они тут были, то уж наверняка лес бы выглядел совсем по-другому. Чтобы увидеть тесла, тебе надо ехать в Пиньоны. А мы, падре, еще не выбрались из дождевых лесов».
Дожди здесь начинаются каждый день после полудня. Впрочем, дождь – это мягко сказано. Каждый день на нас обрушивается настоящий потоп. Он закрывает берега и с оглушительным шумом колотит по жестяным крышам барж, замедляя наше и без того медленное продвижение настолько, что порою кажется – мы стоим на одном месте. Каждый день после полудня река буквально становится на дыбы. Такое впечатление, что судно должно взобраться на этот водопад, чтобы двигаться дальше.
«Жирандоль» – это древний плоскодонный буксир, к которому по бортам пришвартованы пять барж. Они напоминают оборванных детей, цепляющихся за юбку усталой матери. Три двухъярусные баржи используются для перевозки грузов. Товары, упакованные в тюки, предназначены для обмена или продажи на плантациях и в поселениях, разбросанных кое-где вдоль реки. Другие две представляют собой некое подобие жилья. На них местные жители путешествуют вверх по реке. (Я, впрочем, подозреваю, что некоторые из пассажиров живут на баржах постоянно.) В моем закутке имеется даже грязный матрас. Он лежит прямо на полу. По стенам ползают какие-то насекомые, похожие на ящериц.
После дождей все собираются на палубах и любуются вечерним туманом, который поднимается над остывающей рекой. Большую часть дня воздух очень горяч и полон мошкары. Старый Кэди сообщил мне, что я опоздал. По его словам, я не успею подняться через огненные леса, пока деревья тесла «спят». Ну, это мы еще увидим.
Сегодня вечером клочья тумана поднимаются словно души умерших, доселе спавшие под темной поверхностью реки. Последние послеполуденные облачка рассеиваются между верхушками деревьев, и в мир возвращаются краски. Желтая чаща начинает просвечивать шафраном, а затем – через коричневато-желтый – медленно становится темно-коричневой и погружается во тьму. На борту «Жирандоли» старый Кэди зажигает фонарики и светильники, свисающие с осевшего второго яруса, и тотчас, будто не желая уступать, темная сельва начинает светиться слабым фосфоресцирующим светом – светом гниения. А на самом верху перепархивают с ветки на ветку птички-огневки и многоцветная паутина.
Небольшая луна Гипериона сегодня вечером не видна, но плотность космической пыли на его орбите гораздо выше, чем у других планет, расположенных так близко от своего светила, и потому ночное небо постоянно исчеркано светящимися следами метеоров. Сегодняшний вечер принес исключительно обильный урожай падающих звезд. Там, где река становится шире, в просвете между деревьями открывается небо, все усыпанное сверкающими искрами.
Огромной сетью они сплетают воедино все светила небесные. Если долго смотреть на них, начинают болеть глаза. Я смотрю вниз, на реку, и любуюсь их отражениями в черной воде.
На востоке виднеется яркое зарево. Старик Кэди говорит, что это орбитальные зеркала – их используют для освещения крупных плантаций.
Пока еще слишком тепло, чтобы возвращаться в каюту. Я расстилаю тонкую подстилку на крыше баржи и наблюдаю за небесным представлением. Местные жители, собравшись кучками, поют на своем жаргоне (который я до сих пор даже не пытался выучить). Я думаю о далеких бикура, и странное беспокойство овладевает мною.
Какое-то животное кричит в лесу голосом испуганной женщины.
День 60-й
Прибыл на плантацию Пересебо. Заболел.
День 62-й
Я очень болен. Меня знобит. Весь вчерашний день меня рвало черной слизью. Оглушительный ливень. По ночам орбитальные зеркала освещают облака, и от этого все небо как бы в огне. У меня очень сильная лихорадка.
За мной ухаживает одна женщина. Она даже моет меня, и я слишком болен, чтобы испытывать стыд. Волосы у нее темнее, чем у большинства местных жителей. Она почти ничего не говорит. Темные, нежные глаза. О Боже, заболеть так далеко от дома!
День
она ждет шпионит… грехприходитсдождем… тонкая рубашка
она искушать меня… знает ктоя… моя кожа горит в огне… тонкий хлопок, соски – темные на белом… я знаю ктоони они наблюдают… я слышу их голоса… ночью они обмывают меня ядом… жгут мое тело… думают я не знаю но я слышу их голоса даже в дождь когда крики уходят уходят уходит.
Моя кожа почти исчезла под нею все красное чувствую дырку в щеке. когда я найду пулю яее выплюну. agnusdeiqitolispecattamundi miserer nobis misere nobis miserere.[8]
День 65-й
Благодарю тебя, Боже милостивый, за избавление от болезни.
День 66-й
Сегодня побрился. Был в состоянии принять душ.
Семфа помогла мне приготовиться к визиту здешнего начальника. Я ожидал увидеть этакого грубоватого здоровяка – вроде тех рабочих-сортировщиков, что проходят мимо окна. Чиновник оказался негром, невысоким и молчаливым. Он слегка шепелявил, а вообще был очень любезен. Я опасался, что придется платить за лечение и уход, но он успокоил меня, объяснив, что платить не надо. Более того, он обещал дать мне проводника, знающего дорогу в высокогорья. Отправляться туда, по его словам, поздновато, но если я буду готов через десять дней, то сумею проскочить к Разлому прежде, чем деревья тесла совсем «проснутся».
Когда он уехал, я немного побеседовал с Семфой. Ее муж погиб здесь три местных месяца назад во время несчастного случая при уборке урожая. Сама Семфа приехала из Порт-Романтика. Брак с Микелем был для нее спасением, и она решила остаться здесь. Подрабатывает где придется – только бы не возвращаться назад. Я не осуждаю ее.
После массажа я засну. Последнее время мне часто снится моя мать.
Десять дней. Я буду готов через десять дней.
День 75-й
Прежде чем мы с Туком отправились в путь, я сходил на матричные поля попрощаться с Семфой. Она говорила мало, но по ее глазам я видел, что ей грустно расставаться со мной. Как-то инстинктивно я благословил ее и поцеловал в лоб. Тук стоял поблизости, улыбаясь и приплясывая. Затем мы зашагали прочь, ведя в поводу двух вьючных бридов.
Надсмотрщик проводил нас до того места, где кончалась нормальная дорога, и, пока мы не скрылись в узкой аллее, прорубленной в золотистой листве, махал нам вслед рукою.
Domine, dirige nos.[9]
День 82-й
Неделю мы шли по тропе – да какая там тропа! – по непроходимой желтой сельве, а потом из последних сил карабкались по склону плато Пиньон, который становился все круче и круче. Сегодня утром мы выбрались на скалистое плоскогорье. Отсюда превосходно просматриваются бескрайние пространства сельвы, уходящей к Клюву и Срединному морю. Высота плато здесь достигает трех тысяч метров над уровнем моря. Вид весьма впечатляющий. Тяжелые дождевые облака простерлись под нами до холмов, кольцом окаймляющих плато Пиньоновых гор, но сквозь прорехи в этом серо-белом покрывале видна река Кэнс, лениво несущая свои воды к Порт-Романтику и дальше, к морю, желтые пятна леса, который мы только что миновали, а далеко на востоке – нечто анилиново-красное. Тук уверяет, что это нижний ярус фибропластовых полей возле Пересебо.
До позднего вечера мы продвигались вперед и вверх. Тук явно обеспокоен тем, что мы можем оказаться в огненных лесах, когда деревья тесла «проснутся». Я пытаюсь держаться, тяну под узцы тяжело нагруженного брида и молюсь про себя, чтобы Бог помог мне забыть о боли, страхе и сомнениях.
День 83-й
Собрались до рассвета и тут же выступили в путь. В воздухе чувствуется запах дыма и пепла.
Изменения в характере растительности здесь, на плато, поразительны. Нет больше никаких признаков вездесущего плотинника и густолиственной челмы. В среднем поясе горы господствуют вечнозеленые и вечноголубые растения. Вскарабкавшись выше, мы вошли в заросли триаспенов и ползучих сосен-мутантов. И наконец, перед нами открылся собственно огненный лес – рощи высоких прометеев, неистребимые заросли стелющегося феникса и округлые стебли янтарных факельников. Иногда нам встречаются непроходимые заросли белого волокнистого бестоса, по поводу которых Тук выразился весьма картинно: «Тут, видать, великанов хоронили, а закопать-то как следует поленились. Вот елдаки наружу и торчат». Мой проводник за словом в карман не лезет.
Было далеко за полдень, когда мы увидели первое дерево тесла. Полчаса мы брели сквозь лес по земле, покрытой слоем пепла, стараясь не наступать на нежную поросль феникса и огнехлеста, которая уже пробивалась кое-где сквозь черную от сажи почву. Внезапно Тук остановился и указал куда-то пальцем.
Дерево тесла находилось примерно в полукилометре от нас. Высотою оно было по меньшей мере метров сто – раза в полтора выше самых высоких прометеев. Вблизи кроны ствол раздувался, образуя характерное утолщение. Там, в этой луковице, прячутся его аккумуляторы. Еще выше отливали серебром на фоне чистого лазурно-зеленого неба радиальные ветви, с которых свисало множество лиан. Элегантностью очертаний растение напоминало минарет, который я видел в Новой Мекке, но минарет, легкомысленно разукрашенный мишурой.
– Пора нам, едрена вошь, отсюдова линять, – проворчал Тук. – Скотину только загубим. Обратно и своя жопа целей будет.
Он принялся настаивать, чтобы мы тут же надели все снаряжение, предназначенное для хождения по огненным лесам. Остаток дня и вечер мы прошагали в осмотических масках и толстых резиновых сапогах, обливаясь потом под гамма-костюмами из многослойного, похожего на кожу материала. Бриды вели себя нервно, при малейшем шорохе они настороженно вскидывали свои длинные уши. Даже через маску я ощущал запах озона. Запах этот напомнил мне детство: Вильфранш, Рождество, я играю с подаренным электрическим поездом…
В тот вечер мы разбили лагерь как можно ближе к зарослям бестоса. Тук показал мне, как правильно огородить лагерь кольцом из шестов-громоотводов. Все время он что-то мрачно бормотал себе под нос и то и дело вскидывал голову, осматривая вечернее небо в поисках облаков.
Как бы то ни было, в эту ночь я собираюсь спать!
День 84-й
4 часа.
Матерь Божья! Настоящий конец света!
Это продолжалось три часа.
Вскоре после полуночи загремел гром. Поначалу все это напоминало обычную грозу, и, вопреки разуму, мы с Туком высунулись из палатки, чтобы полюбоваться фейерверком. Я привык к муссонным бурям на Пасеме и потому в первый час моих наблюдений не обнаружил ничего необычного. Только стоявшие в отдалении деревья тесла (они, несомненно, накапливали атмосферное электричество) слегка тревожили меня. А затем эти сатанинские деревья начали тлеть и выбрасывать накопленную энергию обратно. Наступил подлинный Армагеддон. (Кстати, как раз тогда, несмотря на страшный шум, меня стало клонить ко сну.)
По меньшей мере сотня электрических дуг запылала в первые же десять секунд этой огненной судороги. Прометей, стоявший метрах в тридцати от нас, взорвался, пылающие головни разлетелись на полсотни метров вокруг. Наши громоотводы тлели и шипели, но одну за другой отклоняли электрические дуги в сторону. Над лагерем и вокруг него бушевала бело-голубая смерть. Тук что-то кричал, но человеческий голос тонул в этом хаосе света и шума. Совсем рядом с тем местом, где мы привязали бридов, занялись заросли ползучих фениксов. Хотя мы стреножили животных и завязали им глаза, одно из них, испугавшись, сорвалось с привязи и ринулось через кольцо громоотводов. В тот же миг с ближайшего дерева тесла к нему устремилось с полдюжины молний. Я мог бы поклясться, что в течение какой-то безумной секунды видел сквозь кипящую плоть тлеющий скелет животного, затем оно взвилось высоко в воздух – и исчезло.
В течение трех часов мы были свидетелями подлинного конца света. Два шеста упали, но остальные восемь все еще делали свое дело. Мы с Туком укрылись в палатке. Несмотря на духоту, в осмотических масках все же можно было дышать: они фильтровали из перегретого дымного воздуха достаточно кислорода. Только отсутствие подлеска и то мастерство, с которым Тук выбрал место для стоянки, позволили нам уцелеть. Вблизи палатки не было предметов, притягивающих молнии; кроме того, ее защищали заросли бестоса. Это нас и спасло. Да еще восемь шестов из металлокерамики, отгородивших нас от небытия.
– А шесты-то держат! – ору я изо всех сил, пытаясь перекричать шипение, треск и грохот бури.
– Час-два, можа, и продержут, – ворчит в ответ мой проводник. – А как, едрена корень, потекут, тут нам и разец.
Я соглашаюсь кивком головы и прихлебываю тепловатую воду через клапан осмотической маски. Если мне суждено выжить этой ночью, я буду вечно благодарить Бога за то, что Он великодушно позволил нам увидеть все это.
День 87-й
Вчера в полдень мы с Туком миновали северо-восточную кромку тлеющего огненного леса. Тут же у небольшого ручья разбили лагерь и проспали восемнадцать часов кряду – компенсация за три бессонные ночи и два изнурительных дня, когда мы без отдыха шли через чудовищное пламя, золу и пепел. По пути к горному хребту, служившему естественной границей леса, мы наблюдали, как на месте зарослей, выгоревших за последние два дня, возрождается новая жизнь. Все вокруг было буквально усеяно стручками, семенами и ростками всевозможных растений. Пять громоотводов еще функционировали, правда, ни Тук, ни я не горели желанием проверить это на практике. Уцелевший в ту ночь вьючный брид все-таки пал. Произошло это как раз в тот момент, когда с его спины снимали тяжелый груз.
На рассвете меня разбудил шум воды. Я прошел около километра на северо-восток вдоль небольшого ручья. Шум становился все сильнее, но внезапно ручей… исчез.
Разлом! Я почти забыл о цели нашей экспедиции. Спотыкаясь в утреннем тумане, я прыгал по мокрым камням вдоль ручья, становившегося все шире и шире. Вот я совершил последний прыжок и закачался, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. Восстановив равновесие, я посмотрел прямо вниз. Подо мной был водопад. Он низвергался в туман с высоты почти в три километра. Каменистое русло реки лежало где-то глубоко внизу.
В отличие от легендарного Гранд-Каньона на Старой Земле или Трещины Мира на Хевроне, Разлом возник отнюдь не вследствие подъема плато. Хотя океаны Гипериона не знают покоя, а континенты похожи на земные, в тектоническом отношении он абсолютно мертв. В этом смысле он более схож с Марсом, Лузусом или Армагастом. Дрейфа континентов на нем нет. Но, подобно Марсу и Лузусу, Гиперион страдает от последствий Великих Оледенений. Пока звездная система Гипериона была бинарной, ледниковые периоды наступали с периодичностью в тридцать семь миллионов лет. Комлог сравнивает Разлом с долиной Маринер на Марсе, какой она была до терра-формизации планеты. Эти структуры порождены ослаблением коры, которая на протяжении целых геологических эпох периодически то замерзала, то оттаивала. В теплые периоды ее постепенно подтачивали изнутри подземные реки, такие, как Кэнс. Наконец, лишенный опоры гигантский участок суши провалился под собственной тяжестью, образовав этот шрам, разрубивший крыло орла – гористую часть Аквилы.
Вскоре ко мне присоединился запыхавшийся Тук. Я разделся и, наскоро выстирав пропахшие гарью и дымом сутану и дорожную одежду, долго плескался в холодной воде. Тук принялся что-то горланить, ему вторило эхо (до Северной стены Разлома отсюда всего метров шестьсот), а я от души хохотал. Выступ, на краю которого мы находились, гигантским козырьком нависает над Южной стеной. Когда смотришь вниз, кажется, он вот-вот рухнет, но мы решили, что скала, миллионы лет противостоявшая гравитации, продержится еще пару часов, пока мы резвимся тут, словно дети, которых отпустили с уроков: купаемся, загораем и до хрипоты перекрикиваемся с эхом. Тук признался, что ему ни разу не доводилось пройти весь огненный лес из конца в конец. Более того, он не знал ни одного человека, которому это удалось бы в «активный» сезон. Деревья тесла совсем «проснулись», и теперь, чтобы вернуться, ему придется ждать по меньшей мере три месяца. Мне показалось, что он говорит об этом без особого сожаления, и я, честно говоря, был только рад. Парень мне нравился.
Для лагеря мы выбрали место возле ручья, метрах в ста от края карниза, и после полудня перетащили сюда снаряжение. Разборку пенолитовых ящиков с научным оборудованием мы оставили на завтра и сложили их пока штабелем.
К вечеру похолодало. После ужина, перед самым заходом солнца, я надел термическую куртку и отправился к краю каменного выступа юго-западнее того места, где я в первый раз вышел к Разлому. Вид отсюда был незабываемый. От невидимых водопадов, низвергавшихся в реку далеко внизу, поднимался туман. Завеса водяной пыли находилась в постоянном движении, дробя лучи заходящего солнца, которое сейчас окружало не меньше десятка сверкающих фиолетовых шаров и вдвое больше радуг. Радужные полосы возникали у меня на глазах, поднимаясь затем к темнеющему небосводу и исчезая. По мере того как остывающий воздух заполнял трещины и каверны плато и вытеснял теплый, который устремлялся вверх, увлекая за собой листья, сучья и клочья тумана, в Разломе зародился странный звук, крепнущий с каждой минутой. Казалось, сама планета взывает голосами каменных великанов, которым аккомпанируют гигантские бамбуковые флейты и церковные органы размером с храм, и все эти голоса, от тончайшего сопрано до самого низкого баса, сливались воедино в гармоничном хоре. Поразмыслив, я решил, что воздушные потоки, проносясь сквозь источенные трещинами скалы и подземные пустоты, генерируют множество гармоник, создавая иллюзию человеческих голосов. Но в конце концов я отбросил все размышления и просто слушал, как Разлом поет прощальный гимн солнцу.
Когда я возвращался к палатке, ориентируясь по светлому пятну биолюминесцентного фонаря, вечернее небо прочертили сверкающие трассы метеоров, а с юга и запада донесся отдаленный грохот огненных лесов – словно артиллерийская канонада какой-то древней войны, что вели на Старой Земле еще до Хиджры.
Забравшись в палатку, я включил было комлог, но на всех частотах трещали статические разряды. Даже если примитивные спутники связи, обслуживающие фибропластовые плантации, захватывают район плато, пробиться сквозь помехи, создаваемые деревьями тесла, может лишь узкополосный лазерный передатчик, ну и, конечно, генератор мультилинии. На Пасеме мало кто носит с собой персональный комлог, но там всегда можно подключиться к инфосфере. Здесь выбора нет.
Я сижу, слушаю последние ноты вечерней песни ветра, смотрю на небо – одновременно темное и сверкающее – и улыбаюсь, когда из спального мешка доносятся всхрапывания Тука. «Что ж, – думаю я, – если таково мое изгнание – я согласен».
День 88-й
Тука больше нет. Его убили.
Я наткнулся на его тело, когда утром вышел из палатки. Он спал снаружи – метрах в четырех от меня, не более. Он так и сказал: хочу спать под звездами.
И вот, пока он спал, убийцы перерезали ему горло. Я не слышал никаких криков. Однако мне снился сон: будто я лежу в лихорадке и Семфа ухаживает за мной. Ее холодные руки прикасаются к моей груди, к шее, трогают крест, который я ношу с детства… Я стоял над телом Тука и не мог оторвать взгляд от широкого темного круга там, где его кровь впиталась в девственную почву Гипериона. При мысли о том, что мой сон – нечто большее, чем сон, и чьи-то руки действительно прикасались ко мне этой ночью, я содрогнулся.
Признаюсь честно: моя реакция на случившееся была недостойна священника, я вел себя как старый дурак. Соборование я произвел, но затем мною овладел панический страх; покинув тело несчастного Тука, я принялся рыться в багаже в поисках оружия и достал мачете, которым пользовался в сельве, и низковольтный мазер, предназначенный для охоты на мелкую дичь. Но хватит ли у меня решимости использовать оружие против человеческого существа, пусть даже в целях самозащиты? Все еще охваченный страхом, я схватил мачете, мазер и электронный бинокль и бросился к большому валуну около Разлома, с которого осмотрел все окрестности в поисках хоть каких-то следов убийц. Ничего. Лишь паутина колыхалась на ветру, да в кронах деревьев копошились крохотные зверьки, которых мы видели накануне, но сам лес показался мне каким-то уж слишком густым и темным. Вдоль края Разлома громоздились сотни террас, выступов и каменных балконов – прекрасное укрытие для банды дикарей. Да что там – целая армия могла бы спрятаться среди этих утесов и вечных туманов.
После получаса бесплодных, бессмысленных и трусливых метаний я вернулся к месту нашей лагерной стоянки и приготовил тело Тука к погребению. Чтобы выкопать достаточно глубокую могилу в каменистой почве, потребовалось больше двух часов. Засыпав ее и окропив землю святой водой, я задумался: что же я могу сказать об этом грубоватом, смешном человечке, который был моим проводником?
– Упокой, Господи, раба твоего, – стыдясь собственного лицемерия, пробормотал я наконец, чувствуя, что слова мои падают в пустоту. – Прими душу его. Аминь.
Вечером я перенес свой лагерь на полкилометра к северу. Палатку я поставил на открытом месте, а сам завернулся в одеяло и втиснулся под большой валун метрах в десяти от нее. Мачете и мазер лежали под рукой. После похорон Тука я проверил припасы и ящики с оборудованием. Ничего не пропало, за исключением оставшихся шестов-громоотводов. Тут же мне пришло в голову, что кто-то пробрался за нами следом через огненный лес, чтобы убить Тука, а меня оставить здесь без надежды вернуться. Но к чему такие ухищрения? Любой обитатель плантаций мог прикончить нас во время ночлега в сельве или еще лучше – лучше, конечно, с точки зрения убийцы – в глубине огненного леса, где никто не удивился бы двум обугленным трупам. Значит, остаются бикура. Мои подопечные-дикари.
Я стал прикидывать, нельзя ли пройти через огненный лес без громоотводов, но вскоре отверг эту мысль. Оставшись здесь, я имею шанс уцелеть, а отправившись сейчас в путь, погибну наверняка.
Деревья тесла «уснут» через три месяца. Сто двадцать местных суток. Каждые сутки – двадцать шесть часов. Вечность…
Боже милостивый, почему это выпало на мою долю? И почему меня пощадили прошлой ночью? Меня ведь все равно убьют, этой ли ночью или следующей…
Я лежу в темной расщелине, прислушиваюсь к завываниям ночного ветра в Разломе, таким жутким сейчас, и молюсь. Все небо усеяно кроваво-красными искрами метеоров.
Слова мои падают в пустоту…
День 95-й
Ужас прошлой недели словно отошел на второй план. Даже страх ослабевает и становится чем-то обычным, когда спадает напряжение.
С помощью мачете я срубил несколько небольших деревьев и соорудил себе хижину. Крышу и фасад я затянул гамма-плащами, а щели между бревнами замазал илом. Роль задней стенки выполняет огромный валун. Я разобрал ящики со снаряжением и кое-что вынул. Впрочем, едва ли мне придется использовать эти вещи.
Я начал заготавливать пищу впрок, ибо мой запас концентратов тает на глазах. В соответствии с идиотским графиком, составленным в свое время на Пасеме, я должен уже несколько недель жить среди бикура, выменивая продовольствие на всякую мелочь. Впрочем, какая разница? Кроме легко разваривающихся корней челмы, в мой рацион входит с полдюжины разных видов ягод и крупных плодов, которые я здесь нашел и которые, если верить комлогу, являются съедобными. Ошибся пока я всего лишь раз, но всерьез: всю ночь мне пришлось просидеть на корточках у края оврага.
Я без устали меряю шагами свой клочок земли – как те пелопы, которых на Армагасте держат в клетках и которых так высоко ценят тамошние князьки. Огненные леса в полном порядке и до них рукой подать: на юге – километр, на западе – четыре. По утрам, словно соперничая с туманом, небо застилают клубы дыма. Лишь участки, почти сплошь заросшие бестосом, скалистая вершина плато да похожие на черепах крутые горные хребты, высящиеся на северо-востоке, сдерживают натиск деревьев тесла.
К северу плато расширяется, и ближе к Разлому заросли становятся гуще. Они тянутся километров на пятнадцать, дальше путь преграждает овраг. Он втрое мельче и вдвое уже, чем сам Разлом. Вчера я достиг самой северной точки и с тяжелым чувством заглянул через зияющую пропасть на ту сторону. Надо будет как-нибудь попробовать обойти ее с востока, поискать место для переправы. Но, судя по зарослям феникса на той стороне и завесе дыма вдоль северо-восточного горизонта, там скорее всего такие же каньоны, заросшие челмой, и огненные леса. Они видны и на снятой с орбиты карте, которую я ношу с собой.
Сегодня вечером, когда ветер заиграл реквием на своих эоловых арфах, я навестил могилу Тука. Я преклонил колени и попытался молиться, но ничего не получилось.
У меня ничего не получилось, Эдуард. Я пуст, как те поддельные саркофаги, которые мы с тобой десятками выкапывали в безжизненных песках возле Тарум-Бель-Вади.
Дзен-гностики сказали бы, что эта пустота – добрый знак; она предвещает выход на новый уровень сознания, интуиции и опыта.
Merde.
Я пуст, и моя пустота… не более чем пустота.
День 96-й
Я нашел бикура. Или, вернее, они нашли меня. Я запишу, что успею, пока они не пришли меня «будить» (для них я сейчас «сплю»).
Сегодня я уточнял свою карту километрах в четырех к северу от лагеря, как вдруг от полуденной жары туман стал рассеиваться, и на своей, ближайшей, стороне Разлома я заметил ряд террас, которых раньше увидеть не мог. С помощью электронного бинокля я осмотрел их. Террасы представляли собою подобие покрытых дерном лестниц – одни изгибались спиралью, другие уступами поднимались вверх. Внезапно я осознал, что вижу жилища, построенные человеком: около дюжины примитивных лачуг, сооруженных из вязанок челмы, камней и дерна. Да, то бесспорно были творения человеческих рук.
Я стоял в нерешительности и, не отрывая бинокля от глаз, прикидывал, что лучше: сразу спуститься на террасы и встретиться лицом к лицу с их обитателями или вернуться пока в лагерь, как вдруг по спине у меня пополз холодок, который всегда безошибочно подсказывает человеку, что он уже не один. Опустив бинокль, я медленно обернулся. Это были бикура – по меньшей мере человек тридцать. Они стояли полукругом, отрезав меня от леса.
Не знаю, что я ожидал увидеть, быть может, голых дикарей со свирепыми лицами и в ожерельях из зубов. А возможно, я был уже наполовину готов встретить тех заросших волосами отшельников, которых видят иногда путешественники в Моисеевых горах на Хевроне. Как бы там ни было, настоящие бикура не соответствовали ни одному из этих стереотипов.
Люди, которые столь неслышно приблизились ко мне, были невысоки ростом (самый высокий – мне по плечи) и облачены в груботканые темные одежды, скрывавшие все тело от шеи до пят. Казалось, они не шли, а скользили по неровной земле, подобно призракам. Издали они напомнили мне процессию иезуитов в Новом Ватикане – только очень малорослых.
Я чуть не рассмеялся, но вовремя сообразил, что такая реакция может быть воспринята как проявление страха. Впрочем, бикура не проявляли никаких признаков агрессивности. У них не было оружия, их маленькие руки были пусты. Такими же пустыми были их лица.
Эти лица трудно описать в двух словах. Они лысые. Все до одного. Сплошное облысение, полное отсутствие растительности на лицах и свободное платье, ниспадающее до земли, делали мужчин и женщин практически неотличимыми. Передо мной стояло не менее пятьдесяти человек – все примерно одного возраста, где-то между сорока и пятьюдесятью. Лица без единой морщинки, чуть желтоватые (подозреваю, причина в том, что они употребляют в пищу челму и другие местные растения, содержащие минеральные красители).