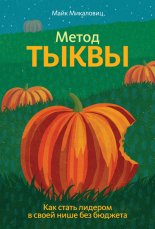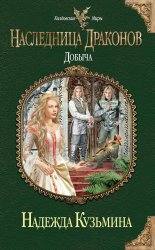Иосиф Сталин. Гибель богов Радзинский Эдвард

– Еще чего! Тревожить Ивана Грозного? Пошли его, Ягодка! – но потом добавил: – Вечером позвони, подумаю…
И вот в тот декабрьский день мы вышли с Кобой на прогулку по Кремлю.
Личную охрану его в те годы, как я уже писал, возглавлял некто Карл Паукер. Был он до Революции парикмахером в будапештском Театре оперетты. Попал в русский плен во время мировой войны. Далее – Октябрьская революция, ЧК, потом блистательная карьера…
Я думаю, он быстро понял Кобу – его страхи бывшего террориста. И теперь все время придумывал что-то новенькое для безопасности любимого Вождя.
Я находился в Германии, когда в ноябре тридцать первого года на Кобу было совершено покушение, кажется, английским шпионом русского происхождения.
Никто на Лубянке не мог мне толком рассказать, что случилось. Все, касаемое этого события, тотчас засекретили.
Когда я начал расспрашивать Кобу, он грубо прервал меня:
– Мерзавца повесили за яйца… и хватит об этом!
Я уверен, что никакого покушения не было. Лжепокушение организовал Паукер.
Он направил донесение о покушении в Политбюро. Политбюро тотчас приняло желанное постановление: «Пешие хождения по Москве товарищу Сталину прекратить».
Постепенно заботливый Паукер ввел беспрецедентные меры безопасности. Отныне Кобу охраняли сотни сотрудников.
Когда он выезжал из Кремля, весь маршрут объявлялся на военном положении. Движение автомобиля контролировали патрульные машины, на всём пути следования стояли переодетые агенты. Рядом с Кобой в машине, готовясь защитить его грудью, всегда сидел Паукер.
Паукер добился большего: постановлением Политбюро Кобе запретили ходить без охраны даже по Кремлю. Коба бунтовал, обзывал Паукера «идиотом». Это была такая игра: Паукер играл роль старого заботливого дядьки при смельчаке Кобе, по-мальчишески пренебрегающем опасностями. И Коба соглашался на «весь этот идиотизм» как бы по принуждению, из-за постановления Политбюро. Что делать, Генеральный секретарь партии Коба обязан подчиняться партийной дисциплине!
Мы шли по совершенно пустому Кремлю (теперь Кремль становился пустым, когда Коба выходил на прогулку). Ясное утро, морозец. В длинной кавалерийской шинели – Коба. Рядом я – в модном осеннем французском пальто. Я сбрил усы по требованию Кобы, отрастил эспаньолку.
Спереди, сзади и вокруг нас – охрана. Прогулку возглавлял сам Карл Паукер. Несмотря на мороз, он был в наброшенной на плечи шинели, в мундире, затянут в корсет. На груди – орден Ленина. Шагал, удало покачивая толстым задом.
– Педик, – прыснул в усы Коба, – но забавный.
Паукер одновременно с руководством охраной исполнял роль шута. Он, довольно чисто говоривший по-русски, всегда разговаривал при Кобе со смешным акцентом. И еще уморительно передразнивал людей…
Обычно во время прогулки по Кремлю Коба проходил мимо закрытого Архангельского собора, где похоронены московские цари, и дальше – вдоль зубчатой стены над Москвой-рекой.
На этот раз, к моему удивлению, Архангельский собор был открыт. Как всегда, ничего мне не объясняя, Коба вошел туда. Внутри – холод, неприятный электрический свет, иконы с погасшими лампадами и белокаменные надгробия.
У надгробий стоял навытяжку комендант Кремля.
– Все вернули обратно? – спросил Коба.
– Так точно, товарищ Сталин, не извольте беспокоиться. Останки уложили аккуратно в саркофаг. Сам мужчина, который брал череп, все проверил. Он ждет вас внизу.
Мы прошли в церковный придел. Здесь комендант открыл тяжелую кованую дверь. И двинулся впереди с фонарем. За ним – Паукер и окруженный охранниками Коба. За охранниками – я.
За дверью начиналась лестница, ведущая в подклеть собора. На каждой ступеньке, вжимаясь в стену, стояли офицеры НКВД с фонарями.
Коба начал спуск. Бросил мне, не оборачиваясь:
– Спускайся, чего встал?
Изумленный странным маршрутом, я последовал за процессией.
Сошли по каменным ступеням в подклеть. Она показалась мне огромной. Горел тусклый электрический свет, вдоль стен также стояли наши сотрудники с зажженными фонарями. Вся подклеть была заставлена разбитыми гробами из белого камня…
– Это что за безобразие? – Коба ткнул в обломки рукой.
– Точно так – безобразие, товарищ Сталин, – весело отозвался комендант. – Это гробы московских цариц. После Революции, когда в Кремле ликвидировали женский монастырь и начали строить школу красных командиров, Ильич велел это добро уничтожить. Они в монастырской церкви тогда лежали. Но кто-то из контры… много их тогда было… настоял сохранить, дескать, эти московские царицы записаны в истории. Их на телегах перевезли в Архангельский к мужьям и сбросили в подклеть через отверстие в полу. Они и побились… – Коба мрачно слушал. – Теперь мужья наверху спят в соборе, а жены в подклети лежат – под мужьями, как положено… Вон, говорят, мать самого Ивана Грозного, – комендант как-то по-свойски посветил фонарем на разбитый гроб – в тусклом свете выступал череп. – Там у нее даже рыжая прядка осталась… Красавица, говорят, была. А вот здесь жена Ивана Грозного Анастасия. Эксперт осматривал. Ученый из МГУ… У нас заключение осталось – обе отравлены. Хотите посмотреть Анастасию, товарищ Сталин?..
– Помолчать можешь? – оборвал Коба.
(Он, как это ни смешно… боялся покойников. Ненавидел ходить на похороны. Когда с Надей надо было прощаться, он очень мучился.)
– Так точно, товарищ Сталин. Но, может, ликвидировать безобразие?
– Не трогать. Пусть лежат, – и приказал: – Несите.
Трое энкавэдэшников и комендант направились к человеку в белом халате, стоявшему посреди этого странного кладбища перед деревянным постаментом. На постаменте виднелась гипсовая голова.
В свете фонарей они осторожно подняли деревянный постамент и понесли к нам.
Человек в белом халате – совсем молодой, со смуглым, обожженным солнцем лицом – нес за ними гипсовую голову, затем торжественно водрузил ее на постамент.
Это была голова старика – в натуральную величину. Никогда я не видел такого лица. С хищным орлином носом, с презрительным чувственным ртом – сладострастник, этакий старый Карамазов из Достоевского. Я понимал: это лицо, восстановленное по черепу. Но как череп мог сохранить эту брезгливость пресыщенного повелителя, это яростное сладострастие?!
И я смотрел, смотрел на гипсовую голову – оторваться от нее было невозможно.
– Рассказывайте, товарищ Герасимов, – распорядился Коба.
– Когда мы вскрыли гробницу, Иосиф Виссарионович, царь Иван Грозный лежал в монашеском одеянии. Дело в том, что московские цари – отец Ивана Василий и сам Иван – перед смертью постриглись в монахи…
– Мижду нами говоря, молодой человек, мне и товарищу Фудзи рассказывали это в семинарии.
– Простите, Иосиф Виссарионович… Царь лежал в гробу с согнутой в локте и поднятой рукой. Объяснения этому у нас пока нет. Думаю, это какой-то древний утерянный обряд. Череп мы аккуратно уложили обратно в гроб. В гробу теперь все как было…
Коба жестом попросил его замолчать. Он смотрел на любимого государя.
– Значит, вы уверены, что он был таков?
– Абсолютно уверен. Судите сами, лобные кости… – начал объяснение Герасимов.
– Не надо, – прервал Коба. – А где же его сын?
– К сожалению, лицо Ивана Ивановича восстановить невозможно. Как свидетельствует летопись, царь убил сына посохом в припадке гнева. Однако это был не единичный удар. Иван Грозный ударил его посохом несколько раз. Царевич, видно, уже находился без сознания, но царь продолжал жестоко бить. Череп совершенно размозжен ударами, раздроблен по осевой линии…
– Достаточно, – сказал Коба.
– Иосиф Виссарионович, я хочу обратиться с просьбой. Я мечтаю сделать скульптурный портрет Тимура. Захоронение находится в Самарканде…
– Пока не надо… Одного вы уже нам показали. Вы свободны, товарищ Герасимов. Благодарю за отличный труд.
Когда тот ушел, Коба бросил Паукеру:
– Возьмешь с него подписку о неразглашении…
Он долго стоял у царской головы. Потом приказал кратко:
– С таким лицом великий государь Иван Грозный нам не нужен. Разбейте.
(Уже после смерти Кобы Герасимов еще раз вскрыл могилу и сделал новый портрет Грозного царя. Я видел его репродукцию в американском этнографическом журнале.)
Когда вышли из собора, Коба сказал:
– Говорит: «жестоко бил» сына. Обывательский разговор. Обыватель не понимает. Правитель – это Авраам, подчас отдающий в жертву сына Исаака. – Он уставился мне в глаза. – Думаю, враги Ивана попытались использовать сына, а сын слаб оказался, на поводу пошел. Надо попросить, чтоб историки порылись и доказали. Да, царь был грозен. Без грозы государства не создашь… – И повторил с горящими глазами: – «Как конь под царем без узды, так и царство без грозы…» Значит, завтра уезжаешь? Попадешься – обменивать не буду. На хрен ты мне нужен! Надоел! Ну, в добрый путь! – И влажно поцеловал в губы.
Я ехал домой и повторял: «Затевается… «Как конь без узды…» Значит, и узда, и гроза будут непременно».
Московские балы
В тот же день вечером у меня была назначена встреча с агентом – сотрудником американского посольства. Он попал в трудную ситуацию – проигрался в карты на очень большую сумму. Этот безумный в игре картежник был весьма ценным кадром. Когда-то мы его завербовали при помощи карточного долга. И вот сейчас ему срочно потребовались наличные. Он умудрился сообщить мне об этом в пять вечера накануне моего отъезда в Женеву. При этом он обязан был присутствовать в американском посольстве, где в ту ночь планировался очередной бал.
Послом тогда был некто Буллит – человек фантастический, то ли любовник, то ли муж подруги знаменитого журналиста-радикала Джона Рида. (Книга Рида «10 дней, которые потрясли мир» об Октябрьском перевороте со времен Ильича считалась у нас классикой. Но бедняге Риду уже после смерти, на том свете пришлось серьезно дорабатывать свое сочинение, и в новых изданиях из него начал исчезать… отец Октября Троцкий!) Этот Буллит, которого Фитцджеральд описал в романе «Великий Гэтсби», был человеком, любящим и умеющим роскошествовать. Как докладывал наш агент, богач посол обещал на свои деньги превратить посольство «в одинокий островок американской жизни в океане советской злой воли».
(Кстати, впоследствии он устроит уже совсем невероятный бал, о котором я расскажу позже. Пока же сей балетоман тренировался, организовывая в посольстве один за другим балы очередные.)
Во время этого бала, где играл приехавший из Америки знаменитый джаз-банд, я должен был передать деньги моему агенту. Но сначала предстояло их получить.
Пришлось звонить Ягоде. Он выругался, но деньги обещал дать… на балу! Оказалось, и в нашем ведомстве НКВД затевался бал! Получалось забавно: на балу НКВД я должен был получить злополучные деньги и перенести их на бал американский.
Вот так в пролетарской Москве, где в ту ночь в коммунальных квартирах укладывались спать усталые, плохо умытые люди, чтобы завтра чуть свет бежать на работу, состоялись два роскошных светских мероприятия.
Я подъехал к клубу НКВД в семь часов. У входа стояло множество охраны. Я не был здесь год и, войдя, не узнал помещения. Ягода постарался: в особняк вернулись зеркала, дворцовая мебель, лепнины на потолках – клуб был превращен в типичное царское офицерское собрание. Вообще в тот приезд я с изумлением отметил, что страна начала отчетливо перерождаться в исчезнувшую империю Романовых. Потонувшая Атлантида потихоньку всплывала под еле слышное, недовольное роптание старых членов партии…
Я вошел в зал, тонувший в полутьме. Светился только огромный зеркальный шар, подвешенный к потолку. Он разбрасывал вокруг белые блики, будто падал снег. Метель бушевала на невиданных прежде парадных мундирах НКВД. Ослепительно белый китель с золотым шитьем, нежно-голубые штаны, на боку – позолоченный кортик (такой носили морские офицеры при царе). Кто был не в мундире, щеголял в черном смокинге. Дамы – в масках и в длинных вечерних платьях. Юные девицы – в маскарадных костюмах а-ля Кармен, а-ля Клеопатра. И это «аля» – не случайно, ведь костюмы были взяты из Большого театра…
Об этом рассказал мне сам Ягода в обставленном старинной мебелью кабинете директора клуба. Там же присутствовал незнакомый мне маленький человечек. Ростом и быстрыми юркими движениями он удивительно напомнил мне… Геббельса. Но Геббельса с добрыми, ясными детскими глазами.
– Это мой заместитель товарищ Ежов, – представил Ягода.
«Геббельс» застенчиво протянул мне руку… Этот Ежов, как я узнал потом, был воистину совсем простой человек из рабочих, с тремя классами образования, малограмотный и писавший со смешными ошибками.
– Мундиры видел? – спросил меня Ягода. – Сегодня первый раз надели. Образцы Хозяину понравились, – и добавил тихонько, но значительно: – Любит царское. – Он засмеялся лающим смехом. В этот момент в кабинет вошел знакомый мне глава ленинградского НКВД, невысокий мужчина с бородкой клинышком и весьма не подходящей ему забавной фамилией – Медведь. Он остановился в дверях, не поздоровавшись.
Ягода засуетился, торопливо передал мне портфель с деньгами, и я ушел…
Помню, когда проходил через зал, оглушительно играл фокстрот, бешено крутился шар и безумный снег призрачно летел на костюмы и лица. Веселящиеся здесь, как и я, не знали тогда, что это очередной пир во время наступающей чумы. Всем им предстояло погибнуть. Правда, прежде они должны были погубить других.
Сначала я отправился на вокзал и оставил пакет с деньгами в камере хранения.
Затем подъехал к особняку американского посла – в Спасопесковском переулке.
Естественно, теперь (на случай встречи с иностранными знакомыми князя Д.) я был так загримирован, что меня не узнала бы родная мать.
Была половина первого. В вестибюле у входа в зал посол встречал гостей. К нему выстроилась бесконечная очередь – представляться.
Я вошел в главную залу. Оглушительно трудился джаз – негры из Нового Орлеана. Пары кружились в танце. Вокруг – все растущая толпа. Агента я увидел сразу, он беседовал со своей любовницей, хорошенькой итальянкой, служившей в посольстве. Проходя, сунул ему в карман ключи с номером ящика в камере хранения.
Бог Сатурн
Уже в Женеве в вечерних выпусках я прочел об убийстве Кирова.
А по возвращении в Москву узнал подробности от ленинградского друга, бывшего кронштадтского матроса, ставшего следователем в ленинградском НКВД.
Подробности меня поразили.
Кирова убил молодой партиец Леонид Николаев. Он служил в свое время у нас в ГПУ, потом ушел, перебрался, кажется, куда-то в провинцию. Вскоре вернулся в Ленинград, нигде не работал. Жена, высокая прибалтийская красотка блондинка, бросила его и находилась в связи с неугомонным Кировым. Николаев сильно пил, и, конечно же, на него завели дело. Дело сначала вел следователь, который утонул, купаясь в Неве, и его передали моему другу, хорошо знакомому мне по Петроградской ЧК.
Материалы совершенно изумили его. В деле были зафиксированы разговоры Николаева о великом пролетарском прошлом партии, о ее буржуазном настоящем, о ленинской гвардии, отстраненной от руководства, – короче, обо всем, о чем думали многие, но не говорили… Николаев же говорил «кому-то», и этот «кто-то» сообщал «куда надо», но тем не менее Николаева не потревожили! Этот безымянный «кто-то», видно, рассказал ему о проделках жены. Ибо в деле появились разговоры о том, что Киров – продукт разложения партии и кто-то должен убрать мерзавца. Пожертвовав собой, взорвать атмосферу всеобщего гниения. Более того, он начал писать Кирову – требовал устроить его на ответственную работу. Первое письмо вручил сам у подъезда Смольного, когда Киров выходил из машины. И охрана… позволила! Он писал Кирову, что на все готов, если ему не помогут организовать достойную жизнь! Киров не ответил, но передал письмо «куда следует», и оно попало в дело. Но… опять Николаева не арестовали! И он в первый раз отправился в Смольный поговорить с Кировым. Его задержали, нашли при нем пистолет и некий чертеж… и отпустили с миром! Чертеж оказался схемой утреннего маршрута Кирова! Но и на этот раз Николаева не тронули! Будто ждали от него чего-то… Он продолжал свои разговоры с «кем-то», сообщил, что ему уготована жертвенная роль Желябова и Радищева и он уже написал свое завещание партии…
Ознакомившись с делом, мой друг приказал немедленно арестовать Николаева. Но вернувшийся из отпуска Медведь (тот самый глава ленинградского НКВД, которого я видел в кабинете Ягоды накануне убийства Кирова) приказ отменил, сказал, что еще рано, что они следят за Николаевым. Дескать, Николаев наверняка не один, и нужно не спугнуть его, выявить сообщников и тогда уже взять всю сеть.
Мой друг возражал, но Медведь добавил:
– Это приказ Ягоды.
После чего у моего друга забрали дело.
В день убийства Николаев преспокойно вошел в Смольный через охраняемый «секретарский подъезд», ведущий прямо к кабинету Кирова. Вошел с оружием! Ожидая Кирова, вольготно сидел на подоконнике в сверхохраняемом коридоре! Причем Киров шел по коридору навстречу своему убийце один. Вопреки правилам, введенным Кобой, впереди него не было охранника. Охранник… отстал! И Николаев легко застрелил любимца Кобы!..
Рассказав все это, мой ленинградский друг молча посмотрел на меня. Молчал и я. Слушая его рассказ о Николаеве, я, конечно же, вспомнил сумасшедшего голландца, которого гитлеровская спецслужба умело подтолкнула поджечь Рейхстаг.
К сожалению, мой ленинградский друг делился этими сведениями не только со мной. Он исчезнет в числе первых, как и Медведь, и все те, кто прикоснулся к этому делу.
Впрочем, кто убил Кирова – было ясно многим, не знавшим всех обстоятельств дела Николаева. Во всяком случае, вскоре в партии запели озорную «десятилетнюю» («певцы» за нее получали десять лет) частушку:
- Ах огурчики-помидорчики,
- Сталин Кирова пришил в коридорчике.
Но ни я, ни «певцы» не могли представить тогда всю шахматную партию, которую задумал Коба… Мы не поняли, что убийство Кирова – это наш поджог Рейхстага («Учимся, понемногу учимся»). Кровь, пролитая в коридоре Смольного, должна была положить начало небывалой крови.
Рожденная в том же Смольном Октябрьская Революция приготовилась доказать миру, что она – вечный бог Сатурн, пожирающий своих детей.
Я много думал впоследствии: считал ли Коба себя убийцей Кирова? Никогда! Для него убийцами были враги. Именно они попытались сделать Кирова своим знаменем! Из-за происков этих «двурушников» (любимое определение Кобы), во имя окончательной победы над врагами, пришлось отдать верного друга. Любимого друга. «Как Авраам отдал в жертву сына Исаака». Исходя из любимой им логики, он мог сказать себе: объективно – это они убили «брата Кирова», как прежде – объективно – они убили Надю. Убийцам двух самых дорогих людей – месть и ненависть!
Убитый «брат Киров» уже вскоре начал служить своею смертью.
Через день в женевской газете я прочел постановление правительства СССР «О порядке ведения дел о террористических актах против работников Советской власти». Сроки следствия по подобным делам – не более десяти дней, дело рассматривается без прокурора и адвоката, кассационная жалоба, ходатайство о помиловании не допускаются. Приговор к высшей мере исполняется немедленно.
И заголовок женевской газеты: «Большевистский террор! Призрак Революции возвращается!»
Точнее, шахматная партия началась!
В вечернем выпуске я прочел описание прибытия Кобы в Ленинград. Оказывается, тотчас после убийства той же ночью он выехал на место преступления вместе с верными Молотовым, Ежовым и Ягодой – руководителями готовящейся расправы. Приехав в Ленинград, Коба на перроне, как написал корреспондент, дал пощечину встречавшему его главе ленинградского НКВД Медведю. И проследовал в Смольный.
Я получил шифрограмму от убитого горем (пишу без иронии) Кобы: «Немедленно приезжай на похороны брата». И вылетел в Москву.
Встретил Коба меня в кабинете. Он только что вернулся из Ленинграда. Сидел, молча подперев голову, сказал – я уверен – искренне:
– После смерти Нади это самая большая потеря. Осиротел совсем. Ни жены, ни друга.
– Но Коба, я ведь тоже друг?
– Тебя, Фудзи, никогда нет рядом, а он… он один заботился обо мне.
Вошел «чекист», так Коба продолжал называть сотрудников НКВД.
– Товарищ Сталин! Товарищ Збарский сообщил, что они готовы начать.
– Да, да. Пусть начинает, – и пояснил мне: – У нас тут новая беда. Какая-то сволочь напала на Ильича. В Мавзолее негодяй швырнул кирпич, разбил стекло. Ты знаешь – я не люблю мертвых. Посмотри, что там случилось, и доложи. Не удивлюсь, если все эти события связаны. Наши враги повсюду! Нужны быстрые действия, иначе погибнет советская власть…
По дороге в Мавзолей чекист сообщил мне, что покушался на мумию рабочий. Его тотчас расстреляли согласно новому закону.
В Мавзолее в торжественной полутьме суетился возле саркофага один из отцов мумии – Збарский, молодой еврей с копной жгуче-черных волос. Второй «отец» был болен. Того, заболевшего, я знал хорошо. Был он постарше, этакий русский барин, большой, располневший, часто находящийся под мухой…
Включили яркий режущий глаза свет, и впервые я смог всё рассмотреть.
Великолепный саркофаг в бронзовой оправе был украшен инкрустациями в виде красных знамен. Внутри него в гробу лежал Ленин. Он воистину будто спал… Лицо и руки были освещены розоватыми лучами. На зеленом френче – кирпич.
По знаку Збарского медленно поднялась стеклянная крышка. Он осторожно убрал камень с ленинской груди. Оказалось, это уже не первое нападение. Другой рабочий, незадолго до этого, выстрелил в несчастную мумию, после чего покончил с собой…
Я почувствовал: кто-то встал сзади меня.
Старуха с кудельками редких седых волос несчастно смотрела на мумию болезненно выпученными глазами. Это была Крупская. Спросила тихо:
– Вы думаете, нельзя уговорить товарища Сталина? Вы ведь его друг? Это ужасно – лежать на виду у зевак.
Я промолчал.
Збарский, мрачно поглядывая на Крупскую, собирал в саркофаге осколки разбитого стекла. Мумия была смыслом его жизни, и, думаю, он скорее сам лег бы в могилу, чем отдал земле свое творение. Как любил повторять чей-то афоризм Бухарчик: «Человек – ничто, произведение – все».
– Товарищ Сталин интересуется состоянием Ильича, – сказал я Збарскому.
– Все в норме. Но мы проведем профилактический осмотр… И доложим.
Чекист в белом халате привез каталку. Заработали механизмы, и гигантский саркофаг начал подниматься. Ильича выложили на каталку и повернули боком. Френч оказался разрезанным сзади и зашнурованным. Збарский принялся ловко его расшнуровывать.
Крупская плакала. Я поспешил уйти.
Вернулся в кабинет Кобы.
– Старуха плачет.
– Да, все хочет похоронить, – кивнул он. – Не может понять: Ильич по-прежнему на боевом посту. В то время как его соратники оказались предателями и убийцами.
Я с изумлением уставился на Кобу.
В кабинет вошли Бухарин и Молотов.
Коба походил, потом заговорил:
– Первые результаты допросов окончательно показали: Ягода – мудак. Его давно пора гнать! Начал искать убийц среди аристократов, бросился арестовывать священников, дворян, хотел свалить убийство Кирова на классовых врагов. Хотя искать надо было совсем в другом месте.
Молотов привычно молчал. Не выдержал Бухарин:
– Где, Коба?
– Искать надо было среди зиновьевцев. Я ему так сразу и сказал: «Ищи, не то морду набьем». Но уже на первом допросе Николаева… Ежов сообщил мне сегодня… Установлено: мерзавец Николаев являлся ярым зиновьевцем и действовал по их заданию.
Наступила тишина.
– …Ты хочешь сказать, что Григорий… – в ужасе начал Бухарин и остановился. – Но этого не может быть!
Коба печально посмотрел на него.
Верный Молотов тотчас включился и, заикаясь, произнес монолог:
– Как это не может?! Может! Мы долго терпели их измены. Больше нельзя. Иначе нас ждет катастрофа Французской Революции. С этими мерзавцами и иллюзиями по их поводу давно пора расстаться. И второе. Ягода явно не справляется, значит, ему требуется помощь. – И после паузы добавил: – Разве только… он хочет НЕ справляться. Обывательский трепет перед «священными коровами». На этом посту нужен беспощадный и молодой коммунист.
Коба, убитый горем, долго молчал.
– Коба, – продолжил Молотов, – ты должен взять на себя все это трудное дело, мы тебе поможем.
– Да, – сказал он, – Ягода опоздал с разоблачением этих выродков как минимум на два года… Если бы взялся за них вовремя, у нас был бы живой Киров и многое было бы по-другому…
Так начинался этот, как нынче говорят американцы, триллер. Великолепный и очень сложный, задуманный Кобой.
Хоронили Кирова в Москве, в бывшем Дворянском собрании, именуемом нынче Домом союзов. Все центральные улицы столицы были перекрыты для прохожих грузовиками, отрядами красноармейцев и нашими сотрудниками в штатском. Всем было приказано находиться в ожидании нового нападения врагов Революции. Все пребывали в напряжении, в боевой готовности…
Прожектора Колонного зала Дома союзов освещали тонущий в цветах и знаменах большевистский, красный, кумачовый гроб…
Коба попросил меня постоять среди его охраны, пока он будет прощаться с «братом Кировым». Он, как всегда, заигрался в свою придумку – в опасность нападения коварных зиновьевцев. Так что я с густой бородой простоял всю церемонию рядом с гробом, стараясь не смотреть на желтое заострившееся лицо покойника. У изголовья гроба застыли три женщины – жена и две сестры.
О сестрах рассказывали трогательную историю. Обе – сельские учительницы из глуши. Совсем недавно они увидели в газетах портрет со знакомым лицом. С изумлением поняли, что это их брат Сережа Костриков, исчезнувший из дома много лет назад. Их беспутный, не желавший учиться Сережа… теперь – вождь Ленинграда Сергей Миронович Киров (Киров – его революционная кличка, ставшая фамилией). Они тотчас списались с ним и собрались приехать к нему, но тут… Они увидели своего Сережу впервые после Революции – уже в гробу! Все это поведал мне Коба, не оставивший их своими щедротами. Им была выделена большая пенсия, квартиры, дачи и прочие блага. Как положено восточным владыкам, Коба умел и любил награждать.
Наконец началась моя миссия – появился Коба. Вместе с ним вышли Молотов, Бухарин и, кажется, Калинин. Тотчас погасли прожектора (для безопасности).
Коба поднялся на ступеньки к гробу. Лицо его было воистину скорбно. Он наклонился и поцеловал в лоб «брата Кирова». Слезы – на лицах трех женщин, стоящих подле.
На следующее утро я узнал, что убийца Кирова Николаев уже подписал признание: «убил Кирова по заданию троцкистско-зиновьевской группы».
Николаев тотчас был расстрелян. Следом расстреляли его прежнюю жену – любовницу убиенного Кирова.
Ночью я присутствовал на совещании в Кремле. Коба (темные круги вокруг глаз от бессонницы) зачитал официальное сообщение НКВД о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий, Каменев, Зиновьев и многие их сторонники. Последовал град имен вчерашних вождей Революции, старых партийцев, друзей Ильича!
– Мне стыдно и страшно читать это вслух, – сказал Коба. – Хорошо, что Ильич не дожил до этого позора. Оказывается, ими созданы террористические группы во всех наших крупных городах. Руководство НКВД образовало секретное управление для проведения следствия над этими людьми. Я буду лично наблюдать за следствием. Я хочу, чтоб вы поняли: разговор идет о чести этих людей. Но отнюдь не о чести партии. Партия остается незапятнанной. Более того, «очищаясь, партия укрепляет себя», – так учил нас великий Ильич…
Руководить следствием были назначены Ягода и Ежов. Когда все расходились, Коба велел Ежову задержаться. Ягода вместе со всеми нами уехал домой.
Гибель отцов Октября
Перед моим возвращением в Женеву Коба принял меня ночью в Кремле.
– Они оказались повсюду… Весь государственный аппарат, вся партия тронуты этой страшной ржавчиной!
В это время вошел начальник охраны Паукер с бумагой в руках. Просительно посмотрел на Кобу.
Тот усмехнулся милостиво:
– Ну ладно, давай.
И лицедей необычайно похожим на Зиновьева голосом начал смешно читать письмо Зиновьева:
– «Дорогой товарищ Сталин! Сейчас (16 декабря в 7.30 вечера) тов. Молчанов с группой чекистов явились ко мне на квартиру и проводят обыск. Я говорю Вам, тов. Сталин, честно: с того времени, как я прекратил участие в оппозиции, я не сделал ни одного шага, не сказал ни одного слова, не написал ни одной строчки, не имел ни одной мысли, которую должен был бы скрывать от партии, от ЦК и от Вас лично. Я думал только об одном: как заслужить доверие ЦК и Ваше лично, как добиться того, чтобы Вы включили меня в работу… Клянусь Вам всем, что может быть свято для большевика, клянусь Вам памятью Ленина. Умоляю поверить моему честному слову. Потрясен до глубины души…»
Судя по мастерству, Паукер передразнивал Зиновьева не в первый раз.
Смешливый Коба задохнулся от смеха.
Я хорошо представлял, что было с Зиновьевым, когда его арестовывали. Он был невероятный трус и паникер. Но трус очень жестокий.
Помню, как-то в двадцать четвертом году в кабинете Кобы Зиновьев обсуждал с ним, как следует топить Троцкого и как использовать молодого Кагановича.
И я рассказал тогда удивительную шутку Истории:
– Вот Каганович, вчерашний сапожник, теперь работает у нас как бы министром. А знаете, кто сейчас работает у нас сапожником? Один ленинградский чекист недавно показал мне новехонькие сапоги и спросил: «Знаешь, кто тачал? Князь Голицын – последний царский премьер-министр! Он, оказывается, остался в России. Голодает, освоил профессию сапожника…»
И я услышал голос Зиновьева:
– Как?! Этот романовский служка спокойно топчет улицы и парки революционной столицы?!
Уже потом я узнал: по приказу Зиновьева старика расстреляли.
Отсмеявшись, Коба вдруг сказал мне:
– Возьми, тебе пригодится. – Он забрал у Паукера листок зиновьевского письма и протянул мне.
– Я не понял, Коба?
– Ну почему ж, ты все понял. Ты ведь продолжаешь все записывать? Впрочем, тебе не нужно это письмо, ты и так все запомнил. – И пояснил Паукеру: – У нашего Фудзи феноменальная память, я ему в семинарии очень завидовал! – Добавил, обращаясь уже ко мне: – Я в очередной раз предупреждаю, Фудзи: прекрати это делать! А то товарищу Ежову, – (Ягоду он почти перестал упоминать), – придется забрать эти записи… после того, как ты очутишься в совсем не хорошем месте, – и засмеялся. – Шучу… Смотри, Паукер, Фудзи побледнел.
Я побледнел, потому что хорошо знал своего друга…
Когда я уходил, Коба заметил:
– Как там пишет Григорий – «Потрясен до глубины души»? Не надо бы ему спешить. Вся глубина потрясения у него еще впереди…
Что же касается письма Зиновьева – Коба был прав. Я запомнил его дословно. Придя домой, как обычно, все записал в тетради.
Откуда Коба знал, что я продолжаю вести записи? Вычислил я это быстро… Конечно, это была она – смазливая уборщица, с которой я, глупец… Все произошло в прошлом месяце.
Когда я вошел, она мыла пол в кабинете, приподняв юбку. Великолепные длинные молодые ноги. Услышав мои шаги, обернулась и радостно засмеялась. Распрямилась, бросила тряпку. Весело взглянула мне в глаза, сказала:
– Не побрезгуете?
И случилось.
В тот день она затеяла большую уборку. Я помазал обложку Дневника особой краской. Сказал ей, что ухожу надолго и она может прибираться не торопясь. Однако вернулся очень быстро. Все, как предполагал… Она в ванной стирала полотенце – смывала с него след краски, оставшийся после мытья рук. Все-таки непрофессионалка. Конечно, я сделал вид, что не заметил. Разоблачать ее было глупо – назначат новую. Лучше знать. К тому же… хорошо мне было с ней.
Прежний Дневник я оставлял для нее в столе… Начал новый, который спрятал надежно.
Вернувшись из Женевы, я застал финал следствия по делу Зиновьева и Каменева.
И был потрясен, когда узнал от знакомого следователя, чего добивался от них Коба. Они должны были показать, что по заданию Троцкого готовились убить Кобу и всех его верных соратников. И совершить «дворцовый переворот». Киров стал их первой жертвой!
Коба предложил отцам Октября самим объявить себя убийцами и предателями Революции. Они с негодованием ответили, что Коба, видимо, сошел с ума…
Последовал окрик Кобы. Ягоде было велено не превращать камеры в дома отдыха. Ягода пытался избежать пыток – ведь это были вчерашние вожди партии, близкие друзья Ленина и его хорошие знакомые. Он сам уговаривал их, умолял подписать признание. Конечно, тщетно!
В городе стояла нестерпимая жара. Единственное, на что отважился Ягода, – приказал сильно топить в их камерах. Но они по-прежнему с негодованием отказывались подписывать и требовали встречи с Кобой.
Коба вызвал Ягоду.
– Скажи нам, товарищ Ягода, сколько весит наша страна?
Тот изумленно глядел на Кобу. Коба повторил.
– Что молчишь, товарищ Ягода? Сколько весят все заводы, фабрики, самолеты, поезда, флот, население?
– Я не знаю, товарищ Сталин.
– Ты должен защищать безопасность страны. И оказывается, не знаешь веса страны, которую защищаешь? Странно!
– Это из области космических цифр, – пробормотал Ягода.
– Правильно. Поэтому никогда не говори мне нелепость, будто какой-то жалкий человечек может противостоять давлению космического веса целой страны. Это значит: или ленишься, или не умеешь, или… не хочешь!
Ягода побледнел.
Прошла неделя, и в кабинете Кобы я стал свидетелем исторической сцены.
Вначале мой друг расхаживал по кабинету и беседовал со мной в своей манере: спрашивал меня и сам себе отвечал, совершенно не интересуясь моими ответами. Точнее, попросту размышлял вслух, проверяя на мне свою логику.