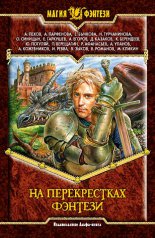Дублинцы (сборник) Джойс Джеймс

Они дошли до конца дорожки молча. Затем Стивен спросил:
– А почему, сэр?
– Я не могу создавать для вас условия, чтобы вы сеяли такие идеи среди молодежи колледжа.
– Вы считаете, что моя теория искусства неправильна?
– Это безусловно не та теория искусства, которую поддерживают в нашем колледже.
– С этим я соглашаюсь, – сказал Стивен.
– Больше того, это есть полное собрание современных брожений и современного вольнодумства. Те авторы, которых вы приводите в пример, которыми восхищаетесь, как видно…
– Аквинат?
– Нет, не Аквинат, о нем я скажу потом. Но Ибсен, Метерлинк… эти писатели-атеисты…
– Вам не нравится…
– Меня удивляет, что хоть один студент в нашем колледже мог найти у этих писателей нечто достойное, у тех, кто недостоин имени поэта, кто проповедует открыто атеистические доктрины и наполняет умы читателей всем сором современного общества. Это не искусство.
– Даже допуская вредоносность, о которой вы говорите, я не вижу ничего противозаконного в исследовании этой вредоносности.
– Да, оно может быть законным – для ученого, для реформатора…
– А почему же не для поэта? Данте, несомненно, исследует общество и бичует его.
– О да, – сказал ректор разъяснительно, – имея в виду нравственную цель. Данте был великим поэтом.
– Ибсен тоже великий поэт.
– Вы не можете сравнивать Данте с Ибсеном.
– Я не сравниваю.
– Данте, горделивый рыцарь прекрасного, величайший из поэтов Италии, и Ибсен, писатель над всеми и за пределами всех, Ибсен и Золя, стремящиеся сделать свое искусство низменным, потакающие развращенным вкусам…
– Но это вы их сравниваете!
– Нет, их сравнивать невозможно. Один имеет высокую нравственную цель – он делает род человеческий благородней; другой же делает его низменней.
– Если у поэта отсутствует какой-то особый кодекс моральных условностей, это еще не делает его низменным, по моему мнению.
– Да, если бы он исследовал даже самые низменные предметы, – сказал ректор, показывая свои закрома терпимости, – [то] дело бы обстояло иначе, если бы он их исследовал, а потом показал бы людям путь к очищению себя.
– Это для Армии Спасения, – сказал Стивен.
– Вы хотите сказать…
– Я хочу сказать, что Ибсен рисует современное общество с тою же подлинной иронией, с какой Ньюмен рассматривает мораль и веру английского протестанта.
– Возможно, – сказал ректор, умиротворенный подобной параллелью.
– И с тем же отсутствием всякого миссионерского намерения.
Ректор промолчал.
– Вопрос темперамента. Ньюмен мог удерживаться двадцать лет от того, чтобы написать «Апологию».
– Но уж когда накинулся на него! – проговорил ректор со смешком, выразительно не закончив фразу. – Бедный Кингсли!
– Исключительно вопрос темперамента – отношения к обществу, будь то у поэта или у критика.
– Да-да.
– У Ибсена темперамент архангела.
– Возможно; но я всегда полагал, что он одержимый реалист, как Золя, и проповедует какое-то новое учение.
– Вы были неправы, сэр.
– Это общепринятое мнение.
– Однако ошибочное.
– Как я представлял, у него есть некоторое учение – социальное учение, о свободном образе жизни, и художественное учение, о необузданной распущенности, до такой степени, что публика не допускает его пьесы на сцену, а его имя даже нельзя называть в присутствии дам.
– Где вы такое нашли?
– Ну как же, всюду… в газетах.
– Это серьезный довод, – заметил Стивен осуждающим тоном.
Нисколько не будучи задет дерзостью этих слов, ректор, казалось, признавал справедливость их: он был самого низкого мнения о нынешних полуграмотных журналистах и заведомо не позволил бы, чтобы газеты навязывали ему свои суждения. Но вместе с тем по поводу Ибсена все мнения были всюду настолько единодушны, что он подумал…
– А можно узнать, многое ли из написанного им вы прочли? – спросил Стивен.
– Знаете ли, нет… Я должен сказать, что я…
– А можно узнать, прочли ли вы хотя бы одну его строчку?
– Знаете ли, нет… Я должен признаться…
– И полагаю, вы не считаете правильным выносить суждение о писателе, у которого вы не прочли ни единой строчки?
– Да, должен согласиться с этим.
Одержав эту первую победу, Стивен помедлил, колеблясь. Ректор заговорил снова:
– Меня очень заинтересовало ваше восторженное отношение к этому писателю. Мне самому до сих пор не выпало случая прочесть что-нибудь Ибсена, но я знаю, что у него самая высокая репутация. Должен сознаться, то, что вы о нем говорите, весьма изменяет мои взгляды на него. Быть может, я когда-нибудь…
– Если пожелаете, сэр, я могу вам дать некоторые его пьесы, – сказал Стивен с неосторожною простотой.
– В самом деле?
Оба сделали небольшую паузу: затем —
– Вы увидите, что это великий поэт и великий художник, – сказал Стивен.
– Мне будет очень интересно, – сказал ректор любезным тоном, – прочесть какие-то его вещи для себя, просто очень интересно.
Стивена подмывало сказать: «Извините, я отлучусь на пять минут – пошлю телеграмму в Христианию», но он преодолел искушение. За время этой беседы у него не раз являлась необходимость сурово подавлять безрассудного беса, который обитал в нем, имея ненасытный аппетит к фарсу. Ректор начинал обнаруживать либеральную широту своей натуры, однако сохранял подобающую духовному сану сдержанность.
– Да, мне будет необычайно интересно. Ваши взгляды довольно необычны. Вы собираетесь опубликовать этот доклад?
– Опубликовать?!
– Нежелательно, если кто-то примет идеи в вашем докладе за то, чему учат у нас в колледже. Мы управляем им на правах попечителей.
– Но вы же не обязаны нести ответственность за любые слова и мысли каждого студента в колледже.
– Нет, разумеется, нет… но все же, читая ваш доклад и зная, что вы из нашего колледжа, люди предположат, что мы насаждаем здесь такие идеи.
– Студент колледжа может, безусловно, выбрать свое собственное направление занятий.
– Именно это мы и стараемся всегда поощрять в студентах, но только ваши занятия, мне кажется, ведут вас к весьма революционным… весьма революционным теориям.
– А если бы завтра я опубликовал весьма революционную брошюру о мерах борьбы с картофельной чумой, вы бы считали себя ответственным за мою теорию?
– Конечно же, нет… но у нас не сельскохозяйственное учебное заведение.
– Однако и не драматургическое, – возразил Стивен.
– Ваши доводы не столь неопровержимы, как кажется, – сказал ректор после небольшой паузы. – Но я рад видеть, что у вас такое по-настоящему серьезное отношение к вашей теме. Тем не менее вам надо признать, что эта ваша теория – если довести ее до логического конца – освобождала бы поэта от любых нравственных норм. Я также замечаю, что вы в докладе намекаете иронически на то, что у вас именуется «древней» теорией – то есть на ту теорию, по которой драма должна иметь особые этические цели, по которой она должна наставлять, возвышать и развлекать. Я думаю, ваша позиция – Искусство ради Искусства.
– Я всего лишь довел до логического конца то определение, которое Аквинат дал прекрасному.
– Аквинат?
– Pulcra sunt quae visa placent[21]. По-видимому, он считает прекрасным то, что удовлетворяет эстетической потребности и ничему более – то, простое восприятие чего доставляет наслаждение…
– Но он имеет в виду возвышенное – то, что возводит ввысь человека.
– Картина какого-нибудь голландца, на которой блюдо с луковицами, тоже подошла бы под его замечание.
– Нет-нет, только то, что доставляет наслаждение душе, наделенной благодатью, душе, ищущей духовного блага.
– Определение блага у Аквината – ненадежная основа для рассуждения, оно крайне широко. Мне видится у него едва ли не ирония в том, как он говорит о «потребностях».
Ректор с некоторым сомнением почесал затылок.
– Конечно, Аквинат – необыкновеннейший ум, – пробормотал он, – величайший из учителей Церкви; но он требует нескончаемого толкования. Есть такие места у него, которые ни один священник не помыслит возглашать с амвона.
– А что, если я, как художник, отказываюсь соблюдать предосторожности, полагаемые необходимыми для тех, кто еще в состоянии первородной глупости?
– Я верю в вашу искренность, но вот что я вам скажу как личность постарше вас и как человек, имеющий некий опыт: культ красоты чреват трудностями. Бывает, что эстетизм начинается хорошо, но заводит в самые гнусные мерзости, о которых…
– Ad pulcritudinem tria requiruntur.
– Он коварен, он прокрадывается в ум тихой сапой…
– Integritas, consonantia, claritas[22]. Мне кажется… эта теория сияет блеском, а не таит опасность. Разум немедленно воспринимает ее.
– Конечно, святой Фома…
– Аквинат, безусловно, на стороне талантливого художника. Я не слышу от него ровно ничего про наставление и возвышение.
– Поддерживать ибсенизм с помощью Аквината мне кажется довольно парадоксальным. Молодые люди часто заменяют убеждения блестящими парадоксами.
– Мои убеждения меня никуда не увели; моя теория говорит сама за себя.
– А-а, так вы парадоксалист, – произнес ректор, улыбаясь с кротким удовлетворением. – Теперь я вижу… Но есть и еще одно – пожалуй, это вопрос вкуса скорей, нежели чего-то еще – что заставляет меня считать вашу теорию юношески незрелой. Не видно, чтобы вы понимали все значение классической драмы… Конечно, в своем собственном русле Ибсен тоже может быть замечательным писателем…
– Но позвольте, сэр! – перебил Стивен. – Классической школе в искусстве я воздаю почтение в полной мере. Вы, разумеется, не забыли моих слов…
– Насколько я помню, – сказал ректор, вознося к блеклым небесам слабо улыбающееся лицо, на коем память стремилась поселить пустую оболочку любезности, – насколько я помню, вы говорили о греческой драме – о классическом направлении – право же, совершенно огульно и с неким незрелым юношеским… сказать, что ли, нахальством?
– Но греческая драма – это драма героическая, чудовищная [sic]. Эсхил вовсе не классический писатель!
– Я уже сказал, что вы парадоксалист, мистер Дедал. Вы пытаетесь опрокинуть многовековые труды критиков блестящим оборотом речи, парадоксом.
– Я всего лишь употребляю слово «классический» в определенном смысле, с определенным заданным значением.
– Но вы не можете применять любую терминологию, какая заблагорассудится.
– Я не менял терминов. Я их разъяснил. Под «классическим» я понимаю неспешное кропотливое терпенье искусства удовлетворения. Искусство же героическое, фантазирующее я называю романтическим. Скажем, Менандр или не знаю там…
– Весь мир считает Эсхила великим классическим драматургом.
– Да, мир профессоров, которые благодаря ему кормятся…
– Сведущих критиков, – произнес ректор строгим тоном, – людей высочайшей культуры. И публика даже и сама способна оценить его. Я читал где-то… в газете, кажется… что Ирвинг, Генри Ирвинг, великий актер, поставил одну из его пьес в Лондоне и лондонская публика валила на нее толпами.
– Из любопытства. Лондонская публика повалит поглазеть на любую курьезную новинку. Если бы Ирвинг начал представлять крутое яйцо, они бы тоже повалили глядеть.
Ректор воспринял эту бессмыслицу с несокрушимой серьезностью и, дойдя до конца дорожки, несколько мгновений помедлил, прежде чем выбрать путь в направлении дома.
– Как мне предвидится, защита вашего дела в этой стране едва ли будет успешной, – сказал он отвлеченно. – Наш народ тверд в вере, и поэтому он счастлив. Он верен своей Церкви, и Церкви для него вполне достаточно. Даже для мирской публики эти современные писатели-пессимисты – это уже… уже слишком.
Перемахивая презрительным умом из Клонлиффской семинарии в Маллингар, Стивен стремился подготовить себя к некоему определенному соглашению. Ректор заботливо перевел разговор в русло легкой беседы.
– Да, мы счастливы. Даже англичане стали убеждаться в безумии этих болезненных трагедий, этих жалких, несчастных, нездоровых трагедий. На днях я читал, что один драматург был вынужден заменить последний акт в своей пьесе, потому что там заканчивалось катастрофой – каким-то жутким убийством, самоубийством или чьей-то смертью.
– Почему бы не объявить смерть уголовным преступлением? – спросил Стивен. – У них слишком робкий подход. Гораздо проще взять быка за рога и покончить с этим раз навсегда.
Когда они вошли в вестибюль колледжа, ректор остановился у подножия лестницы, прежде чем подняться в свой кабинет. Стивен ждал молча.
– Начните видеть в окружающем светлую сторону, мистер Дедал. В первую очередь, искусство должно быть здоровым.
Замедленным гермафродитическим жестом ректор присобрал сутану, чтобы взбираться по лестнице:
– Должен сказать, что вы отлично защищали свою теорию… право, отлично. Я, разумеется, не согласен с ней, но я вижу, что вы продумали всю ее целиком и весьма тщательно. Ведь вы тщательно ее продумали?
– Да, продумал.
– Это очень интересно – местами немного парадоксально, юношески незрело – но меня это очень заинтересовало. Я, кроме того, уверен, что, когда ваши занятия обретут большую глубину, вы сможете исправить свою теорию – чтобы она лучше отвечала общепризнанным фактам; я уверен, тогда вы сможете успешнее ее применять – когда ваш ум пройдет некую… систематическую… выучку и у вас появится более широкий кругозор… чувство сопоставления…
XIX
Неопределенный стиль ректорского окончания беседы оставил ум Стивена в сомнениях; он не мог решить, было ли отступление наверх разрывом дружественных отношений или дипломатичным признанием собственной несостоятельности. Однако, коль скоро ему не было объявлено прямого запрета, он решил идти спокойно своим путем, пока на этом пути не встретится реальных препятствий. При новой встрече с Макканном он с улыбкою ждал, чтобы тот сам начал его расспрашивать. Его рассказ о беседе обошел все курсы, и ему было очень забавно наблюдать потрясенные выражения многих пар глаз, которые, судя по их нескрываемому и приниженному изумлению, явно видели в нем черты некоего морального Нельсона. Морис также выслушал рассказ брата о его битве с власть предержащим, однако не сделал никаких замечаний. Не получив содействия со стороны, Стивен сам принялся комментировать происшествие, пространнейше обсуждая каждый наводящий на размышление момент беседы. Он истратил массу горючего для воображения в сей увлекательной ловле предположительного, и эти стремительные, переменчивые гонки разожгли в нем огонек недовольства безразличием Мориса:
– Да ты меня слушаешь или нет? Ты знаешь, о чем я говорю?
– Да, все окей… Тебе разрешили прочесть доклад, так ведь?
– Разрешили, да… Только что это с тобой? Тебе что, скучно? Или ты думаешь о чем-то?
– Ну… в общем, да.
– И о чем же?
– Я понял, почему я сегодня вечером себя чувствую по-другому. Как ты думаешь, почему?
– Не знаю. Поведай сам.
– Я встал сегодня [на] с левой ноги. А обычно я встаю с правой ноги.
Стивен бросил искоса взгляд на торжественное лицо говорящего, ища на нем признаки насмешливого настроя, но, обнаружив лишь прилежный самоанализ, промолвил:
– Неужто? Это чертовски интересно.
В субботний вечер, что был назначен для чтения доклада, Стивен обнаружил себя находящимся перед скамьями амфитеатра Физической аудитории. Пока секретарь зачитывал повестку дня, он успел заметить монокль отца, блеснувший наверху у окна, и скорей угадал, чем разглядел вплотную к сему наблюдательному прибору дородную фигуру мистера Кейси. Брата он не увидел, но на передних скамьях помещались отец Батт и Макканн, а также и еще два священника. Заседание вел мистер Кин, профессор английской словесности. Когда официальная часть закончилась, председатель предоставил слово докладчику, и Стивен поднялся. Он переждал скромные аплодисменты и следом за ними, «в качестве заключительного приветственного соло, четыре звучных хлопка энергических ладоней» Макканна. Затем он прочел доклад. Читал он негромко и отчетливо, обертывая каждую дерзость мысли или стиля в невинную оболочку ровно льющегося звучания. Он спокойно дочитал до конца; чтение ни разу не прерывалось аплодисментами; и металлически ясным тоном произнеся заключительные фразы, сел на место.
Первой мыслью, которая прорезала стремительно охватившее его смятение, было острое убежденье, что этот доклад ни за что не надо было писать. Покуда он мрачно держал сам с собой совет, следует ли ему «швырнуть рукопись им в физиономии» и уйти восвояси или остаться на своем месте, прикрывая лицо от свечей на председательском столе, до него вдруг дошло, что доклад начали обсуждать: это открытие удивило его. Хилан, оратор колледжа, предлагал выразить благодарность докладчику и в такт своим цветастым фразам мотал головой. Стивена занимало, видит ли еще кто-нибудь, как совершенно по-детски шевелятся губы оратора. Ему хотелось, чтобы Хилан как-нибудь энергично клацнул челюстями, чтобы объявилось наличие у него крепких зубов; сам звук речи напоминал ему звуки при растирании хлеба в молоке, когда нянька Сэра готовила для Айсабел в голубой миске, где мать теперь держала крахмал. Но он тут же одернул себя за подобный тип критики и заставил вслушаться в слова оратора. Хилан велеречиво восхищался: ему представлялось (как он сказал) во время чтения доклада мистера Дедала, будто он слушает разговоры ангелов и не знает языка, на коем они беседуют. Не без великой робости он дерзает на критику, однако явственно было, что мистер Дедал не постиг всей красоты аттического театра. Оратор указал, что имя Эсхила вовеки нетленно, и предсказал, что драма эллинов еще переживет немало цивилизаций. Стивен заметил, что Хилан дважды заменял в произношении гласную «е» на «и», подражая отцу Батту, происходившему с Юга Англии, и принялся размышлять о том, [у кого] была ли заключительная фраза оратора взята им у доминиканского или иезуитского проповедника. «Греческое искусство, – сказал Хилан, – принадлежит не одной эпохе, а всем эпохам. Оно возвышается в гордом одиночестве. Оно является «имперским, императорским, императивным».»
Макканн поддержал предложение о благодарности докладчику, столь уместно выдвинутое мистером Хиланом; он желал также присоединить свою хвалу к выразительным похвалам мистера Хилана. Возможно, в докладе, что зачитал аудитории мистер Дедал, нашлось бы немало вещей, с которыми он не мог согласиться, однако он не был и слепым приверженцем античности ради античности, в отличие от мистера Хилана. Современные идеи должны обретать свое выражение; современный мир должен отвечать на вызов своих насущных проблем; и он полагал, что каждый автор, сумевший ярко и убедительно привлечь внимание к этим проблемам, достоин всяческого внимания любого серьезного человека. Он полагал, что выразит единодушное мнение всех собравшихся, если заявит, что мистер Дедал, представив в сегодняшнем заседании столь глубокий и откровенный доклад, оказал обществу неоценимую услугу и честь.
Основное развлечение всего вечера началось, когда отзвучали эти два первых выступления. Стивен попал под огонь шести или семи противников. Один из них, молодой человек по имени Маги, выразил удивление тем, что доклад, весь дух которого настолько враждебен духу самой религии – он не мог судить, понимает ли мистер Дедал истинную направленность защищаемой им теории, – может получать одобрение в их Обществе. Кто, как не Церковь, поддерживал и пестовал творческий дух? Разве не религии драма обязана самим своим рождением? Поистине, только жалкая теория может превозносить скучные пьески о греховных интрижках и при этом хулить бессмертные шедевры. Мистер Маги заявил, что он не знает об Ибсене столько же, сколько мистер Дедал, – да и не желает ничего знать о нем, – однако ему известно, что у этого автора сюжетом одной из пьес служат санитарные условия банного заведения. Если такое называют драмой, то ему неясно, почему бы какому-нибудь дублинскому Шекспиру не накропать бессмертного творения на тему о новом муниципальном проекте центральной канализации. Это выступление послужило сигналом к всеобщему нападению. Доклад Стивена был объявлен мешаниной из бессмысленных слов, ловким протаскиванием порочных принципов под видом эстетических теорий, отражением декадентских литературных вкусов пресыщенных европейских столиц. Высказали предположение, что отдельные части доклада предназначались его автором в качестве попыток розыгрыша: каждый понимает, что слава «Макбета» будет греметь и тогда, когда эти неведомые авторы, которых так обожает мистер Дедал, будут погребены и забыты. Искусство прежних времен любило созерцать прекрасное и возвышенное; современное искусство может предпочитать иные темы; но те, кто еще сумел уберечь разум от отравления ядами атеизма, знают, на чем остановить выбор. Агрессивность достигла высшей точки, когда с места поднялся Хьюз. Со звонким северным выговором он объявил, что «подобные теории несут угрозу» моральному здоровью ирландской нации. Народ не желает чужеземной грязи. Мистер Дедал, конечно, волен читать любых авторов, каких пожелает, но у ирландского народа есть своя славная и великая литература, где он всегда может обрести обновленные идеалы, побуждающие его к новым патриотическим свершениям. Сам же мистер Дедал был ренегатом, покинувшим ряды националистов; он исповедует космополитизм. Но человек, принадлежащий всем странам, не принадлежит никакой стране – чтобы иметь искусство, нужно сначала иметь нацию. Мистер Дедал волен поступать как ему заблагорассудится, поклоняться алтарю Искусства (с большой буквы) и приходить в экстаз от никому не известных авторов. Но вопреки всем [его] лицемерным ссылкам на великого учителя Церкви Ирландия будет стоять во всеоружии против злокозненной теории, уверяющей, будто искусство может быть отделено от морали. Если нам суждено иметь искусство, пусть будет оно искусством нравственным, искусством возвышающим, а главное – национальным искусством,
- Старым добрым ирландским,
- Не саксонским, не итальянским.
Когда подошло время для председательствующего подвести итоги и предложить резолюцию собрания, настала, как обычно, пауза. Воспользовавшись ею, патер Батт поднялся и испросил позволения сказать несколько слов. Аудитория возбужденно зааплодировала, настраиваясь услышать обличение ex cathedra. Патер Батт принес извинения, сопровождаемые возгласами «Нет, нет», в том, что задерживает собравшихся в столь поздний час, однако он полагал своим долгом замолвить слово в защиту докладчика, на долю которого выпало столько поруганий. Он был готов выступить «адвокатом дьявола», и он сознавал все неудобство этой роли, тем паче что один из ораторов, и не без оснований к тому, описал язык, в который облечен был доклад мистера Дедала, как язык ангелов. Мистер Дедал представил чрезвычайно яркий доклад, доклад, который собрал полную аудиторию и удерживал ее внимание, породив оживленную дискуссию. Разумеется, невозможно, чтобы «в вопросах искусства» все были одного мнения. Мистер Дедал исходил из того, что конфликт между романтиками и классицистами есть условие всякого достижения и продвижения, и в этот вечер мы получили неоспоримое доказательство, что конфликт между противоборствующими теориями способен породить столь различные достижения, как сам доклад – безусловно, замечательная работа, – с одной стороны, и достопамятная атака на него, совершенная лидером оппонентов, мистером Хьюзом, – с другой стороны. По его мнению, некоторые из выступавших были незаслуженно суровы к докладчику, но ему было ведомо, что по части доводов в споре докладчик весьма способен постоять за себя. По поводу же самой теории отец Батт признался, что для него было настоящей новостью услышать, как Фому Аквинского цитируют в качестве авторитета в области эстетической философии. Эстетическая философия – новая дисциплина, и если она вообще что-либо представляет собой, то как дисциплина практическая. Аквинат бегло затрагивал тему о прекрасном, но всегда лишь с теоретической точки зрения. Чтобы толковать его положения в практическом смысле, надо иметь более полные знания обо всей его теологии, нежели те, какими мог обладать мистер Дедал. Вместе с тем он не пошел бы так далеко, чтобы утверждать, что мистер Дедал и вправду исказил учение Аквината, вольно или невольно. Но, как поступок, что сам по себе мог бы быть благим, может оказаться дурным в силу обстоятельств, так же точно предмет, внутренне прекрасный, с иных точек зрения может нести в себе порчу. Мистер Дедал избрал путь внутреннего рассмотрения прекрасного, отбросив эти иные точки зрения. Однако у красоты есть и практическая сторона. Мистер Дедал – страстный почитатель художественного, а такие люди отнюдь не всегда оказываются и самыми практическими людьми на [белом] свете. Здесь патер Батт напомнил слушателям историю про короля Альфреда и старушку, которая пекла пироги, – как раз про теоретика и практика – и выразил в заключение надежду, что докладчик, следуя примеру короля Альфреда, не будет слишком суров к тем практикам, которые критиковали его.
Председатель в заключительном слове выразил похвалу докладчику за его стиль, но сказал также, что докладчик явно забыл о принципе, согласно которому искусство предполагает отбор. Он находит, что обсуждение доклада было весьма поучительным и выражает уверенность, что все присутствующие благодарны отцу Батту за его ясную и отточенную критику. Мистер Дедал подвергся несколько суровому обхождению, но, с учетом многих блестящих достоинств его доклада, он (председатель) полагает, что есть полные основания предложить собравшимся членам Общества выразить единодушную и глубокую благодарность мистеру Дедалу за его превосходный и содержательный доклад! Предложение было принято единогласно, хотя и без особого энтузиазма.
Стивен, поднявшись, поклонился. Было в обычае, чтобы докладчик использовал этот момент для ответа критикам, но Стивен удовольствовался ответом на выражение благодарности. Кое-кто призывал его высказаться, но после того, как председатель выждал с минуту безрезультатно, заседание быстро завершилось. Не прошло и пяти минут, как Физическая аудитория опустела. Внизу в вестибюле молодые люди деловито надевали пальто и закуривали. Стивен огляделся кругом в поисках отца и Мориса и, не увидев их, отправился домой в одиночестве. На углу Стивенс-Грин ему повстречалась группа из четырех юношей – Мэдден, Крэнли, студент-медик, которого звали Темпл, и один клерк, служивший в таможне. Мэдден взял Стивена под руку и сказал утешительным тоном, втихомолку от других:
– Ну вот, старина, я же говорил, что эти чурбаны не поймут. Для них это слишком здорово.
Стивена тронуло это дружеское участие, но он покачал головой в знак того, что хотел бы переменить тему. К тому же он знал, что Мэдден, в действительности, понял в докладе очень мало и того, что понял, не одобрял. Когда Стивен поравнялся с четверкой, они брели медленно по улице, обсуждая вылазку в Уиклоу, которую намечали на Святой Понедельник. Стивен шел по обочине тротуара рядом с Мэдденом, так что вся компания продвигалась по широкому тротуару в одну шеренгу. Крэнли, идущий в центре, держал под руку Мэддена и клерка с таможни. Стивен рассеянно прислушался. Крэнли изъяснялся (как было в обычае у него, когда он на досуге прогуливался с товарищами) на некоем языке, в основе которого была латынь, а суперструктура заимствовалась из ирландского, французского и немецкого:
– Atque ad duas horas in Wicklowio venit.
– Damnum longum tempus prendit, – откликнулся клерк с таможни.
– Quando… то есть… quo in… bateau… irons-nous? – спросил Темпл.
– Quo in batello? – спросил Крэнли. – In «Regina Maris»[23].
Итак, немного посовещавшись, молодые люди решили отправиться в Уиклоу на «Королеве морей». Внимать этому разговору было для Стивена большим облегчением: через несколько минут он уже перестал так остро чувствовать язвящую боль своего «крушения. Крэнли, заметив наконец идущего по обочине тротуара Стивена, произнес:
– Ессе orator qui in malo humore est.
– Non sum, – парировал Стивен.
– Credo ut estis, – возразил Крэнли.
– Minime.
– Credo ut vos sanguinarius mendax estis quia facies vestra mostrat [sic] ut vos in malo humore estis»[24].
Мэдден, не вполне владевший этим наречием, вернул компанию к английскому. У клерка с таможни засело, по-видимому, в голове, что он должен выразить восхищение стилем Стивена. То был высокий молодой человек крепкого сложения, полнолицый; в руке он держал «зонтик». Он был на несколько лет [моложе] старше всех своих сотоварищей, но принял решение подготовиться для получения степени по отделению философии и морали. Он всюду сопровождал Крэнли, и красноречие последнего как раз и было причиной, заставившей его посещать вечерние занятия в колледже. Крэнли проводил большую часть времени, убеждая молодых людей переменить курс своей жизни. Клерка с таможни звали О’Нил. Он был славный малый, всегда отзывавшийся астматическим смехом на невозмутимые розыгрыши Крэнли, но больше всего его интересовали сведения о любой возможности умственного совершенствования. Он ходил на заседания дискуссионного общества и студенческого братства, поскольку благодаря этому был «в курсе» университетской жизни. Будучи осторожным и осмотрительным, он тем не менее позволял Крэнли «поддевать» его по поводу девушек. Стивен попытался уклонить компанию от пересудов по поводу его доклада, однако О’Нил воспринял тему как случай, которым необходимо воспользоваться. Он начал задавать Стивену вопросы в духе тех, что можно найти в альбомах признаний юных девиц, и Стивену подумалось, что умственные небеса его должны весьма походить на галантерейный магазин. Темпл был цыганского вида неотесанный юнец со спотыкающейся походкой и такою же спотыкающейся речью. Он был с Запада страны и слыл за ярого революционера. После того как О’Нил беседовал некоторое время с Крэнли, получая от него более вежливые ответы, чем от Стивена, Темпл после нескольких фальстартов вставил-таки фразу:
– По-моему… чертовски шикарный был доклад.
Крэнли с холодной миной повернул лицо к говорящему, однако [О’Нил] Темпл продолжил:
– Как он энтих расшевелил.
– Habesne bibitum?[25] – спросил Крэнли.
– Извиняйте, сэр, – спросил [О’Нил] Темпл у Стивена через головы шедших между ними, – а вы в Иисуса верите?.. Я вот не верю в Иисуса, – добавил он.
Тон этого заявления вызвал громкий смех Стивена, и смех продолжился, когда Темпл пошел спотыкаться чрез некое подобие извинений:
– Так я ж не знаю… если вы в Иисуса верите… Вот я верю в Человека… Если вы верите в Иисуса… оно конечно… Негоже мне было приставать сразу как вас увидел… вы так небось располагаете?
О’Нил хранил торжественное молчание до тех пор, пока речь Темпла не перешла в невнятное бормотанье; затем он сказал таким тоном, как будто бы начинал совершенно новую тему:
– Меня до крайности заинтересовал ваш доклад, а также и речи… Что вы думаете о Хьюзе?
Стивен не ответил.
– Жулик паршивый, – сказал Темпл.
– Я думаю, его речь была самого дурного вкуса, – с сочувствием сказал О’Нил.
– Bellam boccam habet, – произнес Крэнли.
– Да, он хватил через край, пожалуй, – сказал Мэдден, – но, знаете, это энтузиазм, бывает, его заносит.
– Patrioticus est[26].
– Раз орет – патриот! – сказал с визгливым смехом О’Нил. – Зато речь Батта была, по-моему, отличной – такая ясная, философская.
– А вы считаете так? – крикнул Темпл Стивену с середины тротуара. – Звиняйте… я хочу знать, чего он думает насчет речи Батта, – объяснял он одновременно троим [четверым] остальным… – Вы не считаете… что он тоже жулик паршивый?
Услыхав эту новую форму обращения, Стивен не мог удержаться от смеха, хотя речь патера Батта вызвала у него настроение, крайне далекое от благодушия.
– Да это те же самые штуки, какими он начиняет нас каждый день, – сказал Мэдден. – Знаем мы этот стиль.
– Его речь меня раздражила, – сухо произнес Стивен.
– А с чего? – спросил живо Темпл. – С чего она раздражила вас?
Вместо ответа Стивен состроил гримасу.
– Речь жулика паршивого, – сказал Темпл, – … а я вот рационалист. Я в эту религию ни в какую не верю.
– Я думаю, в некой части речи у него были добрые намерения, – медленно проговорил Крэнли после небольшой паузы, всем лицом повернувшись к Стивену. Стивен ответно поднял свой взгляд, [и встретил] твердо посмотрев в его блестящие черные глаза, и в то мгновение, когда взгляды их встретились, он ощутил надежду. Фраза не содержала ничего ободряющего; он весьма сомневался в ее истине; и все же он знал, что его коснулась надежда. В задумчивости он продолжал шагать рядом с четверкой юношей. На одной из бедных улиц, где они проходили, Крэнли остановился перед витриной небольшой лавочки с мелочным товаром, недвижно уставившись в старый пожелтевший номер «Дейли Грэфик», косо висевший за стеклом. Иллюстрация представляла зимний пейзаж. Никто не сказал ни слова, и поскольку молчание казалось воцарившимся надолго, Мэдден спросил, на что он смотрит. Крэнли посмотрел на спрашивающего и снова вернулся взглядом к пыльной картинке, мотнув тяжко головой в ее направлении.
– Чего там… чего там? – спросил Темпл, который разглядывал какие-то холодные crubeens[27] в соседней витрине.
Крэнли вновь повернул отсутствующее лицо к спрашивавшему его и указал на картинку со словами:
– Feuc an eis super stradam… in Liverpoolio[28].
Семейный круг Стивена между тем расширился благодаря возвращению Айсабел из монастыря. С некоторых пор ее здоровье ухудшилось, и монахини решили, что ей необходим домашний уход. Она вернулась домой через несколько дней после знаменательного события Стивенова доклада. Стоя у небольшого переднего окна, смотревшего на устье реки, Стивен увидел родителей, выходивших из трамвая; между ними шла худенькая бледная девочка. Отцу Стивена вовсе не улыбалось появление лишнего обитателя в доме, тем более дочери, которую он не слишком любил. Его раздражало, что возможность пребывания дочери в монастыре останется неиспользованной, но его чувство общественных приличий и долга было реальным, хотя и находящим приступами, и он ни за что бы не допустил, чтобы жена одна, без его помощи, отправилась забирать дочь домой. Его взгляд в будущее омрачался размышлениями о том, что дочь станет ему помехой, а не помощницей, а также и подозрением, что бремя ответственности, которое он благочестиво взвалил на плечи старшего сына, начинает этого юношу тяготить. Ему нравились, пожалуй, контрасты, и потому он ждал от своего отпрыска трудолюбия и трезвости, [и] однако нельзя сказать, чтобы он слишком желал обратного материального возвышения. От сына он всего лишь желал, чтобы тот вновь, в тисках обстоятельств, утвердил дух некоего неосязаемого превосходства, и за это Стивен давал ему условное оправдание. Но эта тонкая нить союза между отцом и сыном была порядком истрепана в испытаниях повседневности, и по причине ее хрупкости, а также и [неспособности] постепенного ржавения, начавшего разъедать ее верхний край, сигналы, передававшиеся по ней, делались все слабее и малочисленней.
Отец Стивена был вполне способен уговорить себя поверить тому, что было, как сам же он знал, неправдой. Он знал, что его разорение было делом его собственных рук, однако уговорил себя поверить, что то было дело рук других. Он питал то же отвращение к ответственности, что и его сын, не имея того же мужества. Он был из тех сумасбродных умников, у которых никакие доказательства не в силах победить первого впечатления. Его жена исполняла свой долг пред ним с поражающею буквальностью и тем не менее никогда не могла искупить греха своего происхождения. Расхожденья такого рода считают естественными в высших классах общества, однако ошибочно не признают их существования в мещанском сословии, где они зачастую выливаются в семейные раздоры с тупой, ненасытной ненавистью. Мистер Дедал ненавидел девичью фамилию своей жены с некой средневековой истовостью: она несла зловоние для ноздрей его. Узы союза с ней были единственным злом, в котором он, в полнейшей честности своей трусости, мог себя укорить. Теперь, когда он вступал в закатные года жизни, болезненно сознавая, что расточил удобные блага и накопил неудобные привычки, он обретал себе утешение и отмщение в тирадах столь бесконечных и столь часто повторяемых, что возникала опасность его превращения в маньяка. Вечерами его очаг становился сакраментальным свидетелем того, как эти отмщения вынашивались, бормотались, ворчались и извергались. Исключение в пользу жены, которое первоначально делалось его милосердием, вскоре исчезло из головы у него, и жена начала раздражать его символичностью своей покорности. Великий крах его жизненных надежд усугублялся утратой менее крупной и более острой – утратой чаемой славы. Имея некоторый доход и некоторые светские таланты, мистер Дедал привык считать себя центром какого-то малого мирка, любимцем какого-то небольшого общества. Он еще силился удержать это положение, но делал это ценой такой безрассудной широты, от которой его домашним приходилось страдать и материально и духовно. Ему рисовалось, что, пока он силится сохранять это иллюзорное положение, домашние дела его, чрез воздействие сына, понять которого он не делал никаких усилий, неким божественным образом исправятся. Когда он предавался этой надежде, она порой вносила враждебность в его чувство к сыну, которого он тем самым признавал имеющим превосходство над собой, однако ныне, когда ему приходилось подозревать надежду в напрасности, присутствие враждебности в этом чувстве делалось, судя по всему, одною из постоянных вех его эмоционального ландшафта. Понятие об аристократии, бывшее у сына, было отнюдь не тем, к какому он мог присоединиться, а молчание сына во время домашних баталий ему уже больше не казалось знаком согласия. Он был, на поверку, достаточно проницательным, чтобы заметить здесь скрытую угрозу для своих прав сеньора, и он не ошибся бы, решив, что сын рассматривает [эти] свое присутствие во время этих фальшивых и непристойных монологов как дань, взимаемую отцом в обмен на снабжение своевольного чада средствами существования…
Стивен принимал своих родителей не слишком всерьез. По его мнению, они установили с ним неправильные и неестественные отношения, и он полагал, что их привязанность к нему уравновешивается с его стороны внимательным обхождением с ними и искреннею готовностью оказывать им множество таких материальных услуг, которые, в своем нынешнем состоянии воинствующего идеализма, он мог рассматривать свысока как мелочи. Единственными материальными услугами, в которых он отказал бы им, были те, что он находил духовно опасными, и, как надлежит признать, его милосердие почти сводилось к нулю этим исключением, поскольку он культивировал независимость души, с которою могли совмещаться лишь очень немногие подчиненности. Божественные образчики укрепляли в этом его. Фраза, которую проповедники превращают в заповедь повиновения, казалась ему скудной, ироничной и недостаточно определенной, а рассказ о жизни Иисуса не оставлял у него впечатления [с] рассказа о жизни того, кто повиновался другим. Когда он был католиком в подлинном смысле слова, фигура Иисуса всегда казалась ему слишком «далекой и бесстрастной,» и из сердца его никогда не излилось ни единой пылкой молитвы к Искупителю: лишь Марии, как слабейшему и более влекущему сосуду спасения, вверял он свои духовные дела. Теперь его раскрепощение от дисциплины Церкви, казалось, совпадало с [естественным] инстинктивным возвращением к Основателю таковой, и этот импульс, возможно, привел бы его к признанию достоинств протестантизма, если бы другой естественный импульс не побуждал его упорядочивать даже то, что было самопротиворечащим и абсурдным. К тому же он не знал, не обязано ли папство своим высокомерием самому Иисусу в той же мере, как нежеланию и несогласию заходить в какой бы то ни было теме дальше «Аминь, глаголю вам»; но зато он был совершенно уверен в том, что за криптическими речениями Иисуса стояла гораздо более определенная концепция, нежели все те, что могли, при любых ожиданиях, открываться за протестантским богословием.
– Занеси в свой дневник, – сказал он всезаписывающему Морису. – Протестантская ортодоксия – как собачка Ланти Макхейла, что каждому хвостиком виляет.
– Мне кажется, эту собачку дрессировал апостол Павел, – ответил Морис.
Зайдя однажды случайно в колледж, Стивен обнаружил Макканна, стоящего в вестибюле с длинным адресом в руках. Другая часть адреса лежала на столе, и почти все студенты колледжа, подходя, ставили под адресом свои подписи. Макканн красноречиво ораторствовал перед небольшой собравшейся группой, и Стивен узнал, что адрес был приветствием студентов Дублинского университета русскому царю. Мир во всем мире; разрешение всех конфликтов через третейский суд; всеобщее разоружение наций – таковы были те благодеяния, за которые студенты слали свою благодарность. На столе были выставлены две фотографии, одна – русского царя, другая – редактора «Ривью оф ривьюз»; на обеих стояли подписи этой знаменитой четы. Макканн стоял боком к свету, и Стивена позабавило замечавшееся сходство между ним и миролюбивым императором, который был снят в профиль. Вид осоловелого Христа, который имел царь, пробудил в нем презрение, и он обернулся, ища поддержки, к стоявшему у дверей Крэнли. На голове у Крэнли была сильно перепачканная шляпа желтой соломки в форме перевернутого ведра, и под ее укрытием лицо его застыло в матово-тусклом спокойствии.
– Похож на плаксивого Джейсуса, правда? – спросил Стивен, показывая на фотографию царя и пользуясь дублинским вариантом имени как выразительного общеизвестного существительного[29].
Крэнли взглянул туда, где стоял Макканн, и, кивнув, ответил:
– Плаксивого Джейсуса и волосатого Джейсуса.
Макканн в эту минуту заметил Стивена и сделал знак, что через минуту подойдет к нему.
– Ты подписал? – спросил Крэнли.
– Эту штуку? Нет – а ты?
После некоторого колебания Крэнли издал весьма замедленное «Да».
– Зачем?
– Зачем?
– Ну да.
– Чтобы был… Pax.
Стивен заглянул под ведроподобную шляпу, однако не сумел прочесть никакого выражения на лице ближнего своего. Взгляд его, блуждая, достиг засаленной вершины головного убора.
– Боже правый, чего ради ты это напялил? Страшной жары как будто нет, правда? – спросил он.
Крэнли не спеша снял шляпу и уставился в ее бездонные глубины. После небольшой паузы, указывая на нее, он сказал:
– Viginti-uno-denarios.
– Где? – спросил Стивен.
– Я купил ее, – произнес Крэнли весьма внушительно и весьма подчеркнуто, – прошлым летом в Викла[30].
Он снова глянул на шляпу и сказал «с насмешливой теплотой»:
– Не так уж… не так уж и дрянь… шапчонка… понимашь ты.
И он неспешно водрузил ее обратно на голову, продолжая по инерции бормотать себе под нос: «Viginti-uno-denarios».
– Sicut bucketus est[31], – заключил Стивен.
Далее тема не обсуждалась. Из одного из карманов Крэнли извлек маленький серый шарик и принялся тщательно исследовать его, делая отметины во многих точках поверхности. Наблюдая за этой операцией, Стивен услышал, как к нему обращается Макканн.
– Я хочу, чтобы ты подписал этот адрес.
– О чем?
– Адрес выражает восхищение мужеством, которое проявил русский царь, когда выпустил рескрипт к мировым державам, где он защищает принцип третейского суда вместо войн в качестве средства разрешения споров между нациями.
Стивен покачал головой. В этот момент Темпл, который слонялся по вестибюлю в поисках единомышленников, приблизился к нему и спросил: