Преодоление (сборник) Дьяченко Александр
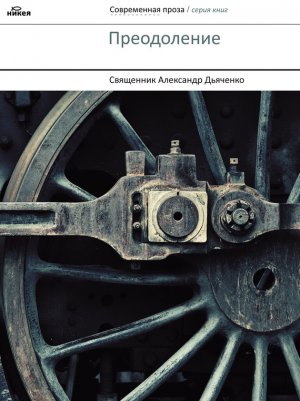
Проверки на дорогах
Незадолго до Нового года моему хорошему товарищу пришла печальная весть. В одном из маленьких городков соседней области был убит его друг. Как узнал, так сразу же и помчался туда. Оказалось, ничего личного. Большой, сильный человек лет пятидесяти, возвращаясь поздно вечером домой, увидел, как четверо молодых парней пытались насиловать девчонку. Он был воин, настоящий воин, прошедший многие горячие точки.
Заступился не задумываясь, с ходу бросился в бой. Отбил девушку, но кто-то изловчился и ударил его ножом в спину. Удар оказался смертельным. Девушка решила, что теперь убьют и ее, но не стали. Сказали:
– Живи пока. Хватит и одного за ночь, – и ушли.
Когда мой товарищ вернулся, я, как мог, попытался выразить ему свое соболезнование, но он ответил:
– Ты меня не утешай. Такая смерть для моего друга – это награда. О лучшей кончине для него трудно было бы и мечтать. Я его хорошо знал, мы вместе воевали. На его руках много крови, может, и не всегда оправданной. После войны он жил не очень хорошо. Сам понимаешь, какое было время. Долго мне пришлось убеждать его креститься, и он, слава Богу, не так давно принял крещение. Господь забрал его самой славной для воина смертью: на поле боя, защищая слабого. Прекрасная христианская кончина.
Слушал я моего товарища и вспоминал случай, который произошел со мной.
Тогда шла война в Афгане. В действующей армии, в связи с потерями, потребовалось произвести срочные замены. Кадровых офицеров из частей перебросили туда, а на их места призвали сроком на два года запасников. Незадолго до того я вернулся из армии и оказался среди этих «счастливчиков». Таким образом, мне пришлось отдать свой долг Родине дважды.
Но поскольку воинская часть, в которой я служил, находилась не очень далеко от моего дома, то все для нас сложилось благополучно. На выходные дни я часто приезжал домой. Моей дочурке было немногим больше года, жена не работала, а денежное содержание офицеров было тогда хорошее.
Домой мне приходилось ездить электричками. Иногда в военной форме, иногда в гражданке. Однажды, это было осенью, я возвращался в часть. Приехал на станцию минут за тридцать до прихода электропоезда. Смеркалось, было прохладно. Большинство пассажиров сидело в помещении вокзала. Кто-то дремал, кто тихо разговаривал. Было много мужчин и молодых людей.
Вдруг, совершенно внезапно, дверь вокзала резко распахнулась и к нам забежала молоденькая девушка. Она прижалась спиной к стене возле кассы и, протянув к нам руки, закричала:
– Помогите, они хотят нас убить!
Тут же за ней вбегают как минимум четверо молодых людей и с криками: «Не уйдешь! Конец тебе!» – зажимают эту девчушку в угол и начинают душить. Потом еще один парень буквально за шиворот заволакивает в зал ожидания еще одну такую же, и та орет душераздирающим голосом: «Помогите!» Представьте себе эту картину.
Тогда еще обычно на вокзале дежурил милиционер, но в тот день его, как нарочно, не оказалось. Народ сидел и застыв смотрел на весь этот ужас.
Среди всех, кто был в зале ожидания, только я единственный был в военной форме старшего лейтенанта авиации. Если бы я был тогда в гражданке, то вряд ли встал, но я был в форме.
Встаю и слышу, как рядом сидящая бабушка выдохнула:
– Сынок! Не ходи, убьют!
Но я уже встал и сесть назад не мог. До сих пор задаю себе вопрос: как это я решился? Почему? Случись бы это сегодня, то, наверное, не встал бы. Но это я сегодня такой премудрый пескарь, а тогда? Ведь у самого был маленький ребенок. Кто бы его потом кормил? Да и что я мог сделать? Еще с одним хулиганом можно было бы подраться, но против пяти мне и минуты не простоять, они просто размазали бы меня.
Подошел к ним и встал между ребятами и девушками. Помню, встал и стою, а что еще я мог? И еще помню, что больше никто из мужчин меня не поддержал.
К моему счастью, ребятки остановились и замолчали. Они ничего мне не сказали, и ни разу никто меня не ударил, только смотрели с каким-то то ли уважением, то ли удивлением.
Потом они, как по команде, повернулись ко мне спиной и вышли из здания вокзала. Народ безмолвствовал. Незаметно испарились девчушки. Наступила тишина, и я оказался в центре всеобщего внимания. Познав минуту славы, смутился и тоже постарался быстренько уйти.
Хожу по перрону и – представьте мое удивление – вижу всю эту компанию молодых людей, но уже не дерущихся, а идущих в обнимку!
До меня дошло – они нас разыграли! Может, им делать было нечего, и, ожидая электричку, они так развлекались или, может, поспорили, что никто не заступится. Не знаю.
Потом ехал в часть и думал: «Но я ведь не знал, что ребята над нами пошутили, я же по-настоящему встал». Тогда я еще далек был от веры, от Церкви. Даже еще крещен не был. Но понял, что меня испытали. Кто-то в меня тогда всматривался. Словно спрашивал: а как ты поведешь себя в таких обстоятельствах? Смоделировали ситуацию, при этом совершенно оградив меня от всякого риска, и смотрели.
В нас постоянно всматриваются. Когда я задаюсь вопросом, а почему я стал священником, то не могу найти ответа. Мое мнение, кандидат в священство все-таки должен быть человеком очень высокого нравственного состояния. Он должен соответствовать всем условиям и канонам, исторически предъявляемым Церковью к будущему священнику. Но если учесть, что я только в тридцать крестился, а до этого времени жил как все, то хочешь не хочешь пришел к выводу, что Ему просто не из кого выбирать.
Он смотрит на нас, как хозяйка, перебирающая сильно пораженную крупу, в надежде что-нибудь все-таки сварить, или как плотник, которому нужно прибить еще несколько дощечек, а гвозди закончились. Тогда он берет погнутые, ржавые, правит их и пробует: пойдут они в дело? Вот и я, наверное, такой ржавый гвоздик, да и многие мои собратья, кто пришел в Церковь на волне начала девяностых. Мы – поколение церковных строителей. Наша задача – восстановить храмы, открыть семинарии, научить то новое поколение верующих мальчиков и девочек, которые придут нам на смену. Мы не можем быть святыми, наш потолок – искренность в отношениях с Богом, наш прихожанин – чаще всего человек страдающий. И чаще всего мы не можем помочь ему своими молитвами, силенок маловато, самое большое, что мы можем, – это только разделить с ним его боль.
Мы полагаем начало нового состояния Церкви, вышедшей из гонений и привыкающей жить в период творческого созидания. Те, для кого мы работаем, должны прийти на подготавливаемую нами почву и прорасти на ней святостью. Поэтому, причащая младенцев, я с таким интересом всматриваюсь в их лица. Что ты выберешь, малыш, крест или хлеб?
Выбери крест, дружок! И мы вложим в тебя веру, а потом твою детскую веру и чистое сердечко помножим на нашу искренность, и тогда, наверное, наше служение в Церкви будет оправданно.
Всепобеждающая сила любви
Помню – я был еще мальчиком, лет десяти, – рядом с нами на одной лестничной площадке жила семья. Все семьи были военные, и поэтому соседи менялись достаточно часто. У тех соседей в квартире жила бабушка. Сейчас понимаю, что ей было немногим больше шестидесяти, а тогда думал, что ей все сто. Бабушка была тихой и неразговорчивой, не любила старушечьи посиделки и предпочитала одиночество. И была у нее одна странность. Перед подъездом стояли две отличные лавочки, но бабушка выносила маленькую табуреточку и садилась на нее лицом к подъезду, словно высматривала кого-то, боясь пропустить.
Дети – народ любопытный, и меня такое поведение старушки заинтриговало. Однажды я не выдержал и спросил ее:
– Бабушка, а почему ты сидишь лицом к двери, ты кого-то ждешь?
И она мне ответила:
– Нет, мальчик. Если бы я была в силах, то просто уходила бы в другое место. А так мне приходится оставаться здесь. Но у меня нет сил смотреть на эти трубы.
В нашем дворе стояла котельная с двумя высоченными кирпичными трубами. Конечно, лезть на них было страшновато, и даже из старших пацанов никто не рисковал. Но при чем тут бабушка и эти трубы? Тогда я не рискнул ее спрашивать, а через какое-то время, выйдя гулять, снова увидел сидящую в одиночестве мою соседку. Она словно ждала меня. Я понял, что бабушка хочет что-то мне рассказать, сел рядом с ней, и она, погладив меня по головке, сказала:
– Я не всегда была старой и немощной, я жила в белорусской деревне, у меня была семья, очень хороший муж. Но пришли немцы, муж, как и другие мужчины, ушел в партизаны, он был их командиром. Мы, женщины, поддерживали своих мужчин, чем могли. Об этом стало известно немцам. Они приехали в деревню рано утром. Выгнали всех из домов и, как скотину, погнали на станцию в соседний городок. Там нас уже ждали вагоны. Людей набивали в теплушки так, что мы могли только стоять. Ехали с остановками двое суток, ни воды, ни пищи нам не давали. Когда нас наконец выгрузили из вагонов, то некоторые были уже не в состоянии двигаться. Тогда охрана стала сбрасывать их на землю и добивать прикладами карабинов. А потом нам показали направление к воротам и сказали: «Бегите». Как только мы пробежали половину расстояния, спустили собак. До ворот добежали самые сильные. Тогда собак отогнали, всех, кто остался, построили в колонну и повели сквозь ворота, на которых по-немецки было написано: «Каждому – свое». С тех пор, мальчик, я не могу смотреть на высокие печные трубы».
Она оголила руку и показала мне наколку из ряда цифр на внутренней стороне руки, ближе к локтю. Я знал, что это татуировка, у моего папы был на груди наколот танк, потому что он танкист, но зачем колоть цифры?
– Это мой номер в Освенциме.
Помню, что еще она рассказывала о том, как их освобождали наши танкисты и как ей повезло дожить до этого дня. Про сам лагерь и о том, что в нем происходило, она не рассказывала мне ничего, наверное, жалела мою детскую голову. Об Освенциме я узнал уже позднее. Узнал и понял, почему моя соседка не могла смотреть на трубы нашей котельной.
Мой отец во время войны тоже оказался на оккупированной территории. Досталось им от немцев, ох как досталось. А когда наши погнали немчуру, то те, понимая, что подросшие мальчишки – завтрашние солдаты, решили их расстрелять. Собрали всех и повели в лог, а тут наш самолетик – увидел скопление людей и дал рядом очередь. Немцы на землю, а пацаны – врассыпную. Моему папе повезло, он убежал, с простреленной рукой, но убежал. Не всем тогда повезло.
В Германию мой отец входил танкистом. Их танковая бригада отличилась под Берлином на Зееловских высотах. Я видел фотографии этих ребят. Молодежь, а вся грудь в орденах, несколько человек – Герои. Многие, как и мой папа, были призваны в действующую армию с оккупированных земель, и многим было за что мстить немцам. Поэтому, может, и воевали так отчаянно храбро. Шли по Европе, освобождали узников концлагерей и били врага, добивая беспощадно. «Мы рвались в саму Германию, мы мечтали, как размажем ее траками гусениц наших танков. У нас была особая часть, даже форма одежды была черная. Мы еще смеялись, как бы нас с эсэсовцами не спутали».
Сразу по окончании войны бригада моего отца была размещена в одном из маленьких немецких городков. Вернее, в руинах, что от него остались. Сами кое-как расположились в подвалах зданий, а вот помещения для столовой не было. И командир бригады, молодой полковник, распорядился сбивать столы из щитов и ставить временную столовую прямо на площади городка.
«И вот наш первый мирный обед. Полевые кухни, повара, все, как обычно, но солдаты сидят не на земле или на танке, а, как положено, за столами. Только начали обедать, и вдруг из всех этих руин, подвалов, щелей как тараканы начали выползать немецкие дети. Кто-то стоит, а кто-то уже и стоять от голода не может. Стоят и смотрят на нас, как собаки. И не знаю, как это получилось, но я своей простреленной рукой взял хлеб и сунул в карман, смотрю тихонько, а все наши ребята, не поднимая глаз друга на друга, делают то же самое».
А потом они кормили немецких детей, отдавали все, что только можно было каким-то образом утаить от обеда, сами еще вчерашние дети, которых совсем недавно, не дрогнув, насиловали, сжигали, расстреливали отцы этих немецких детей на захваченной ими нашей земле.
Командир бригады, Герой Советского Союза, по национальности еврей, родителей которого, как и всех других евреев маленького белорусского городка, каратели живыми закопали в землю, имел полное право, как моральное, так и военное, залпами отогнать немецких «выродков» от своих танкистов. Они объедали его солдат, понижали их боеспособность, многие из этих детей были еще и больны и могли распространить заразу среди личного состава.
Но полковник, вместо того чтобы стрелять, приказал увеличить норму расхода продуктов. И немецких детей по приказу еврея кормили вместе с его солдатами.
Думаешь, что это за явление такое – Русский Солдат? Откуда такое милосердие? Почему не мстили? Кажется, это выше любых сил – узнать, что всю твою родню живьем закопали, возможно, отцы этих же детей, видеть концлагеря с множеством тел замученных людей. И вместо того, чтобы «оторваться» на детях и женах врага, они, напротив, спасали их, кормили, лечили.
С описываемых событий прошло несколько лет, и мой папа, окончив военное училище в пятидесятые годы, вновь проходил военную службу в Германии, но уже офицером. Как-то на улице одного города его окликнул молодой немец. Он подбежал к моему отцу, схватил его за руку и спросил:
– Вы не узнаете меня? Да, конечно, сейчас меня трудно узнать в том голодном оборванном мальчишке. Но я вас запомнил, как вы тогда кормили нас среди руин. Поверьте, мы никогда этого не забудем.
Вот так мы приобретали друзей на Западе, силой оружия и всепобеждающей силой христианской любви.
Я не участвовал в войне…
В день Победы мой отец, сколько я себя помню, обычно садился в одиночестве за стол. Мама, ни о чем заранее с ним не сговариваясь, доставала бутылку водки, собирала самую простую закуску и оставляла отца одного. Кажется, в такой праздник ветераны стараются собираться вместе, а он никогда никуда не ходил. Сидел за столом и молчал. Это не значит, что никто из нас не мог подсесть к нему, просто он словно уходил куда-то в себя и никого не замечал. Мог так весь день просидеть у телевизора и смотреть военные фильмы, одни и те же. И так из года в год. Мне было скучно сидеть и молчать, а отец ничего не рассказывал о войне.
Однажды, наверное классе в седьмом, я спросил его в этот день:
– Пап, а почему ты с войны пришел только с одной медалью, ты что, плохо воевал? Где твои награды?
Отец, к тому времени успев выпить пару рюмок, улыбнулся мне и ответил:
– Что ты, сынок, я получил самую большую награду, о какой только может мечтать солдат на войне. Я вернулся. И у меня есть ты, мой сын, у меня есть моя семья, мой дом. Разве этого мало? – Потом, словно преодолевая себя, спросил: – А ты знаешь, что такое война?
И он стал мне рассказывать. Единственный раз за всю мою жизнь я слушал его историю войны. И больше он никогда не возвращался к этому разговору, словно его вовсе и не было.
– Немец пришел к нам, когда мне было почти столько же, сколько тебе сейчас. Наши войска отступали, и в августе сорок первого мы уже оказались на оккупированной территории. Мой старший брат, твой дядя Алексей, был тогда в армии, он воевал еще с белофинской. А мы всей семьей остались под немцами. Кто у нас в селе только не перебывал: и румыны, и мадьяры, и немцы. Самыми жестокими были немцы. Все, что приглянется, забирали без спроса и убивали за любое непослушание. Румыны, помню, постоянно что-то меняли, ну чисто наши цыгане, мадьяры нас трогали мало, но и убивали, никого не спрашивая. В самом начале оккупации назначили двух сельских ребят, что постарше, полицейскими. Они только и делали, что с винтовками ходили, а так никого не трогали. Объявления развесят, вот и все. Никто про них ничего плохого не сказал.
Трудно было. Чтобы выжить, постоянно работали и все равно голодали. Не помню такого дня, чтобы дедушка твой расслабился, улыбнулся, зато помню, что бабушка все время молилась о воине Алексии. И так все три года. К началу сорок четвертого немец стал гонять нас, молодых ребят, на рытье окопов, укрепления для них строили. Мы знали, что наши подходят, и уже думали, как будем встречать их.
Немцы понимали, что мы – завтрашние солдаты. После освобождения вольемся в армию и будем воевать против них. Поэтому перед самым приходом наших они внезапно окружили село и стали выгонять молодых парубков из домов и собирать всех на центральной площади. А потом погнали за село к оврагу. Мы стали догадываться, что нас ждет, да куда деваться, конвой вокруг. И вдруг, на наше счастье, самолет. Летчик увидел непонятную колонну и зашел в боевой разворот. Зашел и дал, видать на всякий случай, очередь рядом с нами. Немцы залегли. А мы воспользовались моментом и врассыпную. Конвойные побоялись вставать во весь рост и стреляли по нам из автоматов с колен. Мне повезло, я скатился в лог и, только когда уже был в безопасности, обнаружил, что у меня прострелена рука. Пуля прошла удачно, не задев кости, и вышла чуть выше того места, где обычно носят часы.
Потом нас освободили. Боя за село не было, немцы отошли ночью, а утром нас разбудил грохот советских танков. Этим же днем всех собрали на площади, а на ней уже виселица стоит. Когда успели, вроде только пришли? На глазах у всего народа повесили обоих мальчишек-полицейских. Тогда не разбирались: раз у немцев служил, значит, виноват и судить тебя будут по закону военного времени. Это уже после войны бывших полицаев судили, а тогда не до того было. Как только тела несчастных повисли, так нам и объявили, что все мы, кто находился под оккупацией, теперь враги и трусы, а потому должны смыть свою вину кровью.
В этот же день началась работа военно-полевого комиссариата. Из нашего села и из окрестностей много собрали таких, как я. Мне тогда было семнадцать с половиной, а были и те, кому еще и семнадцати не стукнуло. Никогда не думал, что начнем воевать именно так. Представлял, что нас переоденут в военную форму, присягу примем, автоматы дадут. А никто и не думал этого делать. На дворе сорок четвертый год, это же не сорок первый, оружия было вдоволь, а нам – по одной винтовке на троих. Кто в лаптях, кто в опорках, а кто и босиком, так и пошли на передовую.
И вот таких необученных мальчишек погнали искупать вину тех, кто бросил нас в сорок первом на милость победителя. Нас швыряли в атаки перед регулярными войсками. Это очень страшно – бежать в атаку, да еще без оружия. Бежишь и кричишь от страха, больше ты ничего и не можешь. Куда бежишь? Зачем бежишь? Впереди пулеметы, сзади пулеметы. От этой жути люди с ума сходили. – Отец невесело усмехнулся. – После первой атаки я не мог рот закрыть, вся слизистая не просто высохла, а покрылась коростой. Потом меня уже научили, что, прежде чем бежать, нужно на мокрый палец соли набрать и зубы намазать.
Мы месяц шли перед войсками, в наш отряд добавлялись все новые и новые «предатели». У меня уже был трофейный автомат, и я научился спасаться от пуль. Когда пришел приказ 1926-й год снять с фронта, оказалось, что из нашего села снимать-то уже и некого. Вон сейчас на черном обелиске в центре села все мои дружки записаны. Зачем это сделали, неужели так было нужно? Сколько народу за просто так положили. Почему нас никто не пожалел, ведь мы были почти еще дети?
И знаешь, что было самое изматывающее? На самом деле даже не эти атаки, нет, а то, что за мной весь этот месяц отец на подводе ехал. И после каждого боя штрафников он приходил, чтобы забрать тело сына и похоронить по-людски. Отца не пускали к нам, но я иногда видел его издалека. Я очень жалел его, и мне хотелось, чтобы меня поскорее убили, ведь все равно убьют, что же старику мучиться. А мама все это время молилась, не вставала с колен, и я это чувствовал.
Потом я попал в учебку, стал танкистом и продолжил воевать. Твой дядя Леша в двадцать шесть уже был подполковником и командиром полка, а Днепр форсировал рядовым штрафбата. Удивляешься? Война, брат, а у войны своя справедливость. Всем хотелось выжить, и часто за счет других.
Батя тогда курил, он затянется, помолчит, словно смотрит куда-то, в глубину лет, а потом снова продолжает:
– После Днепра ему вернули ордена, восстановили в партии, а звание оставили «рядовой». И ведь он не озлобился.
Мы с твоим дядей дважды на фронте пересекались. И только мельком. Один раз из проезжающего мимо грузовика, слышу, кричит кто-то: «Хлопцы! А у вас такого-то нету?» – «Да как же нету?! Вот я!» Стоим в проезжающих навстречу друг другу машинах и машем руками, а останавливаться нельзя: колонны идут. А другой раз на станции, наш состав уже двигаться начал, а я его вдруг увидел. «Алеша, – кричу, – братик!» Он к вагону, мы руки друг к другу тянем, чтобы прикоснуться, а не можем. Долго он мне вслед бежал, все догнать хотел.
В самом начале сорок пятого еще двое бабушкиных внуков ушли на фронт, твои двоюродные братья. Женщины на Украине рано рожают, а я в семье был самым последним, ну и, понятное дело, самым любимым. У старшей сестры сыновья подрасти успели, вот на фронт и попали. Бедная моя мама, как она вымаливала Алешу, потом меня, а потом еще и внуков. Днем – в поле, ночью – на коленях.
Все было, и в танке горел, на Зееловских высотах под Берлином, вдвоем с командиром роты живыми остались. Последние дни войны, а у нас столько экипажей сгорело, какой же все-таки кровью нам эта Победа далась!
Да, война закончилась, и все мы вернулись, в разное время, но вернулись. Это было как чудо, представляешь, четверо мужчин из одного дома ушли на фронт, и все четверо вернулись. Вот только бабушка не вернулась с той войны. Нас вымолила, успокоилась, что все мы живы, здоровы, плакала от счастья, а потом умерла. Совсем еще нестарая женщина, ей даже шестидесяти не было.
В тот же победный год она сразу тяжело заболела, промучилась еще немного и умерла. Простая неграмотная крестьянка. Какой наградой, сынок, оценишь ее подвиг, каким орденом? Ее награда от Бога – сыновья и внуки, которых она не отдала смерти. А то, что от людей, все это суета, дым.
Отец потрепал меня по волосам:
– Сын, живи порядочным человеком, не подличай по жизни, не приведи Бог, чтобы кто плакал из-за тебя. И будешь ты мне орденом.
А потом вновь продолжил:
– Известие о смерти матери пришло ко мне под бывший Кёнигсберг уже слишком поздно. Обратился я к командиру. А командиром у нас тогда был полковник, грузин. Ходил в шинели до пят, и рядом с ним всегда немецкий дог. Хорошо он ко мне относился, хоть я и мальчишкой был, а он меня уважал. Потом уже, в сорок девятом, помню, вызвал к себе и спрашивает: «Старшина, учиться пойдешь? Хочешь офицером стать?» – «Так я же под оккупацией был, товарищ полковник, мне же доверия нет». Командир, помахав кулаком в адрес кого-то невидимого, крикнул: «А я тебе говорю, ты будешь офицером!» И стукнул по столу. Да так стукнул, что дог, испугавшись, залаял.
Пока получал отпуск, пока до дому добирался – неделю почти ехал. Уже и снег на полях лежал. Пришел я на кладбище, поплакал над маминой могилкой и назад поехал. Еду и дивлюсь, что еще плакать не разучился. Маминых фотографий не осталось, и я запомнил ее такой, какой видел в последний раз, когда она бежала за нашей колонной, тогда, в сорок четвертом.
В какой-то год Великой Победы всем фронтовикам стали вручать ордена Отечественной войны. Поглядели в военкомате, а по документам получается, что батя мой и не воевал. Кто помнил номер того военно-полевого комиссариата, что призывал отца в штрафбат, кто заводил на него личное дело, если он и выжил-то по недоразумению? Да еще и всю оставшуюся войну прошел без царапины. Никаких отметок о лечении в госпиталях. Медаль за войну есть, а документов нет. Значит, и орден не положен. Я тогда сильно переживал за отца, обидно было.
– Пап, – говорю, – давай в архив писать, справедливость восстанавливать.
А он мне спокойно так отвечает:
– Зачем? Мне разве чего-то не хватает? У меня и за погоны пенсия немаленькая. Я тебе и сейчас еще помочь могу. А потом, понимаешь, такие ордена не выпрашивают. Я-то знаю, за что его на фронте давали, и знаю, что я его не заслужил.
Дядя Леша умер в начале семидесятых. Работал директором школы в своем селе. Коммунист был отчаянный, и все с Богом воевал, на Пасху народ в церковь, а дядька мой хату красит, и все тут. Умер совсем еще не старым, прости его, Господи. А еще через несколько лет мы с отцом приехали к нему на родину. Мне тогда было 17.
Помню, заходим во двор дяди-Лешиного дома. Вижу, больно бате от того, что уже нет его брата. Приехали мы в начале осени, еще было тепло, заходим во двор, а во дворе большая куча опавших листьев. И среди листьев разбросанные игрушки уже дядиных внуков. И вдруг я замечаю среди этой павшей листвы и мусора ордена… Красного Знамени, еще без колодки, из тех, что прикручивались к гимнастерке, и два ордена Красной Звезды. И отец тоже увидел.
Он опустился в листву на колени, собрал в руку ордена брата, смотрит на них и словно чего-то понять не может. А потом снизу вверх посмотрел на меня, а в глазах его такая беззащитность: как же, мол, вы так с нами, ребята? И страх: неужели все это может быть забыто?
Сейчас мне уже столько же лет, сколько было моему отцу, когда он рассказывал мне о той войне, и рассказал-то только один-единственный раз. Я давно уехал из дому и редко вижу отца. Но замечаю за собой, что все последние годы на День Победы, после того как отслужу панихиду по погибшим воинам и поздравлю ветеранов с праздником, прихожу домой и сажусь за стол. Сажусь один, передо мной простая закуска и бутылка водки, которую я никогда и не выпью в одиночку. Да я и не ставлю такой цели, она скорее для меня символ, ведь и отец ее никогда не выпивал. Сижу и целый день смотрю фильмы о войне. И никак не могу понять, почему для меня это стало так важно, почему не моя боль стала моей? Ведь я же не воевал, тогда почему?
Может быть, это и хорошо, что внуки играют боевыми наградами дедов, но только нельзя нам, вырастая из детства, забывать их вот так, на мусорной куче, нельзя, ребята.
Герои и подвиги
Совсем еще маленьким мальчиком я приехал вместе с родителями в Монголию. Мой папа тогда был направлен в ряды дружественной нам монгольской армии для формирования танковых частей. Вместе с ним служили и другие наши офицеры, на выходные или праздники они иногда собирались и отдыхали чисто мужской компанией. Почему-то папа часто брал меня с собой, а других детей я там не помню. Наверное, он не хотел со мной расставаться в редкие дни отдыха. Он много работал, и я почти не видел его дома.
Любили порыбачить. Ловили тайменей, я только тогда и видел, как ловят таких огромных рыбин. Готовили уху и, понятное дело, любили посидеть за столом, поговорить, очень хорошо пели. Однажды один из друзей моего отца, видимо наблюдая за мной, как я прутиком, словно саблей, рублю высокую траву, подозвал меня к себе и сказал:
– Ну, скажу я тебе, ты у нас настоящий герой. А раз так, то мы тебя и наградим. – Он снял с себя и приколол мне на рубашку замечательный значок: звезда на подвесочке.
Как она мне понравилась, как мне хотелось выпросить у доброго дяди этот значок, но когда я увидел, с каким уважением мой папа смотрел на звезду, то не решился, а потом, поиграв немного, сам вернул значок назад. Помню, как папа тогда сказал мне:
– Запомни, сынок, этот день. Сейчас ты этого не вместишь, но когда-нибудь я расскажу тебе, что это за звезда.
Прошло время, мне уже было лет восемь. Мы жили в Бобруйске и пошли с папой в музей. На стене в одном из залов, где была представлена экспозиция истории Великой Отечественной войны на земле Белоруссии, висел рисованный маслом портрет молодого сержанта с описанием подвига, совершенного им при освобождении Бобруйска.
– Помнишь того дядю, что прикрепил тебе звезду на рубашку? Вот это он и есть, только здесь он еще совсем молодой. А звезда, что тебе тогда дали поносить, это Золотая Звезда Героя Советского Союза, наша высшая боевая награда. Из его рук ты прикоснулся к подвигу. И запомни, мальчик, каждый мужчина должен быть способен на подвиг и должен готовиться к нему всю жизнь. Иначе он не мужчина, а дрянь.
– Папа, а что такое подвиг? – спросил я его.
– Это способность пожертвовать своей жизнью ради жизни других, – ответил мне папа. Вот именно этими словами и ответил.
После разговора с отцом я стал интересоваться героями и их подвигами. Меня поражало, что среди героев было так много молодых людей и даже подростков. Папа рассказывал о своих однополчанах, отмеченных этой высокой наградой. А среди тогдашних его сослуживцев я насчитал четырех кавалеров Золотой Звезды, причем совсем не в высоких чинах. Среди них был даже один капитан, который и в запас вышел в этом же звании.
У меня, маленького мальчика, появилась мечта тоже стать героем, но как? Я тогда этого не знал. Зато герои стали для меня, ребенка из военной семьи, действительно кумирами. И вы меня поймете, почему однажды, проезжая по Москве и увидев Героя, стоящего возле входа в продовольственный магазин, я сошел с трамвая и побежал назад. Мне очень хотелось рассмотреть его внимательнее, шутка ли, настоящий Герой.
Мужчине с Золотой Звездой на лацкане пиджака на вид было лет сорок пять – пятьдесят. Небольшого роста, с животиком, на голове порядочная лысина. То есть вид его был совершенно негероический, но Звезда, она сияла на солнце и свидетельствовала об обратном. Я в восхищении кружил вокруг Героя, и если бы у меня, как у любого сегодняшнего мальчишки, был с собой мобильник с камерой, то я наснимал бы целую кучу его фоток. Передо мной стоял памятник, да-да, именно памятник, только пока еще живой. Мне очень хотелось узнать: а за что он получил такую высокую награду и в каких войсках воевал? Мое воображение рисовало его отважным летчиком, или отчаянным танкистом, или… Но тут из магазина вышла, видимо, его жена, женщина больших форм, с двумя такими же огромными, как и она сама, сетками, набитыми покупками в серых бумажных пакетах, и отдала их мужу.
Герой безропотно взял сетки и, не говоря ни слова, пошел вслед за женой. Он шел и нес авоськи! Памятник сошел с пьедестала и нес авоськи! Нет, это было невозможно, мне словно в душу наплевали. Я прочитал столько книжек о героях, мне представлялось, что они с автоматами и спать ложатся, и плакать не умеют, и говорят только киношными штампами. А уж женщины не могли иметь над ними абсолютно никакой власти. Это герои должны были повелевать, и вот на тебе, такой конфуз.
И в тот момент я пришел к мысли, что героями должны быть только те, кто погиб при исполнении, чтобы они оставались маяками и не смущали нас тем, что живут, как обычные люди, едят и пьют, как любой из нас, и даже такие вот огромные авоськи таскают.
Уже став молодым человеком, я столкнулся с поразившим меня фактом. Оказалось, что один из Героев, живший в нашем районе в одной из деревень, работал перевозчиком на лодке. Когда река разливалась, то он перевозил людей с одного ее берега на другой. В очередной юбилей Победы спохватились, что в районе живет Герой, которого вполне можно было бы сажать в президиумы в дни торжеств. Поехали в деревню на разведку. Приехали, из машины вышли, подошли к перевозу и кричат местному «харону»:
– Эй, мужик, где у вас тут Герой живет?
Так тот сперва даже и не сообразил, что это его ищут, и уж только потом, когда его фамилия прозвучала, сказал, что это он.
– И Звезда есть? Предъявить можешь?
А он, оказывается, ее давно пропил. Но к торжеству успели сделать дубликат, и Герой стоял на трибуне среди почетных гостей.
А не так давно я на канале «Звезда» слушал историю, что произошла в годы войны. Рассказывал ее Герой, летчик. Он вспоминал, как приехал в Москву за новой техникой, и его поселили в гостинице вместе с летчиками-штурмовиками, которые тоже получали новые машины. Ребята привезли с собой целый чемодан денег и беспощадно пили во все время командировки. Когда деньги закончились, то им подсказали адрес одного грузина, который хотел купить Золотую Звезду, а все эти летчики были Героями. И все пятеро продали свои Звезды этому барыге. Уже после войны от однополчан тех штурмовиков летчик-герой узнал, что никто из них не дожил до Победы.
В 2007 году мне посчастливилось пообщаться с одним ветераном, который стал Героем в двадцать два года. И я задал вопрос, который меня, честно говоря, давно занимал:
– Трудно ли быть Героем?
Сперва он меня не понял, а потом сказал:
– Никто не знает, как поведет себя в ту или иную минуту. На фронте боятся все, и не верьте, что Героями рождаются, нет, ими действительно становятся. Здесь все важно: любовь к своей семье и своей земле – все. Когда совершаешь подвиг, то не думаешь, что совершаешь именно подвиг. Ты делаешь все, что в твоих силах в создавшейся обстановке. Тогда не думаешь, уцелеешь или погибнешь, главное – выполнить задачу. Здесь нужны и голова, и смекалка. И все же во многом обстоятельства делают человека героем. Он не думает, что через два часа пойдет совершать подвиг, он просто исполняет приказ. И потом кого-то заметили и наградили высоким званием, а сколько солдат на передовой совершали беспримерные подвиги, но остались незамеченными начальством, или их наградные документы затерялись, или кто-то решил, что национальностью или происхождением они не достойны быть Героями. Я думаю, что всех, кто честно прошел войну, должны почитать как героев. Знаете, мне кажется, что Юрий Алексеевич Гагарин действительно много лет готовился к подвигу и сознательно его совершил, а на фронте во многом, правда, это чаще касается солдат и младших офицеров, какими мы тогда и были, подвиг – дело случая, удачи.
Когда я рассказал ему о моих детских мыслях, после встречи с Героем на улицах Москвы, том самом «памятнике», он долго смеялся, а потом сказал:
– Стать Героем тяжело, но еще труднее жить героем. Трудно соответствовать такой высокой планке. Ведь все твои соседи знают, что ты Герой, все знакомые смотрят на тебя как на пример в поведении и словах. Так что даже и в быту уже не позволяешь себе расслабиться: и лишнюю рюмку не выпьешь, и анекдот «соленый» не расскажешь, и мусор в шортах выбрасывать не пойдешь. И еще самое главное – очень трудно не возгордиться, не начать смотреть свысока на других и не требовать для себя чего-то особенного.
Кстати, скажу несколько слов о Гагарине, что это был за человек. Когда мой отец еще служил в Монголии, закончился срок командировки нашего советника. И он с семьей отправился к новому месту назначения. Вещи контейнером отослали, а сами заехали в Москву, на родину жены советника. И вот такая беда, муж умер прямо в гостях у тещи. Что делать? Женщина давно потеряла московскую прописку, жилья своего не было, дочка училась в Иркутском университете, поближе к прежнему месту службы отца. Стоял вопрос даже элементарно о деньгах, чтобы достойно похоронить офицера.
И вот кто-то посоветовал вдове пойти к Юрию Алексеевичу, он тогда был депутатом Верховного Совета и имел свою приемную. Женщина и пришла под двери этой приемной. Гагарина не было, куда идти, где его искать? Сидит и плачет. Вдруг слышит:
– Женщина, что случилось? Почему вы плачете? Пойдемте ко мне.
Поднимает глаза – и такое до боли знакомое каждому из нас лицо.
Когда та рассказала о своих проблемах, Гагарин задал ей вопрос:
– Что вы хотите, чтобы я для вас сделал?
И та попросила, восстановить ей прописку в Москве и перевести дочь из Иркутска в Московский университет.
Гагарин открыл сейф, достал пачку денег и отдал вдове:
– Это вам на похороны и на первое время в Москве.
Он записал все ее данные, и действительно девочку вскоре перевели в Московский университет, а вдове не только восстановили прописку, но и, как семье военнослужащего, им с дочерью выделили отдельную квартиру.
Когда слышу о Гагарине, сразу вспоминается эта история, и вы знаете, затрудняюсь сказать, за что я его больше уважаю. За тот полет или за то, что, став на то время самым знаменитым жителем Земли, безусловно, Героем, сумел остаться еще и Человеком, способным вот так близко к сердцу принять чужую беду и помочь незнакомым ему людям? И еще неизвестно, в каком подвиге больше героизма, в первом или втором.
Суд совести
Как-то пригласили меня освятить одну квартиру у нас в поселке. Звонили по телефону, хотя я обычно прошу, чтобы человек, прежде чем приглашать священника на дом, если он, конечно, в состоянии, сперва сам пришел в церковь и пообщался со мной. Ведь он же должен понимать, зачем к нему в дом придет священник. Может быть, для начала и нужен такой разговор. Ведь прежде чем чистить стены, хорошо бы почистить души. Уйдет священник из дома, где стали чистыми шкафы и диваны, а источник грязи в сердцах человеческих останется. И что же? Снова через год освящать?
Звоню в дверь, мне открывает уже седой, но еще достаточно крепкий мужчина. Его лицо показалось мне знакомым. Где бы я мог его видеть? Конечно, в поселке с населением семь тысяч человек все, хотя бы мельком, видятся друг с другом. Но его лицо было мне не просто знакомо. Память у меня хорошая, я стал вспоминать, где же я с ним пересекался, – и вспомнил.
Я видел его на фотографии среди воинов-интернационалистов. Вспомнил, что обратил внимание на его многочисленные боевые награды. Среди них орден Боевого Красного Знамени и два ордена Красной Звезды. В наше время такие ордена просто так не давали.
Хозяин квартиры оказался военным летчиком. И в свое время совершил, как это сегодня принято называть, несколько командировок в Афганистан. А попросту говоря, воевал в Афгане. Геннадий, так звали офицера, был пилотом бомбардировщика. Он вылетал на позиции, указанные ему командованием, и бомбил места концентрации войск противника.
Бомбили и позиции душманов, ну и деревни, или аулы, где эти люди жили. Хотя у противника не было своей авиации, зато были переносные зенитные комплексы. С их помощью афганцы научились ловко сбивать наши самолеты. Так что во время полетов всегда приходилось иметь в виду, что ты в любой момент можешь быть сбит. Отсюда и риск, а соответственно, и те боевые награды, которыми отметили бывшего бомбардировщика.
– Что вас заставило пригласить священника? – спрашиваю его. – Вы человек верующий?
– Да не так чтобы очень верующий, скорее, как говорится, Бог у меня в душе. У меня проблемы со здоровьем, батюшка. Пока воевал, все было хорошо, никаких жалоб, а вот сразу же после войны в организме начался какой-то странный процесс. Мои кости стали истончаться, перестал усваиваться кальций и другие необходимые элементы.
Сначала меня списали с летной работы. А потом и вовсе вынужден был уволиться в запас. Самое главное – непонятна причина заболевания. Меня смотрели многие более-менее значимые специалисты в этой области. Ничего не могут найти. Болезнь есть, а причины болезни нет. Каждый год кладут в госпиталь, поддерживают лекарствами, но это скорее так, для очистки совести. Изучать меня изучают, но все без толку. Может, какая порча?
Пока Геннадий говорил, я вспомнил рассказ моей мамы о том, как в сорок первом немец бомбил подмосковный городок Павловский Посад. На железнодорожную станцию сбросили три бомбы. Мама тогда еще в школе училась. Когда бомбы рвались недалеко от их дома, то было так страшно, что она в поисках убежища забежала в туалет, что стоял у них во дворе, и голову спрятала в то самое отверстие. Когда пришла в себя, то все удивлялась, почему посчитала туалет самым безопасным местом. Зато потом всегда говорила:
– Уж я-то точно знаю, что означает «потерять голову».
– А может быть, причина в другом? – спросил я его. – Может, у тебя сперва душа заболела, а уж потом и тело? Ведь ты же бомбил не только боевиков, но и мирное население, все тех же детей и женщин. Проклятия матерей, потерявших своих детей, и плачь сирот, они ведь просто так без последствий не проходят. И поразить могут лучше любого «стингера».
– Война есть война, – отвечал он мне, – ты же знаешь: лес рубят – щепки летят. Всегда при таких делах будут жертвы среди невинных.
Я и предложил ему для начала покаяться в гибели по его вине вот этих самых невинных «щепок». Он обещал подумать.
Через какое-то время мы с ним случайно встретились.
– Что, – спрашиваю, – надумал?
– Не могу, – говорит. – Покаяться – значит считать себя неправым. Значит, то, что я делал, должно считаться неправильным. И что же получается, что я прожил жизнь впустую и должен теперь ее стыдиться, крест на ней поставить?
– Всякая прожитая жизнь – это школа души. У тебя было много доброго, но не обошлось и без злого. Пока есть силы покаяться, покайся в неправде и, насколько хватит отпущенного тебе времени, делай добро. Начни хотя бы заботиться о каком-нибудь сироте из нашего детского дома. Все ж зачтется.
В храм он не пришел, при каждой встрече мы сухо раскланиваемся и расходимся каждый в свою сторону. Но я надеюсь, что главный наш с ним разговор еще впереди.
Когда вся страна отмечала годовщину Сталинградской битвы, говорили, естественно, и о военачальниках, мудрость и хладнокровие которых во многом стали залогом этой самой победы. Звучало и имя легендарного командарма генерала Ч. Я тогда старался найти время и посмотреть, хотя бы немного, кадры военной хроники. На одном из телеканалов наткнулся на интервью, взятое в те дни у сына того генерала. И вот что меня поразило в его словах. Он рассказывал о последних месяцах жизни отца. И отец, обращаясь к сыну, говорил:
– Я закрываю глаза и вижу эти бесконечные маршевые роты. Солдаты идут мимо меня сплошными колоннами. Идут умирать. Это все те люди, которых я посылал в бой. Но разве я виноват в их смерти? Сынок, я же исполнял свой долг командующего, почему же они все идут и идут перед моими глазами? Когда все это прекратится? Я же не виноват.
Мы много и справедливо воздаем должное памяти наших славных маршалов и генералов, ставим им памятники, но забываем, что они точно такие же люди, как и все остальные, что им тоже когда-то пришлось подводить итоги своей жизни.
Но о том, как они умирали, мы ничего не знаем.
Как-то в метро, лет десять назад, я видел старенького генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза, он куда-то шел на костылях, еле передвигая ноги. Когда-то он был в силе, его возили на машине, соответствующей его должности. А теперь он немощный старик, который нужен, в лучшем случае, только своим детям да очередным историкам, пишущим очередные диссертации. И ему точно так же, как и рядовому солдату, подошло время отвечать за свою жизнь и за свои награды одному-единственному Судии. И предваряется этот суд судом собственной совести. И этот суд есть милость Божия, зовущая к покаянию. Но порой оказывается, что не каждый способен вынести даже этот суд.
Да что о военачальниках, а сколько приходится священнику выслушивать запоздалых слов раскаяния и видеть слез женщин, которые должны были стать, но так никогда и не стали матерями неродившихся детей. Что может быть страшнее, чем убить ребенка?
Несколько лет назад в одной из газет прочел о том, что у немецкого нациста номер два Мартина Бормана был сын, который носил точно такое же имя. Мальчик практически и не видел отца. Его воспитанием занимались другие люди, но когда фашизм в Германии был разгромлен, отец вспомнил о сыне и велел одному из офицеров своей охраны застрелить мальчика, чтобы он не достался победителям, все-таки крестник самого Гитлера. Но офицер пожалел мальчишку и отвез его куда-то в Австрию, к своим родственникам. Интересно, что со временем соседи догадались, что Мартин Борман, который жил рядом с ними, есть сын того самого наци, и тем не менее мальчика никто не обижал. Когда он вырос и узнал о злодеяниях нацистов, и в частности о роли во всех этих делах его собственного отца, то решил стать католическим священником, чтобы хоть в какой-то мере принести покаяние за преступления его родителя.
И вот он вспоминал. Уже в начале шестидесятых к нему в храм пришел бывший немецкий солдат. Он воевал в Польше и принимал участие в подавлении Варшавского восстания. Как известно, у поляков во время войны было правительство в изгнании, которое находилось в Лондоне. Когда наши войска уже подходили к Варшаве, то это самое «лондонское правительство» решило поднять восстание. Но поляки не стали согласовывать свои планы с советским руководством. Сталин знал о начале Варшавского восстания, но не поддержал восставших. Немцы жесточайшим образом подавили сопротивление. И потом по всему городу поляков беспощадно отлавливали и убивали.
Во время одной из таких облав, вспоминал тот солдат, он с офицером попал в какой-то подвал, и когда они шли по нему, то внезапно из укромного местечка, испугавшись их, выбежала девочка лет шести. Сначала она пыталась убежать, но те ее быстро догнали. Тогда ребенок повернулся к солдату и, умоляюще смотря ему в глаза, протянул к нему свои ручонки и попросил: «Не стреляй!»
Солдат вопросительно посмотрел на офицера, а тот махнул рукой, давай, мол, бей. И солдат выстрелил.
Прошло почти двадцать лет с тех событий, и солдат, которому повезло остаться в живых и вернуться домой, стал каждую ночь с неумолимой постоянностью видеть один и тот же сон. Маленькая девочка смотрит на него широко открытыми умоляющими глазами и просит: «Не стреляй!»
Пастор Борман искренне хотел помочь бывшему солдату, ставшему убийцей, но как он ни пытался, к сожалению, ничего не смог сделать. В конце концов человек все-таки не выдержал и покончил с собой. Тот выстрел, что прозвучал тогда, в варшавском подвале, через двадцать лет все-таки догнал свою жертву.
Душехранитель
Рассказ хорошего сельского батюшки в трапезной за чашкой чая
Родился я в большом белорусском селе. Мама моя была медиком, отец работал в колхозе. Никто из моих близких в Бога не верил, кроме бабушки. Она исправно ходила в храм, молилась о нас. Помню, как на Пасху мы с братом разыгрались и стали бросать в бабушку крашеные яйца. Она села на лавку и, так горько вздохнув, произнесла:
– Ой, хлопчики, что же из вас, безбожников, вырастет?
И действительно, вырос из меня хулиган. Угнал я по пьяному делу колхозный грузовик и разбил его. Тогда, чтобы не посадили, родители договорились с военкомом и поскорее отправили меня в армию. Попал я в бригаду спецназа, которой командовал мой родной дядька. Кто-то подумает, служить под началом родного дядьки одно удовольствие. Но только не у моего. Мое время службы совпало с распадом Союза, начались конфликты. Так что и повоевать пришлось. Когда нужно было рисковать, дядька обычно посылал меня.
– А кого, – говорит, – я еще пошлю? Народ скажет, что родного племянника берегу, а других на смерть отправляю.
Досталось мне, конечно, ранен был.
А до этого нас, еще совсем молодых солдат, перебросили на разбор завалов в Спитак. Помнишь то страшное землетрясение в Армении? Пятьдесят тысяч человек погибло. Поначалу было очень тяжело. Форму уставали стирать, от запаха тлена все нутро наружу выворачивало. А потом привыкли, даже перед едой порой руки мыть забывали. После срочной служил в спецподразделении внутренних войск. Сколько в те годы всякого зверья повылазило! Думаешь, где они раньше отсиживались? Я и сам тогда волкодавом стал, чуть ли не каждый день мы бандюков этих ловили или отстреливали.
В тридцать лет вышел на пенсию. Что я тогда умел? Только догонять да на куски рвать. Стрелял хорошо, с любого положения, не целясь, ножом умел работать, в боях без правил мало кому уступал. Только и у меня самого, наверное, ни одной целой косточки не осталось. Все ребра переломаны, пальцы на руках да и сами руки, в одной ноге металлический штырь. Не надеялся, что до пенсии доживу.
Предложили поработать телохранителем. Кого я только не охранял! Весь модельный ряд, с певцами работал. И вот однажды приезжают ко мне монахи и просят пожить с одним их ветхим старичком. Он, мол, человек святой жизни, монах, да всю жизнь провел в одиночестве, в монастыре жить не привык, хочет и умереть на воле. Ему квартиру сняли в Королеве, а без присмотра оставлять боязно, много сейчас сектантов, сатанистов, да и просто психопатов разных. Мне интересно стало, что это такое – святые люди, я-то ведь все с богемой работал, и меня, сказать честно, от этой публики уже мутило.
Приезжаем к деду на квартиру, а там еще три кандидата, да все такие смиренные, бородатые, длинноволосые, короче, не чета мне, я ведь тогда даже «Отче наш» не знал.
Выходит к нам старичок, посмотрел на нас.
– Вот этот пускай останется. – И на меня показал.
Стали мы с дедом вместе жить. Моими обязанностями было смотреть за порядком. Народу к нему шло очень уж много. Чудно мне было, как этот старенький человек выдерживал всю эту людскую лавину. Ведь к нему со всего мира ехали. Порой так его жалко станет, смотрю, он уж от усталости падает. Тогда подойду, возьму его на руки и, несмотря на его протесты, унесу в другую комнату и закрою там. А народу говорю, как тот матрос Железняк:
– Хорош, дед устал, марш отсюда!
Очень уж отцу Никите нравилось, что мог он со мной, с земляком своим, Беларусь вспомнить. Со временем стал я ему и супчики варить. Любил он рыбный суп с чечевицей.
– Грешник я окаянный, Витенька, – говорит, – люблю рыбный супчик с чечевичкой, такой я старый сластена. Помирать уж пора, а я все чрево никак не обуздаю.
Люди нам деньги жертвовали, продукты тоже несли. Да только раздавал он все. И мало того что деньги отдаст, так еще и все продукты спустит. У нас, наверное, вся тамошняя бомжацкая братия подъедалась. Нельзя его было одного оставлять, только отвернешься, а на кухне уже пусто. Все раздаст.
Стал я от него заначки делать. Деньги у людей брал да тихонько от старца в разных местах прятал, ведь и самим же питаться нужно было.
Собираюсь на рынок за свежей рыбой. Сунул руку в унты, – старцу унты кто-то подарил, а я в них один из схронов и соорудил. Руку сую, а денег нет. Я в другое место, третье. И что ты думаешь? Везде дед деньги нашел и все раздал.
Я тогда на него разозлился.
– На что, – кричу, – я тебе супчик твой сварю, а, дед? Ты почему все деньги спустил, что мы с тобой сами есть будем, а?
А он смотрит на меня виновато, как ребенок, и говорит:
– Витенька, прости меня, Христа ради. Вдова из Воронежа приезжала, одна с тремя детьми осталась, молитв просила. Как же я ее без копейки денег отпущу? Жалко человека.
– Да к тебе полстраны едет, что же нам теперь, с голоду помирать? Всех не пожалеешь, на всех тебя не хватит.
– А вот Его на всех хватало, Он всех жалел, значит, и мы, Его рабы нестоящие, должны всех жалеть. А о хлебе не беспокойся, давай лучше помолимся, Господь и нас с тобой не забудет.
И действительно, стоило старцу помолиться, как тут же кто-нибудь и появлялся. Еды принесет и спрашивает меня, что, мол, еще из продуктов прикупить. Я тут же списочек составлю. Хочется, конечно, побольше всего заказать, да бесполезно, через пару дней опять «на молитву становись», есть-то что-то надо.
У старца была привычка вставать в три часа утра. Мы с ним вдвоем спали на надувном матраце. Дед маленький был, я у него в ногах помещался. Проснется утром и меня ногой будит:
– Вставай, Витенька, молиться надо.
– Я не монах, сам и молись, я на кухню пойду досыпать.
– Нет-нет, Витенька, я молиться буду, а ты только покади.
Я кадило разожгу, а отец Никита кадит, да так, что дым глаза ест, и начинает записки читать. Он их уже раз по сто прочитал, а все читает и читает. И так каждую ночь. Думаю, что делать? Замучает меня старик. Стал я потихоньку от него записки прятать и во дворе сжигать.
«Да ты не смотри на меня так, – это он мне, – я уже в этом давно покаялся. Ты сам попробуй со святым человеком пожить, с ума сойдешь».
Бывали мы с ним в Москве в разных храмах, в основном отцы плохо нас принимали. Ревность начиналась, старца многие верующие знали, и как увидят, так и бегут к нам, а отцам обидно было. Вот только к отцу Т-ну в Ср-ский монастырь приедем, ему докладывают, он сразу к нам. В первый раз подошел к старцу, ему руку поцеловал и мне. Я не ожидал такого и потом всякий раз за старчика прятался, чтобы у меня руки не целовали.
При мне посещал старца, уже покойный, отец Иероним из Санаксар. Я их тогда никого не знал, это потом уже в книжках на фотографиях узнавал и по подписям имена запоминал. Четыре месяца я вместе с отцом Никитой прожил, и собрался он помирать. Послал меня отправить телеграммы по девяти адресам, чтобы приехали к нему те, с кем он еще в горах Абхазии в пятидесятые подвизался. Перед смертью его парализовало на левую сторону. Я прихожу с рынка, вокруг него бабки сидят плачут. Он меня увидел, обрадовался:
– Как хорошо, что ты пришел, гони их всех, не хочу при них умирать.
Я его еще в туалет успел сводить, в постель уложил. Лежит он, и представляешь, в этот самый момент к нам приходят и говорят, что деду паспорт принесли, первый в его жизни паспорт. Он ведь все по горам да по квартирам чужим жил, паспорта своего никогда не имел. Я говорю:
– Батюшка, паспорт тебе принесли, что с ним делать?
Старчик усмехнулся:
– Да зачем он мне теперь, Витенька, брось его, мне уже на небесах прописка нужна.
Так он к нему и не притронулся. Потом замолчал, вздохнул и словно уснул.
Отец Никита так выбрал момент послать вызов на похороны, что никто из его друзей уже не застал старца в живых. Приехали семь монахов и две монахини. Помню, первым пришел отец Р-л (Б-ов), они с моим старчиком, еще в Абхазии, вдвоем в одной пещере много лет прожили. Маленький такой, женоподобный, заходит и весело кричит:
– Ну, ты и хитрец, Никита, ушел-таки первым! Всех нас вокруг пальца обвел.
Запомнилось, что все, кто приезжал, здоровались со мной, как со старым знакомым, и называли меня по имени.






