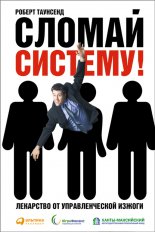Диалоги с Владимиром Спиваковым Волков Соломон

Секрет Спивакова
Анна Ахматова, помнится, делила прославившихся людей на две категории: у кого «темечко выдержало» и у кого – нет. Так вот, у Владимира Спивакова «темечко выдержало». Он не запил, не стал наркоманом, многоженцем, бабником, «фриком» («Шишков, прости: не знаю, как перевести»). Остался честным музыкантом. А все потому, что Спиваков – художник с миссией, хотя и секретной.
Сразу оговорюсь. Я знаю Спивакова уже пятьдесят пять лет, ведь мы занимались у одного и того же профессора по классу скрипки в музыкальной школе при Ленинградской консерватории. За прошедшие годы мы провели в откровенных разговорах не одну сотню часов. Но Спиваков для меня до сих пор – человек-загадка. Какие-то створки своей души он иногда приоткрывает, а другие остаются наглухо закрытыми.
Он целен и целеустремлен, но он очень разный, этот Спиваков. Он не только музыкант. Он умница и эрудит, боксер, художник и философ. Любящий муж, внимательный отец. Стойкий, лояльный друг. Глубоко верующий человек, не выпячивающий свою веру напоказ, как это иногда случается.
Спиваков делает много добра. С ним легко говорить. С ним можно помолчать. Он часто сомневается в себе. Ищет ответы на трудные вопросы, которые сам себе задает. Ошибается. Мучается потом… И старается не повторять своих ошибок.
Эта книга – попытка заглянуть в душу Спивакова поглубже, понять его. Уяснить для себя и других корни его феноменального успеха и причины его уникальной позиции в современном искусстве.
Но сначала блицэкскурс в историю новейшей культуры. Мы знаем, что ХХ век был ознаменован революционной победой так называемого высокого модернизма. Имена Пикассо, Стравинского, Джойса, Кафки у всех на устах, их творения вроде бы абсорбированы культурным мейнстримом. Это зачастую трагические сочинения, ответ и вызов зажравшемуся буржуазному обществу. В основном они носят экспериментальный характер, поэтому широкой аудиторией до сих пор воспринимаются не без внутреннего сопротивления.
На смену модернистам пришли постмодернисты – отнюдь не революционеры, хотя люди талантливые. Титанов вроде вышеперечисленных среди них пока не видно, но многие приобрели вполне заслуженную известность. Модернистское наследие было ими растащено по кусочкам и обглодано, часто – с чрезвычайно остроумным нигилистическим подхихикиванием. Искусство при этом все более превращалось в игру «для своих». Образовался закрытый клуб: критики, кураторы, влиятельные советники мощных арт-фондов, отдельно взятые высокопоставленные чиновники.
А публике что делать? В игре на арт-поле ей участвовать недосуг, да и не подпустят к этому волнующему занятию «аутсайдеров». А тяга к искусству остается, она никуда не исчезла, да и не может исчезнуть – рисункам на потолке Альтамирской пещеры в Испании двадцать тысяч лет, это настоящие дикари сотворили, не чета нынешним.
Вот на эту огромную тягу, на этот запрос массы современных «аутсайдеров» на высокую культуру и отвечает Спиваков. Он с этой аудиторией ведет честный, красивый и искренний диалог поверх голов отечественных специалистов и профессиональных посредников, чем страшно их раздражает: если все понятно и без них, если в их изящных комментариях и многомудрых разъяснениях не нуждаются, то тогда зачем они?
Конечно, стремление спецов как-то «укусить» Спивакова вполне объяснимо и является частью вышеописанной игры. Но беда в том, что часто претензии нашей критики к Спивакову формулируются некорректным образом. Например, можно услышать, что Спиваков идет на поводу у своей публики, что его репертуар – и сольный, и в качестве руководителя «Виртуозов Москвы» и Национального филармонического оркестра России – облегченный, развлекательный. Неправда! Спиваков играет самых сложных авторов – Стравинского, Шёнберга, Альбана Берга, Бартока, Шостаковича (если называть только имена корифеев «высокого модернизма»). Из новейших композиторов в его репертуар входят Шнитке, Щедрин и Пярт – авторы, сохранившие верность высоким идеалам.
Не так давно я был на концерте Владимира Спивакова в Карнеги-холле: переполненный зал, много молодежи… После концерта, пробираясь к выходу сквозь нарядную возбужденную толпу, я прислушивался к разговорам, присматривался к лицам: они прекрасны, они сияют, одухотворенные только что прозвучавшей музыкой.
А звучали Брамс, Стравинский, Шостакович – программа, которую облегченной ну никак не назовешь. И знаете чему зал аплодировал азартнее всего? Стравинскому! А почему? Да потому, что Спиваков сыграл его «Итальянскую сюиту» с таким увлечением, напором и блеском, что слушатели, многие из которых, как я подозреваю, услышали музыку Стравинского впервые в жизни, были ею захвачены и очарованы.
Вот он, секрет Спивакова, вот его миссия: он сообщает высокому модернизму, чьи лидеры к публике, чего уж там греха таить, иногда питали чувства весьма недружелюбные (а публика в ответ платила им той же монетою), «человеческое лицо». Тот же Стравинский всю жизнь прятался за разными масками, любил провозглашать, что и музыка вообще, и его собственная в частности, «ничего не выражает» и уж тем более «ничего не изображает». «Нет, – настаивает Спиваков, беря в руки скрипку или выходя к оркестру с дирижерской палочкой, – и выражает, и изображает. Вот послушайте!»
Скрипач Натан Мильштейн, хорошо знавший Стравинского, доказывал мне, что на самом-то деле Игорю Федоровичу нравилось иметь успех, просто жизнь его столько раз царапала, что у него выросла защитная броня, а уж тогда сложилась и соответствующая эстетика. Не знаю, не знаю. Но точно знаю, что творческая стратегия Спивакова, как бы ни фыркали на нее «снобы в коротких штанишках», обожающие повторять процитированные выше высказывания Стравинского, абсолютно легитимна.
Классические музыканты редко становятся объектом всенародной любви в России. Сразу выведем за скобки легендарных оперных певцов прошлых времен: Собинова, Козловского, Лемешева. (Заметим, все – тенора.) Над ними, разумеется, возвышается гигантская фигура Шаляпина, именно что баса, каким-то непостижимым лично для меня образом сумевшего завоевать позицию номер один. Его рекорд никем еще не побит.
Но вспомним несомненных чемпионов советской поры: скрипача Ойстраха, пианистов Рихтера и Гилельса, дирижеров Мравинского, Светланова и Кондрашина. Они служили образцами, были всесоюзно (и даже всемирно) знамениты, но их лица (и личности) в народном сознании не пропечатывались. Это было обусловлено эпохой. Государству нужны были некие символы, а не конкретные личности. Вот Ойстрах – символ советского скрипача, а уж что это за человек, каков он в приватной жизни – это не должно было быть известно.
На Спивакове, в восьмидесятые годы, эта тенденция стала меняться. Тут многое сошлось: начальство как-то размагнитилось, отечественное телевидение стало более амбициозным и предприимчивым. В тот исторический момент оно нашло в лице Спивакова идеального героя: классический музыкант мирового масштаба, широкоплечий красавец, звучным баритоном цитирующий – разбуди его ночью! – Цветаеву, Ахматову и Бродского.
Еще важно, что Спиваков именно скрипач, причем прекрасной выучки. Скрипач для ТВ – самая подходящая натура: пианиста рояль заслоняет, а у виолончелиста, даже самого гениального, взаимоотношения со своим инструментом для «картинки» какие-то не вполне благопристойные – посмотрите, сами увидите. Но скрипач тоже не всякий годится: некоторые закусывают губы, корчат рожи. Крупный план этого не любит. А у Спивакова – величавая осанка, плавные движения рук, благородное бледное лицо, и все это существует в редком единстве, исключающем какую бы то ни было внутреннюю фальшь или напряжение.
К Спивакову отношение особое: его любят. А любят потому, что он делает великое дело, по секрету и на глазах у всех.
Сначала скрипач Спиваков создал в 1979 году камерный оркестр «Виртуозы Москвы», затем, в 2004-м, – Национальный филармонический оркестр России. Уже больше двадцати лет существует созданный им благотворительный детский фонд, известный теперь во всем мире. Кто-то скажет: разбрасывается! уж лучше играл бы на скрипке! Но Спиваков не может жить по-другому. Ему всегда было тесно в узком пространстве личного успеха. Его неумолимо притягивает желание поделиться музыкой, добром, участливостью, «поделиться собой». И ответная эмоция публики делает его сильнее.
За помощь в работе над этими диалогами мы с Владимиром Спиваковым сердечно благодарим Елену Шубину, Сати Спивакову, Ларису Саенко и Кларису Пульсон.
Соломон Волков
Интродукция (молитвы в футляре)
ВОЛКОВ: Я знаю, что всякий путешествующий скрипач пуще зеницы ока бережет свою скрипку. И все самое дорогое он укладывает рядом с нею – в футляр, вместилище реликвий, того, что особенно памятно, с чем не расстаются. Что хранится в твоем футляре от скрипки?
СПИВАКОВ: Я не люблю броских вещей и не люблю фальшивых нот – ни в оркестре, ни на скрипке, ни в жизни. Самое дорогое, что храню в футляре скрипки, – это письма моих родителей, фотографии жены, детей, папы и мамы, Леонарда Бернстайна. И три молитвы: во-первых, молитва отца Александра Меня, во-вторых, последняя молитва великого русского философа Ивана Ильина, исчерпывающе простая: «Соблюди мою свободу в жизни и в творчестве, ибо свобода моя – свершение воли Твоей».
И еще, самая, наверное, главная, – молитва матери Терезы «Я просила…», которая стала для меня путеводной нитью в жизни:
- Я просила Бога забрать мою гордыню,
- и Бог ответил мне – нет.
- Он сказал, что гордыню не забирают – от нее отрекаются.
- Я просила Бога исцелить мою прикованную к постели дочку.
- Бог сказал мне – нет. Душа ее в надежности,
- а тело все равно умрет.
- Я просила Бога даровать мне терпение, и Бог сказал – нет.
- Он сказал, что терпение появляется в результате
- испытаний – его не дают, а заслуживают.
- Я просила Бога подарить мне счастье, и Бог сказал – нет.
- Он сказал, что дает благословение, а буду ли я счастлива
- или нет – зависит от меня.
- Я просила Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал – нет.
- Он сказал, что страдания отворачивают человека от мирских
- забот и приводят к Нему.
- Я просила Бога, чтобы дух мой рос, и Бог сказал – нет.
- Он сказал, что дух должен вырасти сам.
- Я просила Бога научить меня любить всех людей так,
- как Он любит меня.
- Наконец, сказал Господь, ты поняла, что нужно просить.
- Я просила – и Бог послал мне испытания,
- чтобы закалить меня.
- Я просила мудрости – и Бог послал мне проблемы,
- над которыми нужно ломать голову.
- Я просила мужества – и Бог послал мне опасности.
- Я просила любви – и Бог послал несчастных,
- которые нуждаются в моей помощи.
- Я просила благ – и Бог дал мне возможности.
- Я не получила ничего из того, что хотела, —
- я получила все, что мне было НУЖНО!
- Бог услышал мои молитвы.
1. Увертюра
Детство
ВОЛКОВ: Я хотел бы поговорить с тобой о детстве – о твоем детстве, о моем, о нашем общем детстве. Мы такие, какими нас вылепило наше детство. К тому же это детство советской поры для новых поколений уже из области мифологии. Они не понимают, в каких условиях происходил наш рост и как ситуация формировала и тебя, и меня, и миллионы других людей. Когда я начинаю думать о нашем детстве, я вдруг понимаю, что это уже история. Это все уже в прошлом. Каковы твои первые воспоминания? Что ты первым запомнил в своей жизни?
В коммуналках
СПИВАКОВ: Я родился в Башкирии, в городе, которого уже нет на карте, – это Черниковск, бывший Сталинский район Уфы, который был выделен в отдельный город, а теперь снова стал частью Уфы. Моя мама – Екатерина Осиповна Вайнтрауб – приехала туда из Ленинграда в 1942–1943-м, из блокадного Ленинграда. Там, в тылу, помогал «ковать победу» мой отец – Теодор Владимирович Спиваков, работая старшим мастером цеха номер один по производству двигателей для наших бомбардировщиков. Он был комиссован после тяжелых контузий, полученных в первые месяцы Великой Отечественной войны. Отец ушел добровольцем и воевал на Украинском фронте.
Поэтому в Уфе меня справедливо считают своим человеком, равно как и сам я считаю Уфу своим городом, ощущаю там себя как дома. Эти чувства разделяют со мной земляки-уфимцы Земфира, Юрий Шевчук или в прошлом – Рудольф Нуреев.
После войны семья переехала в Ленинград. Помню нашу первую питерскую комнатушку в Ковинском переулке с личной жилплощадью в шесть-семь квадратных метров: отец, сидя на диване, расположенном у одной стены, не вставая, качал ногой люльку у стены напротив. В этой комнатке мы жили вчетвером – вместе с появившейся на свет сестричкой.
Сама же коммуналка была огромной, представляя собой прообраз популярного тогда политического лозунга о «мирном сосуществовании всех наций». Под одной крышей уживались татары, евреи и русские, а всего там обитало человек двадцать, не меньше. Вопрос религиозных различий на повестке не стоял, поскольку все ходили поклоняться своим богам в Ленинградскую филармонию. Это и был наш общий храм.
Я рос в коммуналке, где была очередь в туалет, а в ванную комнату ходили по расписанию. Но никто никому не плевал в суп, и праздники отмечались сообща. Нравы обитателей нашей первой ленинградской квартиры, несмотря на скученность, отличались поразительным миролюбием. Кстати, там же, в Ковинском переулке, был польский католический костел, где я впервые услышал орган. Почти как у Пушкина:
- Ребенком будучи, когда высоко
- Звучал орган в старинной церкви нашей,
- Я слушал и заслушивался – слезы
- Невольные и сладкие текли…
Мы тогда много раз переезжали – на расширение, так сказать: меняли семиметровую комнату на десятиметровую, а ту – на двенадцатиметровую… Проспект Газа, проспект Союза Печатников, потом поселились около Никольского собора. В той коммуналке замечательная соседка, истово верующая христианка Анна Ефимовна, однажды взяла меня с собой в церковь.
Она отмечала все церковные праздники, строго следовала постам, когда практически ничего не ела, только иногда кусочек хлеба с подсолнечным маслом. Поскольку мама работала во многих местах одновременно, а отец, так и не оправившийся от контузий, то работал, то болел, я оказался на попечении Анны Ефимовны. С ней я приобщился к храму уже не только ради музыки.
Ощущение раннего ленинградского детства у меня ахматовское – «был блаженной моей колыбелью / Темный город у грозной реки». Когда мы переехали в очередной раз – на улицу Некрасова – и жили где-то под крышей, соседка, Лидия Львовна Соковнина, отводила меня по утрам по пути на работу в детский садик. Она работала в Технологическом институте и вставала очень рано. Мы выходили из дома и погружались в темный город, а потом нас проглатывал темный троллейбус. Я додремывал в той темноте, вцепившись в драповое пальто Лидии Львовны, чтобы не потеряться. Потому что в темную рань троллейбус был уже переполнен.
Мама
СПИВАКОВ: В мир музыки меня ввела мама. Она садилась к пианино – для рояля у нас не было места, – а меня, младенца, усаживала сверху на крышку. Она рассказывала, что, еще не умея ходить, я подпрыгивал, когда она играла веселую музыку. А когда грустную – раскачивался из стороны в сторону. Моя мама замечательно играла на рояле. Она училась в Одесской консерватории вместе с Эмилем Гилельсом у того же педагога – Берты Михайловны Рейнгбальд. Потом посещала занятия в Ленинградской консерватории. Мама потрясала своим совершенным слухом, могла впервые услышанный мотив тут же гармонизовать в песню, танец, свободно играла в любых тональностях, для нее никакого труда не составляла транспонировка.
ВОЛКОВ: То есть перенос мелодии из одного ключа в другой! Это очень редкий дар!
СПИВАКОВ: Если какой-нибудь солист жаловался, что ему неудобно петь, моя мама с легкостью предлагала: «Пожалуйста, я могу на полтона выше или на полтона ниже».
Она играла на рояле замечательно до последних дней жизни. Помню, много позже, в Москве, куда мы переехали, я вышел из лифта, подошел к нашей двери и замер – кто-то у нас блестяще исполнял концерт Шумана. Я задержался, пытался угадать: что за гость забрел в дом? А отпер дверь – и оказалось, что это моя немолодая мама играла по памяти этот концерт.
У меня было счастливое детство. У меня были чудесные добрые родители, которые постоянно кого-то опекали и подкармливали – сына дворника или сына пожарного. Отец был убежденный коммунист-романтик, честнейший человек. Мама – блокадница. Этим сказано все, потому что блокадники были особой категорией людей, и связи между ними были особыми. Мама всю жизнь переписывалась с подружками военных лет, которых судьба раскидала по миру. Помню, уже в Москве она получила письмо от одной из блокадниц. Я прочитал лежащее на столе письмо – женщина описывала, как трудно ей ухаживать за сыном-инвалидом, что сама она уже не в состоянии делать ему уколы, что он не может передвигаться, а она ослабела… Она писала, что не может достать инвалидной коляски.
Это были еще советские времена, но я уже ездил за границу, уже были какие-то знакомства и связи. Я снял телефонную трубку, позвонил в Лондон и заказал кресло на колесах, которое невозможно было достать в СССР.
А потом пришла мама:
– Я получила письмо от подружки. Мы с ней вместе сбрасывали осколки фугасных бомб с крыши консерватории… Мы вместе вывозили раненых. Ей надо помочь.
– Не беспокойся, я уже все сделал, – успокоил я свою совестливую маму. Я знал, как свята для нее эта дружба.
Моя память сохранила голос Ольги Берггольц, звучащий из репродуктора:
- И первый гроб, обитый кумачом,
- Проехавший на катафалке красном,
- Обрадовал людей – нам стало ясно,
- Что к жизни возвращаемся и мы
- Из недр нечеловеческой зимы.
И вот этот голос великой Берггольц я до сих пор слышу в своем сознании.
ВОЛКОВ: А с каким он у тебя инструментом ассоциируется?
СПИВАКОВ: С альтом. Альтовый голос Берггольц.
ВОЛКОВ: А что мама тебе читала? Из детства какие-нибудь книжки в памяти остались?
СПИВАКОВ: Мама работала круглосуточно, но старалась, урывала какие-то крохи свободного времени и читала мне иногда. Это были самые обычные детские книжки, которые всем тогда читали – Чуковский, Барто… Из них совершенно ничего не помню. Зато в памяти у меня остались стихи поэтов, которых вообще сейчас не вспоминают. И, наверное, не издают. Надсон, например. Кто его сейчас знает? Или Апухтин.
- «Что, умерла, жива? Потише говорите,
- Быть может, удалось на время ей заснуть…»
- И кто-то предложил: ребенка принесите
- И положите ей на грудь!
- И вот на месте том, где прежде сердце билось,
- Ребенок с плачем скрыл лицо свое…
- О, если и теперь она не пробудилась, —
- Все кончено, молитесь за нее!..
Если до сих пор знаю наизусть, значит, тогда произвели впечатление.
ВОЛКОВ: Апухтин и Надсон – и мои любимцы. Сейчас они совсем не в моде. Как ты на них набрел?!
СПИВАКОВ: Мне повезло. Я уже говорил о нашей соседке по коммуналке, Лидии Львовне Соковниной. Умнейшая русская женщина. Вот у нее была большая, тщательно подобранная библиотека. Она мне давала то, что любила сама.
ВОЛКОВ: А первую самостоятельно прочтенную книжку помнишь?
СПИВАКОВ: Я помню, что я впервые сыграл. Но первую прочтенную книжку – не помню совершенно.
ВОЛКОВ: Но наверняка был в детстве любимый герой, на которого хотелось быть похожим? Для меня таким был лермонтовский Печорин…
СПИВАКОВ: И у меня – Печорин! Холодный, отстраненный, совершенно неотразимый! Онегин тоже был мой герой. Но главное, уже с того раннего возраста я понимал: тут два героя – Онегин и Пушкин. Александр Сергеевич не только своего персонажа, но и себя рассматривал как бы со стороны, ему удавалось отстраниться. Редкое, между прочим, качество…
Первый учитель. Пустые струны
СПИВАКОВ: Мой путь в музыку не был устлан розами – для начала меня не приняли в Среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Несмотря на то что пел я политически верно подобранную песню «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед», угадал все ноты и верно простучал ритм. Чувство ритма было с детства отработано деревянной ложкой по кастрюле. Это были мои первые игрушки.
Тогда я поступил в обычную районную музыкальную школу на Петроградской стороне, до которой надо было добираться автобусом. Мама почему-то решила отдать меня на виолончель. Я поносил инструмент две недели, упарился и взмолился дать мне что-нибудь полегче. Тогда мне дали скрипку. Но и с ней не заладилось поначалу.
Мой первый педагог Борис Эммануилович Крюгер изводил меня тем, что заставлял упражняться на пустых струнах. Я это совершенно не выносил, хотя потом, спустя много лет, пришлось опять это делать у Юрия Исаевича Янкелевича, потому что нужно было исправлять постановку правой руки.
Ужас ученических терзаний живо стоит в памяти до сих пор – эти пустые струны, ничего не значащие, кошмарные, эта сыплющаяся канифоль… Но однажды я услышал, как другой ученик Крюгера играет «Размышление» Чайковского. Эта музыка проникла в самое сердце! Я вернулся домой и одним пальцем на соль-струне подобрал запомнившуюся мелодию. Когда я пришел на следующий урок, учитель принялся традиционно меня журить:
– Опять Вова не демонстрирует никаких успехов, даже пустые струны не двигаются вперед никак.
– Подождите, – заступилась мама. – Он услышал вчера Толю Резниковского, который играл у вас «Размышление» Чайковского, и сам подобрал. Послушайте его, пожалуйста…
И я одним пальцем заиграл – та-ра-ра-ри-ра-ри…
– Кажется, из него что-то получится. Может быть… – заключил мой первый учитель.
ВОЛКОВ: О, Толя Резниковский! Как же, помню его…
СПИВАКОВ: А первый мой концерт сопровождался смехом в зале. Я должен был играть «Мазурку» Баклановой, был очень сосредоточен, но, выйдя на сцену, вдруг понял, что у меня что-то не в порядке с одеждой. Одежда на мне – согласно тогдашней традиции для мальчиков дошкольного и младшего школьного возраста – была такая: чулки в рубчик, они крепились на резинках к «лифчику», который застегивался на животе. Поверх шли широкие, но короткие штанишки, державшиеся на лямках, перекинутых через плечи. То ли лифчик, то ли лямки меня подвели – штаны явно падали. Я положил скрипку на крышку рояля – для детей ее не открывали, деловито подтянул штаны повыше под непонятный мне общий смех, снова взял скрипку – и сыграл эту мазурку. Таким было мое первое выступление на публике. Прошло много лет, однако я помню все свои оплошности – и самые ранние, и двадцатилетней давности, и самые последние, – где, когда, в каком городе, в каком месте и в каком произведении я ошибся. Но ту мазурку я сыграл чисто, клянусь тебе…
Музшкола. Методы воспитания
СПИВАКОВ: Прошло некоторое время, и наконец меня приняли в Музыкальную школу имени Римского-Корсакова – в класс к Любови Марковне Сигал, ученице легендарного профессора Леопольда Ауэра. О его методах воспитания, заметим, она отзывалась нелицеприятно. Например, когда она, тогда совсем молодая девушка, начинала играть, то ставила правую ногу слегка косо. Он сказал ей один раз: «Люба, встань как следует, с опорой на левую ногу» – тогда считалось, что это хорошо. А когда через некоторое время она забыла об этом и по привычке снова поставила ногу не так, Ауэр подошел и врезал ей носком туфли прямо по правой голени. Тогда по моде носили жесткие штиблеты с острыми носами. Люба две недели, корчась от боли, пролежала в постели со льдом на кровяном отеке, не в силах прийти на урок. Вот такая школа была.
Сигал и сама была строга. Помню, как она меня учила вибрации, объясняя, что вибрация на скрипке – это как звучание души инструмента, совершенно поразительная палитра красок. Я понимал, что в каждом пальце должна быть точка золотого сечения, что пальцы должны ровно стоять на грифе, да только ручони мои были еще малы и неумелы.
– Опять просишь милостыню? Что ты просишь милостыню все время! – и Сигал давала мне довольно увесистую затрещину.
Или когда моя уставшая после работы мама придремывала на стуле, в то время как я выводил эти ужасные упражнения Шрадика и прочий кошмар, Сигал непременно ее одергивала: «Мадам, не спите!»
ВОЛКОВ: Строгость, похоже, в традиции у преподавателей музыки, в том числе и очень известных. Анна Николаевна Есипова, великий педагог, взрастившая талант Прокофьева была очень требовательной…
СПИВАКОВ: Во времена Есиповой в Петербургской консерватории вообще была строгая дисциплина – это были времена, когда ректором был Александр Константинович Глазунов. Тогда же преподавал Римский-Корсаков, которого бесконечно уважали и даже побаивались – причем не из-за его характера, а из-за его обширнейших знаний. К нему обращалось неимоверное количество людей с вопросами по оркестровке – и он на все знал ответ.
ВОЛКОВ: Римский-Корсаков был таким знатоком композиторской кухни, равных которому не было. Не знаю, согласишься ли ты со мной, но я считаю Римского-Корсакова нашим отечественным Вагнером. Мне кажется, что в России должен был бы быть в точности такой же его культ, как культ Вагнера, который существует на Западе, и особенно в Германии. Римский-Корсаков воплотил в музыке русские мифы – в «Сказании о невидимом граде Китеже». Его «Китеж» – это наш «Парсифаль». Правда ведь?
СПИВАКОВ: В широком смысле – да, так и есть. Только ой как тяжело из времени вытаскивать правду…
ВОЛКОВ: Эх, ну почему нет в России настоящего уважения к отечественным титанам?
СПИВАКОВ: Да есть уважение. Может быть, выражено не так, как ты имеешь в виду – не официальным признанием, не официальной памятью. Но композиторы, которые соприкасались с Римским-Корсаковым и считали его своим духовным наставником, сформировали последовательную цепь великой преемственности. Римский-Корсаков – Стравинский – Прокофьев – Шостакович.
ВОЛКОВ: И в наши дни цепь эту продолжает Родион Щедрин. Это все одна линия. Я уверен в том, что для Римского-Корсакова должен быть воздвигнут российский храм музыки, в котором будут идти оперы только этого русского гения и каждый год будут новые постановки, новые циклы. И стал бы такой храм местом паломничества, точно так же, как это имеет место с Вагнером в Байройте.
«Гнать таких надо!» Педагоги и одноклассники
ВОЛКОВ: В той школе, где нам с тобой довелось вместе учиться – при Ленинградской консерватории, – были потрясающие учителя. Мы мечтали посвятить себя музыке, но нам преподавали и общеобразовательные предметы, причем без особых скидок на то, что алгебра и геометрия нам особо в жизни не пригодятся. (Арифметика, может быть, и пригодилась бы, если бы мы лучше ее учили…)
СПИВАКОВ: Не поверишь – я помню, к собственному удивлению, формулу крахмала из органической химии! Потому что у нас была потрясающая учительница химии – мать замечательного скрипача Марка Комиссарова. Она говаривала, «голова нужна не только для того, чтобы на ней носить шляпу».
ВОЛКОВ: Помню ее на школьной лестнице – она стояла на верхней площадке, а я внизу. И оттуда, сверху, с высоты, она кричала: «Таких как ты, Волков, гнать надо со всех лестниц!»
СПИВАКОВ: Меня тоже сколько раз гнали! Помнишь нашего очень строгого завуча Елизавету Мартыновну Саркисян? Она всегда в черное одевалась и пронзительным голосом кричала мне через весь школьный коридор: «Спиваков! Мальчик! Тебя в этой школе не будет!» Это же самое она предрекала Голощекину, Афанасьеву и даже Янсонсу, который вообще был круглый отличник.
ВОЛКОВ: А сегодня Марис Янсонс признан одним из ведущих мировых дирижеров, является одним из самых востребованных и влиятельных современных музыкантов. Он руководит двумя коллективами, которые входят в пятерку ведущих оркестров мира по версии журнала «Граммофон», – Амстердамским оркестром «Концертгебау» и оркестром Баварского радио.
СПИВАКОВ: Я играл с обоими оркестрами – изумительные!
ВОЛКОВ: Марис – настоящий воспитатель оркестров. Он приходит не просто продемонстрировать свою виртуозность с тем или иным коллективом – он этот коллектив начинает лепить по-своему и формирует его в какое-то новое единство. То же самое и ты делаешь со своими оркестрами.
СПИВАКОВ: Не будем забывать, что отец Мариса, Арвид Кришевич Янсонс, был превосходным дирижером и сотрудничал с Мравинским! Он многое передал сыну. Я помню, как Марис принес на один из уроков к учительнице по музыкальной литературе Музе Вениаминовне разбор Третьей симфонии Бетховена!
ВОЛКОВ: А я вспоминаю, как Марис организовал в школе некий «Клуб Друзей Искусства», который немедленно окрестили «Клубом Добровольных Идиотов», и мы слушали «авангардную» музыку, которую тогда было очень трудно достать.
Отец Мариса привез из своих гастролей японскую пластинку «Петрушки» Стравинского, и мы на условиях жесткого соблюдения конспирации, собравшись вместе, слушали ее. Это было наподобие подпольных маевок 1905 года. Сейчас покажется абсурдом, но в то время было запрещено слушать записи Стравинского! Это считалось подрывной акцией. Впечатление от этого запретного, тайного слушания было еще более острым и запоминающимся.
СПИВАКОВ: Янсонс приехал из Риги и не очень хорошо говорил по-русски, поскольку его родным был латышский язык, и еще он прекрасно владел немецким. Но по-русски некоторые его фразы звучали комично. Например, он мог сказать о нашем однокашнике-хохмаче – «он был очень остроумный на язык».
ВОЛКОВ: Когда я приехал в Ленинград и поступил к вам в школу, он уже безупречно владел русским.
СПИВАКОВ: Янсонс вообще выделялся среди нас. Все ясно понимали, что он аристократ. Мы в сравнении с ним были просто пролетарии. Когда мы переодевались в школьном спортивном зале перед игрой в баскетбол, то не без зависти смотрели на его шелковые белые трусы. Потому что все остальные члены нашей команды носили одинаковые черные сатиновые. В нашей команде играли Марис Янсонс, Вадик Афанасьев, Додик Голощекин – ну и я тоже играл.
ВОЛКОВ: Команда будущих звезд, хотя и не в мире спорта, а в мире музыки. Я, избегавший спортзала как чумы, тебе ужасно завидовал. Как скрипачу – само собой, но еще и потому, что ты был сильнее и спортивнее меня, такого абсолютного еврейского хлюпика. Только я не помню, когда же ты увлекся этим, что сейчас называется, бодибилдингом?
СПИВАКОВ: Я вначале был такой же слабак, как и ты, не мог ни разу подтянуться на кольцах!
ВОЛКОВ: Кольца!.. Ну ты даешь.
СПИВАКОВ: Не мог даже на шест взобраться.
ВОЛКОВ: Ты таки смог туда взобраться?!
СПИВАКОВ: Не так давно, во время съемок телефильма, меня привезли в этот наш спортивный зал, я был в обычных, не спортивных, ботинках, в кожаной куртке. Как увидел шест – не смог одолеть желания вновь на него взобраться. В нашем детстве шесты были деревянные, довольно легко по ним можно было влезть, а у нынешних школьников – железные, руки-ноги скользят. Но я все-таки долез до самого верха, подтягиваясь только на руках, – и заслужил аплодисменты молодого поколения!
Урок физкультуры. Отправить в нокаут
СПИВАКОВ: А начал я заниматься спортом, потому что выхода другого просто не было. Когда мы, мальчики со скрипочками, выходили из школы в Матвеевом переулке, нас обычно поджидала группа ребят из ПТУ. Они не делали никаких скидок «гнилым интеллигентам» – нас нещадно били. Причем самому высокому из нас, пианисту Олегу Барсову, доставалось больше других – как самому большому.
Жаловаться мы, по своему кодексу чести, не ходили. А вот за советом я решил обратиться к физруку – что делать, когда тебя бьют? Он говорит: сдачи давать! Пойди займись боксом, у меня есть приятель-тренер, он тебя примет.
ВОЛКОВ: Но послушай, первая заповедь музыканта – береги руки как зеницу ока!
СПИВАКОВ: Ты просто не понимаешь – в боксе перевязывают руки, можно выбить только один палец, и то если неправильно его держишь.
ВОЛКОВ: Ну ты небось его и выбил?
СПИВАКОВ: Да, выбивал пару раз. Начало вообще было неприятным. Друг нашего физрука, к которому я пришел, так сказать, по протекции, надел мне перчатки, поставил – и давай по мне лупить как по груше. Он меня как следует нокаутировал и говорит: приходи завтра. Я, признаться, задумался – а надо ли? Пэтэушники и то не так дубасят. Но собрал волю в кулак – и пошел.
Второй раз он мне сначала размяться дал – мы мячи с песком покидали. А потом опять: перчатки на руки – и в нокаут. Я еще более засомневался, связываться ли мне с таким наставником. Но пришел и в третий раз. Думаю, уж лучше потерпеть от профессионала, чем всю жизнь всякая шпана меня будет за грушу держать. Тренер, увидев меня на следующий день, неожиданно подобрел: «Ладно, теперь мы начнем заниматься». И после этого уже по-настоящему взялся меня учить. И эти навыки бокса мне, кстати сказать, несколько раз спасали жизнь.
ВОЛКОВ: А сейчас детей как раз чуть ли не с пеленок «отдают на спорт». Или – учат языкам, компьютеру. А вот учить музыке стало немодно, приоритеты другие…
СПИВАКОВ: И это печально. Не стану употреблять более сильное слово. Это плохо, и не только для самого ребенка, который лишается огромного прекрасного мира. Это в первую очередь недальновидно для общества. Ничего дурного про спорт сказать не хочу – повторюсь, я сам и в баскетбол играл, и боксом занимался. Только во всем нужна мера и здравый смысл.
Самый простой пример. Что происходит с людьми на футбольных матчах, на рок-концертах? Пробуждается немотивированная агрессия, откуда-то из глубины поднимается самое темное и дурное, злое. Они идут громить витрины, жечь машины, рушить все вокруг… И так во всем мире! Несколько лет назад мы с оркестром выступали в Риме. Концерт закончился одновременно с футбольным матчем команд «Рома» и «Наполи». Как потом выяснилось, победили неаполитанцы. Мы с импресарио вышли на улицу, стали искать машину и… обнаружили ее в чудовищном виде. Стекла выбиты, обивка порезана, все раскурочено… И лишь потому, что у машины были неаполитанские номера. А теперь скажите – возможно ли представить себе драку в консерватории на концерте классической музыки? Ни-ког-да! Даже вообразить невозможно. Фанаты Дениса Мацуева не станут драться с почитателями Николая Луганского, а знатоки Шнитке и поклонники Пендерецкого не будут выяснять отношения с помощью физической силы. Посмотрите на просветленные, одухотворенные лица слушателей – и все становится очевидно. Уже древние это понимали, вспомним Аристотеля: «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души». Классическая музыка, не побоюсь повторить банальные истины, объединяет, сближает, облагораживает, возвышает, пробуждает добрые чувства. И в конечном счете возвращает душе мир и гармонию.
- Да обретут мои уста
- Первоначальную немоту —
- Как кристаллическую ноту,
- Что от рождения чиста.
- Останься пеной, Афродита,
- И, слово, в музыку вернись,
- И, сердце, сердца устыдись,
- С первоосновой жизни слито.
Наши наставники. Образец несправедливости
СПИВАКОВ: Ты не поверишь, но в школе я пел в первых сопрано, очень высоким голосом. И вдруг в один прекрасный день голос сломался, произошла мутация. Я заговорил таким тембром, как говорю сегодня. Это случилось враз. Помню, наш математик Блохин вызвал меня к доске ответить по теореме Пифагора – а я вдруг заговорил басом.
«Садись, Федор Иванович!» – сказал он мне. И с тех пор так меня и звал – Федор Иванович. Шаляпин, стало быть.
ВОЛКОВ: Наш математик был замечательным образом несправедлив. Если бы он по справедливости оценивал мои успехи в области математики, то я бы никогда этой школы не окончил. Мы рассаживались на его уроках стратегически выверенно: впереди меня сидел Марис Янсонс, за ним я, за мной – жизнерадостный Марик Биргер из Винницы.
Янсонс, вечный отличник, знаток всего на свете, свою контрольную всегда выполнял на пять. Отличаясь неизменным благородством, он давал мне свою работу списать. Я в свою очередь давал списать сидящему за мной Марику. За абсолютно одну и ту же контрольную мы получали следующие оценки: Марис – заслуженную пятерку, я – четверку, а сидящий за моей спиной – тройку. Однако мы никогда не пытались опротестовать итоги.
А еще у нас была замечательная учительница по литературе – Нелли Наумовна Наумова, автор хороших книжек о творчестве Толстого, Тургенева, фантастический эрудит. В атмосфере тех лет, а тем более в школе, если бы стало известно, что педагог помянул, к примеру, Хлебникова или символистов, у ответственных товарищей брови поползли бы вверх: не понимаем! А она на первом же уроке, когда я только приехал из Риги, процитировала «О, закрой» Брюсова. «О, закрой свои бледные ноги», – пробасила она. Я обомлел… С ней можно было разговаривать серьезно и доверительно.
СПИВАКОВ: А мы с ней подружились после одного из моих выступлений о Пушкине. Потому что она пришла в класс и сказала – ну, кто из вас может рассказать что-нибудь интересное о поэме Пушкина «Цыганы»?
Я очень любил Пушкина и любил докапываться до многих вещей – как тогда, так, впрочем, и сейчас. И я с ходу запомнил слова оригинальной цыганской песни, которая, собственно, и стала поводом для написания поэмы. Я встал и запел на цыганском языке «Бей меня, режь меня, на уголья клади меня…» – и так далее до конца. После этого я стал ее любимцем.
Кстати, хочу тебе сказать, что помню, как ты играл на скрипке «Вальс» Дебюсси. Когда играю эту пьесу теперь, всегда вспоминаю тебя.
ВОЛКОВ: Тогда Дебюсси считался модернистом. Но когда я его играл, то думал о тебе. Я восхищался тобой и понимал, что никогда в жизни так не буду играть! Ты брал в руки скрипку и уже тогда извлекал из нее тот особый, эмоциональный, насыщенный, красочный звук, который стал твоим фирменным знаком. И я понимал, что научить этому нельзя, это то, с чем человек рождается. Ты родился с этим удивительным, неповторимым звуком в душе.
И при этом даре музыканта ты был потрясающе заводным парнем: прыгал, бегал, всех нас смешил, не боялся в спортзале выкладываться до последней капли пота. Другой бы превратился в маленький прижизненный памятник самому себе, не дай бог повредить пальчики. Ты был совсем другим – заводила, душа класса, всё вокруг тебя крутилось. Когда на переменах Додик Голощекин садился к фортепиано и начинал лабать буги-вуги, а ты – выделывать какие-то невероятные коленца, всё вокруг вспыхивало радостью!
СПИВАКОВ: Несмотря на возвышенные начала, мои школьные годы не обошлись без мальчишечьего хулиганства. Не со зла, а для потехи мы подкладывали на стул не самым любимым учителям самодельные «взрывпакеты». Делались они так – устанавливаешь вертикально патефонную иголку, потом прижимаешь и закрепляешь ее скатанным кусочком хлеба, а сверху – пистон. И, когда учитель садился, раздавался взрыв. Я тогда начал увлекаться химией, проводил дома опыты с пенициллином, который продавался в аптеках без всяких рецептов. Эмпирическим путем я определил, что если его – это же просто плесень – поджечь, он источает страшное зловоние. Я принес шесть таблеток в школу – и поджег их все сразу. В результате я сорвал шесть уроков, чего никому в нашей школе до меня еще не удавалось.